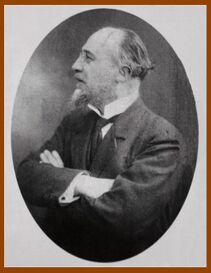Новые молодые (Эрик Сати. Лица)
На волне <парадного> скандала нужно было срочно ковать успех... — В противовес академическому, засохшему и опухшему Национальному музыкальному обществу (а равно и Независимому музыкальному обществу), всецело находившимся под пяткой Форе, Равеля и Шмитта, ещё во время войны, обходя запреты осадного положения, Сати попытался организовать «Концерты новых молодых» (Les concerts des Nouveaux Jeunes). — Именно тáк (словно бы в прямое возражение несносному Равелю) он назвал группу восторженных почитателей новой «парадной» (совсем непарадной) эстетики. Первый концерт «новой молодой» группы состоялся в Париже вскоре после премьеры (и прямо на гребне волны) «Парада», 6 июня 1917 года (со дня первого и единственного скандального спектакля не прошло ещё и месяца). В программе концерта значилась сюита из балета «Парад» Сати, фортепианное трио Орика, те самые «Колокола» Луи Дюрея и шесть очень уместных поэм Онеггера на стихи Аполлинера. После первого артистического успеха к группе присоединился ещё один вернувшийся с фронта поклонник Сати, Ролан-Манюэль. н
В последние два года этой войны..., несомненно, самой прекрасной в истории человечества, новым центром притяжения для артистической молодёжи в опустевшем Париже стал маленький театральный зал на Монпарнасе «Старая голубятня» (Вье-Коломбье), своеобразная суб’аренда по оказии..., во главе которой стояла певица Жанна Батори (вместе со своим мужем, Эмилем Энгелем). — Здесь было маленькое (и заранее маргинальное) место движения для застывшего искусства..., застывшего от войны, холода и старости. Здесь проходили вечера новой & авангардной поэзии, ставились первые пьесы начинающих драматургов и звучала музыка молодых (а равно, как видно, и «новых молодых») композиторов. — Именно театр «Старой голубятни», а также ещё один небольшой концертный зал на улице Югéн Эрик Сати смог превратить в «новый молодой» плацдарм для наступления радикальной композиторской группы, объединившейся под вывеской «Концерты новых молодых». Именно здесь и был замешан коктейль (пока без Кокто, между прочим) между будущими членами «Шестёрки»: Онеггером, Ориком, Тайефер, Дюреем и Пуленком. — И только один несчастный, Дариус Мийо пока оставался в стороне от собственного будущего. В это время он счáстливо (и в полном неведении) находился в Бразилии (на дипломатической службе у поэта & посла Поля Клоделя, благополучно спасаясь от военной службы и германского фронта).
на всякий случай напомню ещё раз (а затем и ещё раз, как известный ошкуриватель минимального минимализма), что в истерической, натур-философской и тавтологической ретро’спективе (оглядываясь на зад) тема «Новых молодых» как понятие, а также в разбивку, по отдельности или вкупе (в’ключая личное дело каждого из них, не исключая «тех, кого-не-было», скоропостижно скончавшихся или временно отсутствующих), ранее была разработана основным автором этого ханóграфа в таких фунда...ментальных (равно печатных и непечатных) работах как: «Воспоминания задним числом», «Ханон Парад Алле», «Малая аркёйская книга» и «Три Инвалида» (список неполный, как всегда). Но всё это, между прочим, имеет смысл, если оставить далеко за скобками (поставленными здесь исключительно ради наглядности) отдельное эссе 1917 года, которое должно было в сокращённом виде упасть сюда, ровно на то место, которое сейчас занимает его дряблый огрызок №79. Названия его я не привожу (из гигиенических соображений), но попутно замечу, что оно разработало тему сатиерических «Новых молодых» в таких фунда...ментальных масштабах, которые в убогих рамках господствующего этноса в целом соответствуют критериям диссертации или аналогичной колбасы (докторской, по меньшей мере). Последнее, как нетрудно догадаться, не имеет ни малейшего смысла (не говоря уже о значении). Мийо..., его плодовитость поистине поразительна. Это курьёзное изобретение природы. <...> и ещё раз напомню всем «одутловатым и просроченным», что это лирическое от(ст)уп(л)ение объявилось здесь, на этом месте отнюдь не ради красного словца: лицевые ханографические исследования о поздних (военных и послевоенных) годах Эрика Сати (включая в качестве начáла «Новых молодых», а затем «Шестёрку» и «Аркёйскую школу», само собой) на данный момент провели в режиме тлеющей публикации более десятка (пяти, двадцати, лишнее вычеркнуть) лет, пребывая в почти готовом для употребления состоянии (не пересоленные, не пересушенные и даже не пережаренные). Представляя собой классический пример хронически неопубликованной монографии (opus posthume) исполинского размера..., или же обычного redlink’а (красной ссылки) более чем с полусотни страниц ханóграфа, они долго и терпеливо ожидали, что в какой-то момент рвотный рефлекс у этого автора хотя бы немного притупится, а в окружающем мире появится хотя бы крошечный проблеск минимальной сдержанности, чтобы можно было кое-что (успеть) сказать об этом, несомненно, видном предмете натурально-философского сати’еведения. Поскольку... слишком уж уникален и необычен по подаче был этот материал..., чтобы пренебречь его возможным существованием. Словно бы ради красного словца можно было бы сказать, приподняв указательный палец кверху..., что в конце лета и осенью 1917 года Жак Ибер оказался — здесь, в театре «Старой голубятни», — в точности в своё время и на своём месте, заняв будущую вакансию Мийо в нескольких концертах «Новых молодых». — Actum est... Несмотря на всю свою внешнюю умо...зрительность, эта скромная & (не)притязательная спекуляция стала бы тем более наглядной, если дать себе труд взглянуть в программу ещё одного концерта группы, состоявшегося чуть позже, 15 января 1918 года (тó есть, уже после военно-морского отъезда Ибера). Во время очередного крещения будущей «Шестёрки», случившегося всё в том же театре «Старой голубятни», Жанна Батори исполнила кряду шесть небольших вокальных циклов (без седьмого, к сожалению): Онеггера, Тайефер, Орика, Дюрея, Пуленка и — Ролана-Манюэля (как следствие, занявшего пустующее «кресло» бразильца-Мийо). однако оставим пустые слова (они все пустые). Очередного чуда опять не случилось, и трамвай продолжил ехать по старым рельсам до линии горизонта... Постепенно нарастая, число небрежений и прочего мелочного свинства дошло до степени нетерпимой. И даже более того... В этом мире, полностью лишённом какого-либо признака умысла, не случилось ничего, даже отдалённо напоминающего про’свет. Скорее, напротив... И вот, allez..., дело кончено, — можете расписаться в вéдомости & получить на руки классический суррогат, залитый производственным формалином. Здесь и сейчас перед вами (выложен) очередной огрызок того, что вполне могло бы быть, но теперь не будет, исчезнув без возможности восстановления. На месте полно...ценного текста, который собирался здесь (и не только здесь) разместиться, осталось только дряблое напоминание. Напоминание о той системной вещи (нескольких вещах), которые имели отношение далеко... (и очень далеко) не только к так называемой музыке, концертам, школам или комозиторам, но, прежде всего, к человеческому миру в целом, — взятому как препарат — от подошвы до кончиков шляпы. Сказка навыворот: наподобие, скажем, того Альфонса, которого не было. Теперь он якобы есть, вопреки всему и всем. В отличие от всех прочих, которых не было и не будет... Но и только. (Продолжение не следует). — Это древнейшее искусство (причём, без уточнения: «какое именно») Эрик Сати унаследовал от своего старшего друга, приятеля, земляка и почти-учителя. Конечно, я опять имею в виду дядюшку-Альфонса, блаженной памяти велiкого фумиста и балагура. Ведь и он тоже (при жизни) предпочитал это древнейшее искусство (причём, без уточнения: «какое именно»). Назовём его, для начала, экви-либристикой, как будто «игрой слов». Пускай так. Не важно. Думаю, что даже сам Сати был бы не против. И даже — напротив. Пожалуй, максимального расцвета в его языке оно, это дымоватое искусство играть словами, достигло через год-другой после окончания Первой Паскудной Войны, в 1920-21 году. Именно тогда вокруг Сати образовалась среда молодых (или не очень) композиторов (или не совсем) под прозвищем «Les Nouveaux Jeunes», чуть позже (силой инерции & инертности переделанных в известную «Шестёрку») (но уже без участия Сати). И вот этих-то «Новых молодых» он «учил», а точнее говоря, пытался пóходя «освободить» (между главным делом своей жизни) из тесной запертости затхлого обывательского сознания. Так сказать, слегка приоткрыть крышку ... узкой и тёмной черепной коробки, чтобы впустить туда немного свежего воздуха. Совсем немного. Только маленькая скромная трепанация. На несколько секунд краткого времени. Потому что больше — всё равно невозможно. Если же (также вопреки всему) у кого-то из проходящих мимо ренегатов или апологетов появится отчётливо оформленное желание как-то инициировать, спровоцировать или подтолкнуть выкладку этого немало...важного генетического материала (если его ещё можно назвать «материалом»), никто не возбраняет обратиться, как всегда, → по известному адресу не...посредственно к (дважды) автору, пока он ещё остаётся где-то здесь, на расстоянии вытянутой руки (левой). Между тем..., я рекомендовал бы не тянуть известное животное (за хвост) и не откладывать (его) в чёрный ящик. Лавочка довольно скоро прикроется, а затем и совсем закроется..., причём, «бес’ права переписки». — И тогда... уже никаких «новых молодых» (кроме гастарбайтеров, вестимо). Только давно известные и авторитетные, а поверх них ещё «старые протухшие и просроченные», обычная жвачка третьего употребления (которую вы все и так имеете в неограниченном количестве). Луи Дюрею, лично в руки
| ||||||||||||