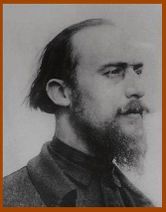Аркёй (Эрик Сати)
куда ж ты уда’лился... ...видимо, где-то здесь и находится таинственная обитель Госпожи Нищеты...[1] ( Эрик Сати )
Малая справочка... а Впрочем, оставим... (как говорил он же, и снова нехорошо усмехаясь),[4] потому что совсем не ради этого разговора я затеял извлечь из-под спуда небытия страницу маленького рабочего посёлка, типичного парижского рабочего предместья по фамилии Аркёй-Кашан. Ясное дело, речь здесь пойдёт о Сати..., точнее говоря, о полях его шляпы. А если говорить ещё точнее, то — о тех глубоко посторонних полях, которые и составили, в итоге, самое существо сначала предтечи, а затем и французского авангарда начала XX века (и не только по части музыкальной, само собой)...
И всё же, начну с малого..., как всегда — по нужде.
— Вот, пожалуй, и вся пунктирная линия, которую можно было бы начертить поперёк этой жизни, не слишком точной и понятной. Сначала смерть матери вернула Сати из Парижа в Онфлёр. Затем смерть бабушки отправила обратно в Париж. Наконец, началась длинная тропинка вниз. — Исключение из консерватории, совершеннолетие, попытка убежать от жизни в армию, попытка убежать от армии в больницу, возвращение в Париж, необходимость уйти прочь из дома отца и мачехи, чердак на рю Корто 6, бедность, почти нищета, тесная комната (почти шкаф, почти уборная, почти клозет) на первом этаже того же дома, великодушно предоставленная ему мсье Бибе («Bibet»), чрезвычайным и полномочным владельцем того же здания на рю Корто 6...[6] — Жильё в Париже слишком дорого. Даже очень маленькое. Даже крайне убогое. Почти Бибе...[1] За него нечем платить..., и к тому же совершенно не хочется это делать. Есть на свете тысяча дел, куда более приятных, важных и значительных, на которые можно потратить свои жалкие монеты. На что угодно, лишь бы не за шкаф... Но увы, с неумолимостью отрывного календаря, каждый месяц следует очередное бесконечно пошлое & трижды подлое требование: вынь да положь..., иначе — выселят. «Всюду Бибе, сплошное Бибе...» И ещё, и сверх того: каждые полгода очередное утомительное «Je retire»... снова и снова прочь отсюда. Изо всех мест, где только удавалось получить какую-то маленькую монетку. — Решительно все получали п...отставку. И унылый придурок-Пеладан со своими жреческими замашками, и Родольф Салис, вертевший делами фумистов около масонского кабаре «Чёрный кот», и лепший друг Мигель Утрилло с театром сплошных теней, и харчевня в Клу (на рю Трюден), где едва удалось добыть место второго тапёра, и «даже» Гранд Опера, ничтожный директор которой не только не согласился поставить трижды-невероятный балет «Успуд», но и умудрился попутно заслужить образцово-показной вызов — на дуэль чести..., — премьера которой, впрочем, тоже не состоялась.[1] Короче говоря, перечислять себе дороже... — Гнойный Париж решительно не принимал этого придурочного гения и ничтожного ученика, вечно пытавшегося сделать «всё не как полагается».[7] То ли криво, то ли наискосок, то ли наперекосяк, то ли задом наперёд..., но главным делом, что всякий раз принципиально не так, как принято у людей приличных и основательных: профессионалов, например. Будь то музыканты, или композиторы, или, на худой конец, вторые тапёры в какой-нибудь харчевне. Родившийся «слишком юным во времена слишком ветхие»,[3] определённо, он решительно не годился ни для чего путного. Типичный неудачник..., всего лишь неудачник — и дело с концом. — Не потому ли всё..., решительно всё, что он только ни затевал с величайшей осторожностью, тут же обрушивалось куда-то вниз, в глубокую пропасть — с таким же величайшим грохотом и лязгом, не оставляя ни малейшей надежды (на исправление).[1] Пожалуй, последним делом стал отъезд из Парижа — Конрада Сати, младшего брата (человека, как ни крути, всё же основательного и устойчивого: слава богу, инженер, не композитор какой-то!..) — куда-то на юг, в провинцию, где он получил неплохую должность на парфюмерном заводе.[комм. 3] И если до того момента Сати мог рассчитывать на помощь брата (в вопросах своего «Бибе»), то после отъезда отношения переместились в область эпистолярную, а ассигнования стали жиже и реже... Во всяком случае, регулярности заметно поубавилось..., а суммы стали меньше. Год от году Бибе всё рос и становился шире в плечах, а Сати, напротив, становится всё меньше и мельче. — И так продолжалось, пока «неудачнику» не стукнуло цельных тридцать два годочка..., не говоря уже обо всём остальном..., впридачу.
Аркёй, аркан, аркад( - ad marginem - )на каждом шагу угадывается таинственное место обитания совсем не парижской, по-настоящему низменной Дамы...[1] ( Эрик Сати, 1899 )
наконец, оставим пустые усилия. Не стану врать... Пожалуй, нет. Напрасно.
— Нет, нет, давайте, не будем напрасно клеветать или злословить..., этот (слишком) молодой музыкант-любитель (и всего-то тридцать два года), по какому-то недоразумению попавший во времена (слишком) старые, отнюдь не был бездомным клошаром. И всё же... Изнурённый постоянными неудачами, бедностью, почти нищетой и почти непосильной платой «бибе», которую он ежемесячно должен был вносить за своё жалкое жильё, крошечную комнатку, почти «шкаф» или «туалет» на нулевом этаже грязного доходного дома 6 рю Корто 6, наконец, он устал терпеть.[1] «Je retire»... При посредстве своего приятеля, поэта Анри Пакори,[комм. 5] между прочим, уроженца Аркёй-Кашана (этого бедного посёлка в предместьях Парижа), Сати договорился о найме комнаты, весьма просторной по размеру (особенно, по сравнению с его былым «шкафом»), ежемесячная плата за которую не шла ни в какое сравнение с граби(-бе)тельскими столичными ценами. Равным образом, ни в какое сравнение не шло и количество грязи (человеческого происхождения) в аркёйском воздухе, воде и на земле. Очевидным образом, оно значительно уступало парижским рекордам, равно как и число проживающих там людей... Эта просторная комната... (пожалуй, даже слишком просторная — после парижского шкафа), она находилась на втором (третьем) этаже громоздкого здания по адресу рю Коши 22, напоминавшего издали скорее барак или промышленный склад. У местных жителей этот ассиметричный дом заслужил прозвище «в четыре трубы», носившее, впрочем, совсем не музыкальный характер, поскольку имелись в виду не «вагнеровские тубы», но только дымоходы, через которые жильцы выпускали в небо дым и прочую копоть. Внизу, в полуподвальном помещении (прямо под окошком парижского композитора), с удобством располагалась винная лавка, где круглую неделю раздавалась весьма бодрая жизнь, а в субботу и воскресенье, сверх того, приходила музыка (в виде аккордеона) и начинались танцы. Из своего окна Сати мог видеть богатый коттедж, принадлежавший местному торговцу недвижимостью, а дальше, за домом виднелись деревья старого парка L’Ecole d’Arcueil...[комм. 7] К счастью, какофонии удалось благополучно избежать: в школе музыку, слава богу, не пре...(по)давали,[6] мальчики содержались отцами-доминиканцами в отменной строгости — в полном согласии с двадцатью известными канонами церкви (включая также три неизвестных). ...Винная лавка, воскресный аккордеон, торговец недвижимостью, доминиканские отцы и главное: этот чортов клошар, беззубый и зловонный парижский клошар... Нечего сказать: комплект получился зубо’дробительный. — Привыкнуть с первого разу к такому наперчённому, «намоленному» и пересоленному местечку..., нет..., это было решительно невозможно. Как я уже обмолвился, Сати нанял комнату в начале октября 1898 года (благо, братец прислал необходимую сумму на переезд), но переехать решился только двумя..., даже тремя месяцами позже. До того предстояло применить средства..., ради обеззараживания и против обезображивания. Приоткрыв в первый раз дверь комнаты, даже и дышать старался осторожно, чтобы случаем не заразиться этим..., как его..., в общем, нечистым духом старого клошара. Как-никак, приятель Верлена (о тысяче болезней которого было слишком хорошо известно: начиная от сифилиса и кончая язвами на ногах), называвший себя его секретарём... (и спасибо ещё, что не секретаршей). Он здесь жил, ходил, сидел, лежал... Стены, пол, окно, дверь, порог..., здесь всё, казалось, было покрыто отпечатками пальцев и плевками этого грязного человека. Грязного — как сам Париж... Или ещё грязнее. Видимо, так-то просто не удастся отделаться от этого городишки. Прежде всего, открыть настежь окно. Затем пойти вымыть руки..., ах жаль, негде. Тщательно вытереть платком. Не прикасаться к лицу... «Je retire»... — Короче говоря, первое знакомство с новым аркёйским жилищем получилось слегка скомканным. Совсем не то — на другой раз. Приехав рано утром с ведром, скребками, тряпками, мылом — тут же начал чистить, честить, мыть и драить, драить, драить, чтобы и духу этого Биби «Салиса» не осталось: ни на стенах, ни на окнах, ни на полу!.. Страшно вспомнить, сколько же тогда усилий пришлось приложить «композитору музыки», мучаясь крайней брезгливостью, сглатывая слюну и временами справляясь с подкатывающей тошнотой. Едва не полдня он провёл в своей новой комнате, пытаясь возможно полнее и глубже отскоблить, отмыть и отчистить жилище старого клошара от любых его отпечатков, следов и — запаха, пускай, даже воображаемого... ...Вот и я сегодня тоже здесь, в настоящий день, только для того, чтобы отполировать инкрустированный паркет в моей комнате карбонатной водой и смазать его чёрным мылом; после этой восхитительной работы, мне кажется, я даже встану на четвереньки и натру вышеупомянутый паркет воском, собственноручно...[1] Только так, как и всю свою жизнь..., мучительно пытаясь освободиться от наслоений прошлых людей. Людей прошлого... Шаг за шагом. Постепенно привыкая и отчищая..., день за днём, год за годом, слой за слоем — как архи’олог — своё новое место жизни, как оказалось, последнее. — Сначала на час. Затем — на полдня. Даже на весь день... Наконец, впервые решился переночевать на новом месте (до изумления искусанный местными комарами), не в силах закрыть окно. И всякий раз приносил с собой: в руках, в котомке, за плечами — жалкие кусочки, остатки прежней обстановки, парижские вещи... Вот так, почти три месяца Сати заставлял и не мог себя заставить переехать, чтобы научиться жить на чужом месте клошара (смешно сказать, парижского бездомного — в Аркёе)..., грязного человека из другого мира..., даже других миров.
— Это была третья..., третья и последняя комната Эрика Сати. — Чердак. Подвал. Аркёй. Он проживёт здесь двадцать семь лет, в последний раз закрыв за собой эту дверь уже совсем больным, в феврале 1925 года, за пять месяцев до своей маленькой смерти...[9] Впрочем, «переехать» — это громко сказано. На самом деле нельзя сказать, чтобы Сати в полной мере жил в свей ново’обретённой комнате... Но особенно не так это было в первые аркёйские годы, — когда мучительный поиск дела, места и приложения сил занимал почти всё время, снова и снова выгоняя туда, к людям «искусства». Почти все вечера и ночи «композитора музыки» проходили в разовых заработках и необязательном фланировании, — как правило, возвращаясь с Монмартра ранним утром, чтобы выспаться днём и к вечеру сызнова отправиться — туда, в прежний постылый Париж. Как всегда, к знакомым липким клавишам..., с очередным аккомпанементом в очередном кафе-шантане. «Je retire»... Первое время было особенно тяжело: едва ли не целыми месяцами Сати шатался по Монмартру со своим новым приятелем Жюлем Депаки в поисках местечка, куда можно было бы пристроить какую-нибудь совместную работку. Впрочем, и работки-то никакой толком не было, соавторы всё спорили, толкались и никак не могли прийти к чему-то определённому. — Между такими-то занятиями весной 1899 года Сати сочинил прекрасную про’странную пьеску «Джек-из-ящика» (Jack-in-the-box) для музыкального сопровождения пантомимы Депаки в Comedie Parisienne. — Спустя четверть века, уже после смерти Сати эти славные нотки были найдены среди залежей бумаг в его аркёйской комнате — попросту упавшими за пианино. Парижские неудачи, впрочем, никак не хотели кончаться. Воз сена по-прежнему не сдвигался с места. Потихоньку донашивая сорочки и старые штаны, оставленные в его гардеробе отъехавшим младшим братцем, Эрик мечтал о чёрном шерстяном пальто... и приговаривал так, между прочим: «...Панталоны оставляют меня безутешным, всякий раз сталкивая лицом к лицу со злыми людьми этого мира...»[6] Оставалось довольствоваться хотя бы тем, что есть и надеяться на помощь всё того же брата..., который становился с каждым месяцем всё дальше и дальше, с удивительным постоянством рекомендуя аркёйскому композитору «не впадать в уныние», «не жаловаться на своё положение» и (что было, пожалуй, самое неприятное) надеяться на «добрую помощь господа». В нескольких своих письмах начала 1899 года Сати пытался честно продемонстрировать своему мудрому брату (несомненно, инженеру человеческой души) своё послушание & рвение в исполнении братских заповедей... ...Поверишь ли, я ужасно доволен, что нахожусь теперь в Аркёе. Я не забываю ни на минуту, что обязан этим тебе и только тебе, мой дорогóй. Это ты вырвал меня из цепких лап Парижа и поместил сюда,[комм. 8] где прозрачный воздух и масса чистейших комаров! И ещё — окружающие, они такие Милые и Прямые..., когда чем-то обрадованы — радуются как ненормальные, а когда опечалены — плачут как животные или дети. Скажу честно, меня это искренне волнует, и даже становится приятно где-то под ложечкой. Знаешь, я хожу между ними, как бледный и красивый волк, этакий добряк, аристократ из Парижа в их провинциальной деревне Комарово, хотя и довольно дурно одетый, но всё же совершенно потасканный знаток человеческой ослятины... ...Впрочем, на этот отъезд..., почти бегство из Парижа можно было посмотреть и совсем иначе... Например, глазами самого Эрика... — Старое «Аббатство 6, рю Корто 6», первое парижское жилище..., — первое, едва покинув дом отца. Место и время сплошных неудач. Опускания вниз, почти падения. «...я тоскую до слёз: всё..., решительно всё, за что бы я ни принимался с величайшей осторожностью, тут же проваливается с неслыханной дерзостью»... Сначала чердак Бибе, затем его шкаф, маленький как уборная, почти туалет... В конце концов, мне до смерти надоело постоянно находиться здесь, рядом. Это было крайне неприятно, а временами даже отвратительно. Прочь отсюда... Пускай никто не сможет видеть, кто я такой и где я живу. «Je retire»... раз и навсегда. «Довольно чепухи! — я удаляюсь». Вот и всё, что я сказал..., в последнее время.
После Парижа, насквозь грязного, вонючего и чужого, здесь показалось удивительно чисто и честно. Этот чортов Аркёй имел вид восхитительно замызганного, бедного предместья со старыми домами, одной фабрикой и почти деревенским на...селением. Возвращаясь по ночам или под утро пешком от щедрот благо’вонного Монмартра, я втихомолку держал в кармане молоток — между прочим, могу рекомендовать: очень даже неплохое оружие для обороны от всяческих крупных животных & мелких неожиданностей путешествия. Однако как-то ненароком вышло так, что за все четверть века пустопорожних прогулок мне так ни разу и не случилось применить его, по назначению, опустив на чью-то лысую голову. Только изредка, для разнообразия — в качестве музыкального инструмента... на местных трубах: газовых, водосточных, водяных или воз...душных. Поселился я в самом центре окраины этого Аркёя. Косой доходный дом под народным именем «четыре трубы» удерживал за собой красивый номер 22 по улице Коши, что тоже имело вид совсем не дурной. Это скоромное «Коши» меня даже примирило кое с чем, на первое время. После парижского трижды душного и спёртого шкафа, комната бывшего секретаря бывшего Верлена показалась мне просто громадной. Даже на первый взгляд в ней можно было разбежаться и прыгать из открытого окна — прямо туда, в местное болото, над которым возвышалось Его Величество Акведук. Отличная идея!.. Возвыситься и прыгнуть вниз! Пожалуй, здесь есть чему поучиться... И всё-таки ещё предстояла большая работа: отделить себя от прочих людей. <...> Для начала я убедил себя, что можно не открывать дверь. Никогда... Даже когда стучат. Или барабанят изо всех сил. Тем более не открывать. — Затем, обнаружив в один прекрасный день, что некий одутловатый тип из болотного коттеджа (что торчал напротив) от нечего делать наблюдает за мной в морской бинокль, я перестал открывать занавески, вернее говоря, свои прекрасные драные тряпки, игравшие роль штор..., или кулис. Тысячи местных ангелов-комаров убедили меня, что и окно тоже было бы лучше не открывать. — И так, пятясь шаг за шагом, я постепенно выработал стиль, новый стиль..., свой собственный стиль..., — я имею в виду музыку, конечно. И комната моя..., оставалась моей и только моей. Только одна нога (тоже моя) переступала её порог. Сначала неделями. Затем месяцами и годами. В неё был закрыт доступ людям..., всем людям..., и даже тем, кто (искренне заблуждаясь, вероятно) называл себя людьми. В течение почти тридцати лет (пока я оставался жив..., хотя бы немного)[комм. 9] одни только бродячие собаки бывали допущены в (мою) аркёйскую комнату.[12] Да и то..., по особому пропуску — с личной подписью и печатью велiкого Парсье.[комм. 10] <...> Прямо под моим окном, где-то в подвале дома находилась, пожалуй, главнейшая местная достопримечательность — винная лавка, так что по субботам и воскресеньям лучше было бы и совсем поза’быть о покое..., добровольно оставшись ночевать где-то в местных кустах или на мостовой Монмартра. Суковатый деревенский аккордеон и такие же танцы были обеспечены от Подземелья — и до Крыши включительно.[1] ...Сати был моим дрýгом. Он был похож на свои портреты. Он имел лицо смеющегося сатира и всегда кому-то досаждал... Он прикрывал рот рукой, загадочно посмеиваясь в кулак, носил тугие накладные воротнички, он редко ел и возвращался в Аркёй пешком, по ночам. У него был большой здравый смысл, как у всех гениев, рассудительность, хладнокровие и громадный запас юмористических определений...[12] — Но впрочем..., не довольно ли пустых слов... о высоком и вечном. Не настала ли пора, наконец, при’открыть рот — и при’знаться..., хотя бы самому себе, хотя бы немного. Совсем чуть-чуть. Год за годом, сколько верёвочка ни вейся, но в итоге, так случилось..., петля затянулась, Париж со мной справился. Эта чистейшей воды клоака, изысканно вонючий город (в прямом смысле слова) сначала убил мою мать и сестру, затем наскоро изуродовал меня (на всю жизнь) и спустя ещё тридцать лет, наконец-то, с облегчением — выплюнул вон, хорошенько поддав под зад... на прощание. «Je retire»... — Или, может быть, не так драматично: он просто удалил меня прочь, вывез куда подальше... вместе со всем прочим человеческим мусором. Моя собственная помойка..., пардон, я хотел сказать: пубель,[комм. 11] как выяснилось только в 1898 году, находилась в маленьком рабочем посёлке Аркёй, будто бы совсем неподалёку от Парижа. (Очень рад услышать об этом сегодня от самого себя — впервые). Однако вслед за тем пришло время спохватиться и сказать, что это конечно же чистейшая неправда. Потому что я был не первым в этой очереди. Мой брат-Конрад покинул Париж на целых три месяца раньше меня. Правда, он уехал не в Аркёй, но значительно дальше и теплее — в Канны..., я думаю, это милое направление сильно украсило их обоих. Конрад, в отличие от меня, был очень разумным и рассудительным человеком, всё же — инженер, не тапёр какой-нибудь. А потому, не слишком задумываясь, он сказал мне очень много вполне здравых вещей — и уехал прочь, в Канны..., — зарабатывать деньги (на каком-то сугубо парфюмерном заводе). После этого, сколько я припоминаю, от него всё время пахло... совсем не так, как от меня..., и чем дальше – тем больше! ...Всё стало уже не так забавно; со своей стороны я чувствую, что на мой хлипкий хребет этот груз будет, пожалуй, уж слишком тяжёл: изнеможение от голода и пустая мошна, похоже, не могут мне доставить больше никакого удовлетворения. Кажется, я их исчерпал..., или себя?.. — Ах, если бы кто-то, обладающий не’дюжинной фантазией, мог себе представить, какая же это невероятная, фантастическая мерзость..., оказаться по случаю композитором..., да ещё на такой продолжительный срок, почти пожизненный. Вот, к примеру, клошар..., совсем другое дело: профессия несравненно более доходная и, к тому же, почётная (на мой вкус, конечно). К тому же, круглые дни на людях, на публике, на свежем воздухе... Подумать только, всего один шаг. Не в ту сторону...
— И дёрнул же меня какой-то чорт (лысый, вероятно) поменять место жительства, род (занятий) и (страшно представить!) даже — имя!.. Глубоко ошибочное решение, и к тому же — позорное, трижды позорное. История ошибок молодости слишком жива у меня перед глазами. — Сразу же после этого события жизнь моя резко переменилась, вернее говоря: испортилась. Более того, она сделалась для меня невыносимой..., настолько невыносимой, что я решил поспешно вернуться в свои пенаты, чтобы проводить там круглые дни в пятигранной башне из слоновой кости... или, на крайний случай, из каких-нибудь иных костей (пускай даже и человеческих), на худой конец... Таким образом, судьба моя была решена: я снова пожелал стать аркёйским клошаром..., только теперь под именем Эрик..., не Биби... И тут у меня словно бы открылись глаза. Заново. Будто впервые я почувствовал вкус к чёрной мизантропии... до посинения; затем я стал всеми силами развивать в себе дряблую ипохондрию; и в результате очень скоро превратился в самого отвратительного и безнадёжного меланхолика: до предела вялого и неприглядного, тупого и заскорузлого. Короче говоря, я (тот, каким меня теперь все знают) сделался до предела мерзок и абсолютно непригоден для какого бы то ни было употребления. — Но... даже и на этом достижении я не остановился, продолжая продвигаться всё дальше и дальше вверх по указанному пути. «Je retire»... Ступенька за ступенькой, очень скоро я достиг такого состояния, что мне стало попросту противно..., смотреть на их лица и весь мир людей... даже через платиновое пенсне, сделанное из чистейшего золота. Да... — Можете себе представить..., всё это произошло со мной только из-за Музыки. Нелепое искусство принесло мне значительно больше зла, чем добра. Да... Ведь это оно, в конце концов, рассорило меня с большим числом людей в высшей степени достойных, очень воспитанных, более чем выдающихся и очень правильных..., в отличие от меня, разумеется...,[1] и в конце концов, заставило убраться вон..., чтобы меня больше никто..., никогда не видел...[комм. 12] ...О мой велiкий Плюшкин, возьми свой острый нож, вот грудь моя! Бей без промаха! Мне были предложены труды величайшей низости (аккомпанемент в шантане) и я, гадина этакая, представь, не отринул от лица своего с выражением омерзения – а согласился, каюсь, (известно ради чего). Какой позор, я растратил лучшие времена своей жизни, но зато я заработал немного жалких денег в этой коммерции, поистине бесславной. Забавно сопоставить. Приятно сравнить...
«...я совершенно естественно приметил этого солидного бодрячка, одетого в бархат и всегда при трости. Поначалу я принял его за художника. Два или три раза, возвращаясь из Парижа, мы ехали в одном купе. Он вытаскивал табак из кисета, сворачивал из бумаги очень большую сигарету или курил глиняную трубку, которую держал в руках с бесконечной осторожностью. Казалось, он был мало склонен к беседе, так что мы ни разу не обменялись даже словом. В конце 1899 или, скорее в 1900 году, однажды вечером мы с несколькими друзьями разговорились на тротуаре посреди рю Коши. Сати, уж не помню как, вмешался в нашу беседу. Я не помню тему, которая нас занимала в тот вечер, но я помню, что он ополчился против религии и церковников, которых называл «les vobiscum», религиозных служб, которых он считал «vobisconneries» и, наконец, против армии и офицеров, которых он называл «офицензоры». Его обвинения, наполовину серьёзные, наполовину юмористические, меня немало позабавили».[16] По пунктам, исключительно по пунктам... Желательно, столбиком. С датами, именами, адресами и даже источниками... — Не стану скрывать. Скажу прямо: да, я знаю..., многие любят такой способ организации материала, причём, любого. Невзирая на его качество, консистенцию и запах. Меня же от него, прямо скажем, тошнит...[17]
Разумеется, в подобном подходе нет ничего невозможного..., кроме вящего убожества. Без малейшего напряжения, тихо и плавно... Иногда опираясь на зонтик (вместо трости). Иногда — слегка пошатываясь (от количества выпитого и несъеденного). Всё так, всё так... Аркёйские двадцать шесть лет Эрика Сати..., совершая известные ритуальные действия исключительно ради порядка, можно разбить на шесть условных частей. Понуждаемый исключительно бедностью (даже нищетой, с позволения сказать), жёстко маргинальным положением и желанием хоть как-то сыскать своё место среди хозяйничавших вокруг кланов, — трижды за свою жизнь Сати, совершенно вытесненный на обочину, оказывался — наедине с этим маленьким городком и своей жизнью в нём. «Je retire»... Впервые это произошло в 1908 году, когда Париж и в самом деле отошёл на второй план, внезапно превратившись — в дальний пригород Аркёя, не более того. А сам Сати, почти перестав бывать в своих старых местах, едва ли не на три года сделался — изрядным муниципальным активистом, чтобы не сказать: почти служащим. Кажется, это были первые годы, когда он не так сильно нуждался в деньгах. Ещё парочка похожих (отхожих) лет случилась во время войны. — Сначала партия и правительство ввели военное положение, напрочь запретив любую артистическую деятельность (кроме цирка), а затем Париж — окончательно опустел (и почти запустел), поначалу став целью обстрелов и бомбардировок, а затем — и вовсе сделавшись (почти) линией фронта. 1. (я сказал)... — Всюду ad, всюду сплошной ad без просвета и края..., и вдобавок, ad marginem, всюду сплошной ad marginem, беспросветный и по краю их жизни, чем дальше, тем тише. Словно войлок на стенах. Словно мох на старых камнях аркёйского акведука. — На обочине Парижа, на обочине музыки. И кажется, никак не прошибить лысеющим лбом эту несокрушимую кирпичную стену... «...я тоскую до слёз: всё..., решительно всё, за что бы я ни принимался с величайшей осторожностью, тут же проваливается с неслыханной дерзостью...»
Никто не принимает этого полу’сумасшедшего дилетанта..., и никто не принимает его всерьёз. И всюду он чужой... Аркёй — обочина Парижа. Кафешантан — обочина музыки. Вечный недотёпа. Вечный тюфяк. И даже удержать за собой место аккомпаниатора милейшего старины-Испа не удаётся... Что за странный аккомпаниатор. То напьётся до изумления (и аккомпанирует под роялем), то опоздает часа на два или перепутает, куда идти на концерт (в харчевню или трактир)... Увы, даже у клавиатуры — полнейшая проф.непригодность. При всём расположении, даже добряк Испа не мог терпеть такого волынщика. Правда, презренные кафешантанные песенки и куплеты собственного сочинения — очень даже пользовались успехом. «Je te veux», «Tendrement», «Poudre d’Or»... Иначе как «жуткая гадость» или «страшная мерзятина» Сати не называл свои коммерческие поделки. Но увы, деваться от собственной «обочины» было некуда, решительно некуда. «Je retire»... Именно она, пресловутая «пакость и дрянь» — почти на десять лет — составила основную (нет, всё же не единственную) струйку серебряных и медных монеток для мало-мальски сносного аркёйского существования. Заплатить за комнату, выпить стакан вина, затем другой, третий... Даже в легендарной винной лавке (что под окном) в долг отпускали — отнюдь не до бесконечности. Как в старом (пошлом) анекдоте, всё равно приходилось платить. И никого не интересуют твои — внутренние — драмы. Гони монету — и можешь быть счастлив. Ну..., хотя бы и за счёт «жуткой гадости»..., делать нечего, если ни за что больше не платят. — Страшно сказать, пределом мечтаний первых аркёйских лет стала Полетт Дарти, знаменитая эстрадная дива тех лет.[комм. 13] К ней Сати долго искал пути, чтобы подъехать, показать и пристроить свои кафешантанные «мерзости»... Наконец, после двух лет попыток, у него это дело получилось. А затем..., затем всё как по писанному: его песенки имели успех... и в конце концов, они (он и Полетт) стали добрыми друзьями... на долгие годы. — Дивное, жалкое аркёйское счастье. Всюду ad, всюду сплошной ad..., и всюду, вдобавок, ad marginem. На обочине Парижа, на обочине музыки. И кажется, никак не прошибить лысеющим лбом эту несокрушимую кирпичную стену... «...я тоскую до слёз: всё..., решительно всё, за что бы я ни принимался с величайшей осторожностью, тут же проваливается с неслыханной дерзостью...»
...Когда я иду через лес, полный щебетания птиц, и когда я вижу большое дерево, шелестящее листвой, я приближаюсь, обнимаю сколько смогу его ствол и думаю тем временем: что за дивный добряк, по крайней мере, он никогда не причинял никому зла!..[19] Именно в такой, низкой и гадостной среде прошли первые пять лет нового (аркёйского) века. Далеко за границами клана музыкантов, упорно не желавшего видеть, слышать, знать... Ничто мало-мальски серьёзное по-прежнему — не удавалось. И даже — оперетку, самую жалкую «любительскую» оперетку, (вот тоже сказать: манна небесная!.., позорная) которую Эрику, было, почти «заказали», — так и не удалось продавить, протащить и протянуть сквозь эти бесконечные театральные интриги, споры и ссоры. В конце концов, Сати почти поверил им всем..., не желавшим принимать его..., и едва ли не окончательно убедил самого себя, что (как оказывается) у него «нет своего голоса». Или он «слишком слаб». Поселившись в Аркёе, в этой «таинственной обители Госпожи Нищеты»,[20] да ещё и в бывшей комнате парижского бомжа, — он (из чисто филантропических соображений, разумеется) сообщал всем интере-сующимся, добрым обывателям и соседям покойного, что по роду занятий является композитором... варьете. Вот так, просто и со вкусом, видимо, чтобы никого не шокировать своим... величием и не вызывать дополнительных разговоров. И в самом деле, дивная выдумка. — Как-никак, Сам мсье Парсье, в недавнем прошлом, наместник Бога на земле и глава Всемирной церкви искусств Иисуса Водителя... Типичная оперетта. Если не хуже того: кафешантан..., чтобы не сказать — Мулен Руж или даже Фоли-Берже..., напоследок, словно бы закрывая крышку гроба. Как говорится, докатились, приятель. Дальше только — смертельный автограф или пустота...[3] в комплекте с любимой болезнью Верлена и Борделя.
А в довершение всего, пришла ещё одна беда: для начала отъехавший в Канны брат Конрад внезапно вздумал... жениться. Эта оказия случилась с ним — в 1901 году, точно посередине первого срока. Поступок, прямо скажем, крайне неприятный и даже подлый (особенно если учесть, что прежде он наотрез отрицал даже малейшую возможность подобного поворота дел). «Je retire»... — Разумеется, последствия не замедлили сказаться: тонкий ручеёк монеток от него стал ещё тоньше..., и не в последнюю очередь — под влиянием молодой (и не менее прекрасной) жены. Само собой, в «комментариях» подобное влияние не нуждается..., только во вложениях.
1. (я снова сказал)... — И сколько раз, наблюдая за собой словно бы издалека, я говорил себе: «послушай, ведь ты же провинциал, — ты же старый, добрый провинциал, Эрик... Альфред-Лесли... Чего же тебе ещё надобно, маленький (не)скромный старик (лысый от рождения только из приличия)...[14] Ты зачем-то припёрся сюда, в грязную суетливую столицу, в этот громадный остро пахнущий свежим дерьмом муравейник из своего маленького рыбачьего посёлка на самом краю земли. — Да. Буквально говоря, на краю, там, где дальше земли нет... Она кончается, чтобы уступить место чему-то другому. И ты зачем-то привёз, притащил его сюда, вместе с собой, как ярмо на своём загривке, ты не смог его бросить там, на границе земли и воды... И вот теперь, разгуливая взад-вперёд по чужому Парижу в своём вельветовом рыцарском шлеме, ты продолжаешь повсюду носить с собой свой маленький старый Онфлёрчик вместе с его трижды проклятым католическим собором..., где тебе пришлось (при большом стечении народа) трижды отречься от ещё не остывшего тела англиканской матери. — Своей собственной матери, между прочим. Родной... И ты до сих пор напрасно бьёшься один... здесь, против этого огромного вспученного города — отлично зная, что силы слишком не равны, да ведь ты всего лишь маленькая муха, навозная муха на громадной куче дерьма, — слушай, Эрик, ты ведь совсем чужой ему и он, в конце концов, всё равно выплюнет тебя к чорту, — к чорту!.., вместе с твоим хвалёным Онфлёром и дыркой от бублика, — как бы ты ни пытался уцепиться зубами за его чёрную лоснящуюся фалду: «ты всё пустое говоришь: протянет шиш тебе Париж». ...до сих пор я помню..., хотя и смутно помню, очень уж давно это было. Какой-то совсем не молодой, потасканный и дурно побритый человек (кажется, его звали Моисеем или Мишелем)..., так ведь он цельных сорок лет водил за собой маленьких евреев по какой-то загаженной пустыне, прежде чем они перестали быть египетскими мухами и смогли превратиться в настоящих... сионских червей. Да ведь и мне здесь тоже было чем гордиться!.., как говорится, не без достижений: хоть и один, совсем один, но я справился с этой задачей значительно быстрее. Лет двадцать я бес...цельно бродил туда-сюда по Парижу, и водил за собой весь свой маленький Онфлёр вместе с его онфлёрцами..., кособокими и вечно хромыми на́ голову. Признаться, этого путешествия мне вполне хватило — по самое верхнее горло. Тогда я сказал себе: достаточно! – и удалился прочь отсюда..., в Аркёй. «Je retire»..., не так ли, опять «Je retire»: мой главный bon mot — на всю жизнь. Всё что угодно, лишь бы — не здесь и не сейчас...[комм. 14] Аркёй?.., отлично! Пускай будет Аркёй..., мне решительно всё равно. Но на поверку это оказался — ещё один маленький местный Онфлёр, только значительно ближе, всего-то в десятке километров от границ (Парижа). Оттолкнувшись от земли ногами, в любой момент можно было дойти пешком до того большого дурного муравейника, который меня выплюнул, всё-таки выплюнул. — Так случилось. Тридцати двух лет от роду я снова вернулся в свою начальную натальную провинцию, но только будучи уже почти чужим — и для неё, и для Парижа. Для всех... — Если говорить по существу, с этого момента я исчез, растворился, пропал... Вероятно, меня искала полиция, сыщики и судебные исполнители, но всё напрасно... Какая, к чорту, полиция!.., она сама себя не может найти. Тем более, что я отлично замаскировался: теперь меня не было нигде — ни в Париже, ни в Онфлёре. Приняв вид какого-то ничтожества, почти идиота, «композитора варьете», я совсем потерялся и утонул..., в маленьком пригородном посёлке..., за двумя перелесками, тремя полями и одним болотом впридачу. И всё же..., он смог сделать своё прекрасное чёрно-белое дело. Этот Аркёй, наконец, примирил меня с большой грязной столицей. Как оказалось, теперь мне были доступны сразу два стула..., я приходил в Париж невесть откуда, всякий раз оставаясь слегка непричастным или хотя бы — имея такой вид. Благодаря Аркёю, я мог уже не быть парижанином и не выдавать себя за «своего» (вот непосильная задача!), я просто посещал Большой Город, когда мне было угодно, словно нищий или король, я наносил визиты и ему, и его людям. Это было уже совсем не так обременительно. Отныне я мог с полным спокойствием (как чужой, пришлый и незнакомый) — не стучаться к ним в дома, не проситься на ночлег и даже не препираться с ними. Чудная свобода: в любой момент уходить и в любой момент возвращаться... Это было неплохое решение, особенно если иметь в виду мой верный камень — и молоток. Камень постоянно прятался (за пазухой), а молоток, само собой — ждал своей очереди чуть ниже, в кармане.
Крайняя степень тщеславия! Стыдно сознаться, страшно сказать..., но на почве постоянных неудач и хронического безденежья на грани нищеты у меня начались — аркёйские годы. Их было — три..., или что-то около того. Собрав все свои вещи (как тогда), я почти совсем переехал туда, ещё раз. И удивительное дело: я даже начал там жить..., — там, где раньше только ночевал, да и то — не всякий день. И не просто так «жить», а совершенно по-настоящему зажил там, среди них, среди этих бравых аркёйцев, как деревенская баба с ведром и коромыслом. Или напротив, поселковый мужик в котелке и с жирным золотым пенсне на лбу...
В общем, короче говоря, попробую изложить суть дела..., — она состояла только в том, что я, страшно сказать, почти сделался почти чиновником. И хотя это полная неправда и ерунда, однако, нечто основное, из-под кожи здесь сказано точно, буквально в одном слове. Так было... — Ещё раз, опять против течения, я попытался сменить шкуру. Пожить какой-то насквозь чужой, почти нормальной жизнью среди этих людей, раз уж – «там» у меня ничего толком не клеится. — Ну и значит, к чёрту их вечно опухший Париж, в третий раз к чёрту! Да здравствует прекрасное отсутствие!.. «Je retire»..., как всегда. А про Большой Город я теперь даже и слышать не хочу. — Там у них всякий день процветает какой-то свинский бардак и чепуха, а во главе всей камарильи расселся, широко расставив лапы, мой «лепший дружок», — трижды неблагодарный Дебюсси, ставший теперь примерным буржуа (и мужем финансово-промышленной жены) на улице Булонского леса: год от года всё больше глупеющий и вальяжно распухающий на глазах. — Пожалуй, это был уже край. Если даже не более того: край края. Высшая точка отверженности... — Когда предаёт, отвергает и выталкивает взашей не только большой Париж, «облый, озорный и стозевный»,[24] не только засушенная музыкальная Академия или засохшая Консерватория, но и единственный на много лет драгоценный друг..., и не кто-нибудь иной как сам Клод-французский, соль и сироп современного искусства... — это будет уже, пожалуй, с лишком. Вот тебе и весь твой «Аркёй», брат-Эрик. «Je retire»..., снова и снова. Десять раз вытолкнутый вон..., не объявить ли тебе, наконец, свою дальнюю обочину центром мира и не начать ли там жить... по-настоящему?.. — О-о-о, это чудное местечко, разделённое надвое акведуком, словно росчерком пера..., в конце концов, ведь здесь имеется много чего интересного, например: деревья, кусты на берегу шикарного болота... и огромное количество крошечных ангелов-масонов, вылетающих оттуда, чтобы сосать кровь христианских младенцев... А ещё здесь есть громадное число прекрасных, доселе невиданных людей, благодаря которым на место основательно приевшихся придурков Сен-Санса и Паладиля всегда можно найти замену в виде компании совершенных булочников, маляров или виноторговцев, вроде Дуо, Вейсьера, Тонара, Дюрана, Тамплие, Эрманна, Кузена и Понсэна, не исключая даже самого́ доктора Распая, мсье Блядьё и мадам Жанг...
Быть укушенным обезьяной — далеко не так приятно, ...ради вящей наглядности не трудно совершить небольшую калькуляцию, мне кажется... Сати обосновался в Аркёй-Кашане на рю Коши в конце 1898 года (чтобы не сказать: в начале 1899). Всего тремя годами позже мы находим в его тетрадях некие особо ценные записки, в которых перечисляется, между прочим, и персональный состав пожарной охраны Аркёй-Кашана...[12] Несомненно, эти люди несли в себе какой-то нетривиальный смысл для Эрика..., этого типического провинциального жителя..., уж раз он решил оставить для себя (ради воспоминаний страдающего амнезией, не так ли?) их нетленные имена, начиная от главного брандмейстера и кончая (не)последним капралом... — В конце концов, ведь не на музыку же он собирался положить их должности вкупе с паспортными данными?.. Что за странный интерес к будням маленького посёлка..., пускай даже и своего собственного, где имеешь (не)удовольствие ночевать... — Можно сказать: «в отличие от большинства парижских интеллектуалов»... — и тут же промахнуться пальцем мимо нёба, поскольку нисколько не отличие, но чистейший реванш за всё (чтобы не сказать: компенсация за изъян) лежал в основании таких слов... Как всегда, «Je retire», — мадам..., мсье..., прошу понимать меня правильно. — А потому сразу же (и наперёд) поправлюсь: буквально в пику большинству парижских «интеллектуалов» Сати весь остаток своей жизни бравировал, демонстрируя необходимость глубоких контактов художника с иной средой..., не только чужой, но и — чуждой, а временами даже враждебной ему. Рассеянно поглядывая из полутёмного окна очередного бистро на фланирующую мимо жизнь парижских прохожих, не сам ли Сати однажды ночью сказал Фернану Леже: «Послушай, разве ты знавал раньше таких типов как этот? Да, или вот такого... погляди-ка на него внимательно...[комм. 15] Увы!.., только во время войны! — Тогда понадобилась война, целая война, чтобы ты их узнал! Почему же мы их обычно не видим? Они замечательны, и это знание могло бы нас отчасти изменить...» [27]
Но представим себе, наконец, будто бы всё это было всерьёз..., словно на самом деле. Во всяком случае, все они, живущие одновременно с ним (как всегда, слишком молодым во времена слишком старые) имели вполне такой вид..., а подавляющее большинство из них, наподобие мсье Тамплие (а также его сына и внука) — так и вовсе не имели ни малейших сомнений в этих вопросах. Как он изволил выразиться спустя четверть века, «в Аркёе сложился кружок друзей, которые уговорили Сати вступить в местный комитет радикал-социалистической партии Франции»...[6] Выглядит очень трогательно..., для начала. — Пьер-Александр Тамплие (называвший себя Александром), человек из семьи вполне состоятельной и благополучной, по профессии и роду занятий был дипломированным архитектором. Однако его общение с Сати касалось совсем других предметов, значительно более возвышенных, нежели какие-то стройки или постройки. Председатель местной (Аркёй-Кашанской) ячейки французской радикал-социалистической партии, Александр Тамплие основал и руководил печатным органом этого комитета, газетой со звонким названием «Будущность Аркёй-Кашана». Мы знаем, как Сати ценил хорошее заглавие (bon mot, не так ли)..., само собой, было бы крайне тяжело удержаться от искушения публиковаться (пускай даже анонимно) в таком шикарном печатном органе..., — тем более, что речь шла о занятной (и главное!.. — платной) рубрике рекламных объявлений, отчасти гаерских или почти издевательских. Кроме того, Сати был отнюдь не чужд партийным делам: в первую голову Александр Тамплие предложил ему (как человеку идейно-близкому) записаться в радикальную партию: несмотря на своё имя, слегка угрожающее, эта политическая сила была не только легальной, но и почти «правящей» (в Аркёй-Кашане уж точно). — Первый свой партийный билет радикал-социалиста Эрик Сати получил — в 1908 году.[9] Впрочем, партия не слишком-то хорошо знала, что́ за новый член вошёл в её ряды. На первых порах Сати, видимо, чтобы не нарушать покоя аркёйцев (прежде всего, своего, конечно), представлялся в заранее облегчённом, удобопонимаемом амплуа «композитора варьете»..., — собственно, таковым его здесь и считали.[комм. 16] Спустя несколько лет Александр Тамплие обнаружил себя крайне удивлённым на книжном развале у парижского старьёвщика (букиниста) на набережной Сены. Рассеянно перелистывая брошюру, посвящённую эзотерической драме Жюля Буа, внезапно, среди всего прочего, там обнаружили себя (в качестве приложения) ноты «Prélude de la Porte héroïque du ciel» некоего Эрика Сати — даже на первый взгляд, совсем «не варьете». — Спустя годы, Сати в императивном порядке будет вносить имя Александра Тамплие (с супругой, две контрамарки) в список приглашённых на свои главные спектакли, первым делом: «Парад» и «Relâche».[комм. 17] Буйно помешанный Как утверждает первая биографическая книга под интригующим названием «Эрик Сати»,[6] её главный герой не пропускал «ни одного» партийного собрания местной ячейки радикально-социалистической партии. Следуя своему обычному правилу, он присаживался где-то в стороне или в уголке и курил, втихомолку наблюдая за выступающими ораторами. К слову сказать, именно там (на партийных собраниях) и родилась идея «местного патронажа» (или светского опекунства), принципиально не-религиозной (и даже радикал-социалистичной, отчасти) благотворительной организации, занимающейся дополнительным образованием и воспитанием аркёйских детей. На обсуждение и решение организационных вопросов ушло несколько месяцев. Наконец, в ноябре 1908 года был основан (чисто, между нами) местный патронаж Аркёй-Кашана, презентация и первое открытое собрание которого состоялось спустя месяц, 20 декабря. Основной своей целью организация объявила «оградить детей обоего пола от опасностей улицы и дурных связей в пользу их развития, объединения, укрепления духа товарищества и солидарности, для организации развлечений, необходимых и свойственных для их возраста и темперамента: игр, прогулок, посещений музеев и памятников, лекций, семейных праздников и проч.»[9]
Аркёйский маляр (художник по фасадам) Леон-Луи Вейсьер по прозвищу «велiкий Вейсьер» затронул в своих животных воспоминаниях и эти времена, несомненно, судьбоносные для важнейшего дела муниципального строительства... Приятно ещё раз прикоснуться слезливым глазом к его малярийным буквам..., после всего. — «Сати очень благоразумно, не вступая в дискуссии, присутствовал на учредительном заседании нового объединения. В конце встречи он скромно записался в службу дежурств патронажа, уточнив, что не хотел бы исполнять никаких административных функций. Его просьба была, естественно, очень хорошо встречена, поскольку на неблагодарную должность надзирателя было не слишком-то много охотников...» — Пожалуй, слово надзиратель (по-французски, pion) в этой истории выглядит особенно трогательным... Спустя несколько лет это понятие в эпатажной этике Сати заняло едва ли не центральное место — в качестве отрицательно-порицательной антитезы любителю (amateur). До отвала сытый годами сидения в консерватории и несколькими соприкосновениями с заскорузлой Академией (Изящных Искусств), едва ли не до конца своей жизни Сати жёстко противопоставлял самого себя (верного любителя и любовника от музыки) — клану профессионалов и «классных надзирателей» (пионов). К сожалению (или напротив, к счастью), в русском языке ни «pion», ни «amateur» не имеют адекватного перевода, поскольку отсутствуют и точные аналоги: отдельный надзиратель (воспитатель) как должность в советских школах отсутствовал, а «любители» (дилетанты) никогда не имели оттенка «amateur» (любовника)... — И вот, насколько же трогательно (после всего) внезапно обнаружить Сати — того же Сати! — в качестве аркёйского «piona», да ещё и добровольного. ...Впрочем, не все пионы на свете одинаковы. В соответствии со статьёй 3 регламента, утверждённого на общем собрании, патронажные надзиратели должны были постоянно показывать детям пример «хороших манер и безукоризненного воспитания» и не имели права «использовать ничего, кроме убеждения», чтобы добиться послушания. Очень приятно слышать..., значит, трафаретный образ злого надсмотрщика с палкой (или плёткой) никак не шёл в строку. Дальше велiкий Вейсьер пишет в своих воспоминаниях: «Сати принялся за свои обязанности с нескрываемым рвением. Каждый четверг и воскресенье была его очередь осуществлять дежурство. Он давал уроки сольфеджио, играл на фортепьяно во время урока танцев, он руководил хором воспитанников, он вёл репетиции местных любителей, которые помогали нам во время организуемых нами праздников, короче говоря, он уделял этому большу́ю часть своего времени, и с этого момента между нами установился почти ежедневный контакт». Впрочем, особенно трогательно выглядит патронажная история Сати, если постараться не забывать высшего и всепроникающего двигателя его внутренней жизни: «Je retire» — превыше всего..., при любых случаях и обстоятельствах времени & места действия. Согласно главному свойству этого двигателя, в первый раз прошение о своей «отставке» с поста пиона Сати подал 15 января 1909 года (между прочим, на имя всё того же велiкого маляра Леона-Луи Вейсьера, исполнявшего обязанности секретаря Местного патронажа Аркёй-Кашана), спустя всего три недели после торжественного начала своей патронажной службы,[14] а «последнее и окончательное» (отнюдь не второе) аналогичного содержания — поступило 15 марта 1910 года,[14] в аккурат по окончании велiкого сено-аркёйского наводнения.[комм. 18] В любом случае, Аркёй выступал не более чем в качестве раздражителя, значительно более пустого и незначительного, чем вся прочая жизнь. «Однажды, когда он в третий или четвёртый раз подал заявление об отставке из Патронажа, — рассказывает Вейсьер, — то соглашался вернуться только при условии, что Административный Совет доверит ему пост Директора Внутренней службы – должность, по поводу которой никто толком не знал и не мог сказать, что же она в точности означает».[16] Больше не будет лысых !..
Спустя шесть лет после смерти главного героя этой пригородной мистерии, мсье Тамплие-младший (не исключая, впрочем, и среднего) вспоминал, что за кратких полтора года работы в опекунском совете (патронаже) Сати успел совсем не мало сделать (не забывая, впрочем, регулярно перемежать свои достижения — заявлениями об уходе прочь). К примеру, весной и летом 1909 года его коньком стали любимые пешие прогулки-лекции по живописным окрестностям Аркёя, а также и более дальние экскурсии для детей. Особенно запомнилась поездка в находившуюся не так далеко крепость Бисетр, где Сати задавал солдатам и прочим местным служивым каверзные или забавные вопросы, часто ставя их в тупик, — понятное дело, последним обстоятельством дети остались очень довольны. Впрочем, фирменной частью надзирательского участия в работе опекунского совета были вовсе не прогулки, а уроки сольфеджио и небольшие концерты-праздники, которые Сати устраивал каждый месяц (входная плата там составляла 50 сантимов или один франк).[комм. 19] Результат оказался неожиданным (а неожиданность оказалась почти детской): спустя каких-то жалких полгода Высшие муниципальные власти решили поощрить новоиспечённого общественного деятеля «за гражданское служение». Торжественная церемония состоялась 4 июля 1909 года. Страшно сказать, на ней присутствовал лично префект округа Сена месье де Сельве, который собственноручно (в присутствии всего аркёй-кашанского начальства и бомонда) украсил фасад Эрика Сати серебряной Академической пальмовой ветвью и вручил подвижнику патронажной деятельности большую красивую грамоту. — Спустя несколько дней местная газета «Будущность Аркёй-Кашана» восторженно и подробно описала последовавший за тем неофициальный приём и чествование награждённого.[6] — Слог передовицы («напыщенный и светский»), само собой, разительно отличался от приснопамятных рекламных объявлений рубрики «Две недели Общества»..., видимо, никто особенно не горел желанием обнаружить себя в рядах укушенных обезьяной... после всего. Маленький официальный приём, настолько же интимный, насколько и прелестный, состоялся 8 июля в доме Дуо, что по улице Эмиль-Распай. Около пятидесяти человек были приглашены на собрание в честь мсье Сати, только что награждённого префектом департамента Сена.
Как (изредка) говорил один мой старый (не)приятель, «даже телега без колёс нуждается в смазке»...[32] — И в самом деле, шутка ли сказать: серебряная пальмовая ветвь общественной славы, да ещё и украшенная муниципальными «рубинами». Воодушевление бедного Эрика, ничуть не избалованного подобным вниманием & поощрением в прошлые годы, оказалось столь велико, что его хватило ещё почти на девять месяцев работы в патронаже..., а за остаток 1909 года он, кажется, ни разу не поднимал перед аркёйскими коллегами своего главного вопроса «Je retire» всех времён и народов. — И даже более того: в первые месяцы осени, почти окрылённый своей муниципальной славой, он употребил всё своё влияние и красноречие, чтобы уговорить посетить Аркёй (с концертом!.., вот удивительное дело) сначала старого папашу-Испа, а затем даже невероятную и восхитительную д’Арти.[12] Только подумать, сама д’Арти!..., здесь, у нас, в захолустном Аркёе! Под сенью нашего занюханного акведука (с его чудодейственным лосьоном и щедрыми дивидендами). — Нет, я не могу поверить, я решительно не могу поверить, скорее ущипните меня, должно быть, я сплю!.. Короче говоря, успех (почти фурор) был невероятным. Авторитет и популярность этого «солидного бодрячка» среди местных Понсэнов, Кузенов и Блядьё поднялись на высоту прежде недосягаемую. Как следствие вмешательства столичных звёзд, Сати избрали Почётным президентом Аркёского патронажа (на вечные времена).[9] А сиятельный мсье Тамплие даже создал специально для него в своей радикал-радикальной газете специальную рубрику (нечто вроде резервации или гетто) «Полтора десятка обществ», а затем в комплект к ней ещё и дополнительные «Собрания», — где Сати два раза в месяц свободно изощрял своё остроумие над лысой рекламой и обезьяньей общественной жизнью бравых аркёйских обывателей...
Вдобавок, я рискую сказать банальность, но причины..., причины-то никуда не делись!.. И фатальное несоответствие продолжало сиять нетленным светом на небосклоне бытия. Вот в чём загвоздка. — Мало-помалу, капля за каплей, раздражение копилось.[комм. 20] И неизменное «Je retire», всякий день прозябая в тлеющем режиме, уже очень скоро было готово в любой момент выскочить из своего уголка, чтобы сызнова предъявить права..., — так сказать, в полный рост.[33] Дорогой господин Тамплие.
1. (это я снова сказал)... — К слову сказать, очередной раунд вселенского «Je retire», хотя и тяжеловатый по своим по’следствиям, тем не менее, на этот раз дался Эрику сравнительно легко. Отчасти, уход прочь из патроната и отдаление от рю Коши было даже спровоцировано кое-какими назревавшими событиями, в недалёком времени вернувшими Парижу статус «сатие’рической» столицы..., центра жизни и, напротив, сызнова превратившими Аркёй — в прежний пригород, не более чем муниципальное захолустье (духовной) нищеты, придуманное исключительно ради дешёвого ночлега.
Конечно, не стоило бы труда слишком долго распространяться. Эта история стара как мир..., а весь мир стар — как эта история... И всё же, нельзя не подивиться (светлым дивлением) ка́к же вовремя подвернулся маленький заговор Равеля..., и какое большое дело ему удалось сделать под видом этой маленькой & невинной подножки своему старшему коллеге, признанному мэтру. — Приятно себе представить эту картинку..., даже невольно зализываются глаза. — Итак, кушать подано! Прошу любить и жаловать: занавес открыт, голодные собаки наготове, уши топориком, язык до полу... — Снова объявив (самому себе) «Je retire» и хлопнув воображаемой дверью, сразу вослед за своими словами — мсье Сати поспешно покинул «дневный Аркёй», до краёв наполненный мелкими муниципальными животными, и со всей возможной скоростью переместился ногами — в Париж. И в самом деле, куда же ещё ему было идти? Выбор, конечно же, был до обидного небольшой, прямо скажем, даже ничтожный. Со стороны это колебание вполне могло бы напомнить двоичную систему счисления: в одну сторону «один, два, много»..., в обратную — «два, один, ничего»... Словно трамвай или омнибус, способный ездить только туда — или обратно, вот все варианты: не больше и не меньше. Но даже выбор из двух — всё же несравнимо богаче, чем никакого выбора. Потому что в Париже... бывшего муниципально-патронажного «министра иностранных дел» уже с нетерпением ожидали — если и не с распростёртыми объятиями, то во всяком случае, с большим вниманием... заглядывая в лицо. И первым делом за «мсье Сади» схватился маленький Равель. — Со своим потрясающим ростом, едва превышающим полметра, честно говоря, он производил самое благоприятное впечатление (поначалу). То ли ребёнок, то ли микроскопический денди (ещё один, после всего). Трудно было смотреть без улыбки, чаще всего внутренней, конечно, на этого шикарного импрес...сиониста с лицом жокея и ростом — с ноготок. Во всяком случае, все эти годы он вёл себя гораздо лучше, чем старый «друг»-Дебюсси с бычьей шеей, сделавший всё возможное, чтобы о Сати никто и никогда больше не вспомнил. Но совсем не таков был Равель... Этот ребёнок немедленно схватился за аркёйского репатрианта двумя руками, (хотя проделал всё это с очень большим достоинством) и первая его фраза, которую он сказал, была, пожалуй, куда почище той пальмовой ветки сру’бинами: «Если бы Вы знали, сколь многим я Вам обязан...», — на сей раз имея в виду, разумеется, вовсе не тот..., пресловутый (детский) патронат..., а музыку, как это ни странно слышать. — Причём, свою музыку...[14]
Но сейчас..., тысяча извинений, потому что..., потому что сейчас я рискую сказать ещё одно слово..., довольно пахучее, между тем. Пожалуй, не только маленький Равель с велiким Дебюсси по праву поделили ещё одну развесистую пальму аркёйской славы. Было бы слишком зловредным умолчать о превосходной роли импресарио..., первого и последнего импресарио Эрика Сати, которую на себя взял нежданно появившийся Конрад..., младший брат (не исключая, впрочем, и его жены, мадам Конрад Сати). Пожалуй, на этот раз братская помощь..., вернее сказать, великолепный толчок под одно мягкое место оказался — самым сильным продюсерским приёмом, побудив Эрика с большой скоростью (практически, как пуля) вылететь — вон из Аркёя... Нет, на этот раз Конрад не прислал кучу денег, чтобы не сказать совсем наоборот. Речь шла совсем про другое... Для начала, от него пришло несколько очень заинтересованных писем — в начале января 1911 года (словно бы он только и дожидался нового десятилетия), а после оного — даже кое-какой нежданный «фикс», когда Сати, оставивший работу в патронаже, особенно остро нуждался в деньгах. Но затем..., затем чудаковатый Конрад пропал так, словно бы его разбил паралич..., или он опять смертельно обиделся.
— Впрочем, и там, на обочине, первозданная чистота прежнего «опыта» оказалась нарушена раз и навсегда. Теперь «так просто» отсидеться в тени (как было раньше, в первые года аркёйской жизни) уже не удавалось. После шикарных пальмовых веток, развесистых концертов, остроумных экскурсий, забавного надзирательства, пяти скандальных заявлений и прочего высоко’художественного патроната, Сати в Аркёе слишком хорошо (у)знали. И дело было даже не столько в том, что при встрече с ним снимали шляпу, пожимали руку, раскланивались на улице или (ещё чего доброго) подсаживались за столик в винной лавке с высоко’мысленными душевными разговорами за искусство, политику или местные дела...[комм. 23] Теперь у него здесь была своя история отношений, среда, связи, «прежние» знакомые и приятели, которые время от времени присылали письма, подсовывали записки под дверь комнаты, назначали встречи или просто подходили к нему по случаю с очередными восхитительными (идиотскими) идеями, проектами или затеями. Иногда это было забавно, чаще раздражало, вызывая до боли знакомые позывы «Je retire» как можно скорее и дальше..., к чо́рту из этого навязшего Аркёя..., впрочем, иной раз даже помогало, но главное — теперь и до конца жизни это стало его малое место, где он стал узнаваемым, не чужим, а временами даже «кандидатом» (в самых разных смыслах этого слова).
1. (и это тоже я сказал)... — Да и не просто так война, а ещё какая!.. Превосходная, великолепная, напыщенная и светская (laïque & somptueux)..., короче говоря, несравненная война. В общем, что тут и говорить: это была несомненная удача. И получилась у них в тот раз этакая пышная мировая штуковина, какую, что называется, ещё и не всякому обывателю посчастливится понаблюдать, — не говоря уже о том, чтобы пережить её, так сказать, лично. Пускай даже и в тылу (читай: с задней стороны). Впрочем, об этом ещё придётся сказать несколько слов..., на закуску.
Однако начать придётся сызнова с того же велiкого маляра, Леона-Луи Вейсьера. В своих «сати’ерических анекдотах» он утверждает, что ещё до войны Сати не раз приглашал его в Париж на концерты, где исполнялись его сочинения, а как-то ночью он ради забавы (и немало рискуя вызвать гнев рано уснувших аркёйских обывателей) принялся объяснять ему разницу между шумом и музыкой, хлопая в ладоши, топоча ногами или ударяя своей тростью по водосточным трубам.[комм. 24] На протяжении всего этого времени соседи регулярно общались также и на почве политики, как местной (мелкопоместной), так и во благо всего «прогрессивного человечества». Между прочим, так случилось: благодаря личной рекомендации Леона-Луи Вейсьера (не радикального, но вполне ортодоксального социалиста с первых дней существования объединённой партии) Сати смог выразить своё возмущение убийством Жореса 31 июля 1914 года, уже на следующий день записавшись в аркёйскую ячейку S.F.I.O.[16] — В те дни так называемый «жоресовский призыв» собрал в единую соц.партию десятки, чтобы не сказать сотни тысяч новых членов, — таким способом протестовавших против патриотического угара и милитаристской истерии республиканского правительства. Само собой, всё было впустую. — Постреливая и отбивая чечевичную чечётку, раскачиваясь и громыхая бёдрами, бронированная дрезина мировой войны на холостом ходу летела (как по рельсам) в сторону «Велiкой Германии». Кажется, здесь начинался тот идеальный случай, когда безотказное прежде «Je retire» уже не слишком-то помогало. Теперь картина стала примитивной до коликов: тыл, фронт, враги, свои, боши, франки, сантимы, копейки... Ретироваться отныне было попросту — некуда.
Пожалуй, наибольший урон в первые же августовские дни нанесли..., нет, совсем не немцы, а своё, насквозь родное республиканское правительство. Нет, конечно, не следовало бы думать, будто бы они принялись стрелять прямой наводкой — по Аркёю из пушек и пулемётов, хотя... это было бы не менее остроумное решение. Во всяком случае, такую войну можно было бы выиграть... значительно быстрее. Но нет, прежде всего прочего, правительство объявило в стране военное положение и принялось запрещать... — Что именно запрещать? Ответ гениально прост: всё что угодно. Первым делом все зрелища, театры, концерты, музыку, оркестры и так далее — до упора. Понятно, чтó это значило для Сати..., и без того не блиставшего артистическим благополучием. Все «работники культуры» были распущены, а затем — мобилизованы на фронт..., в незаменимом качестве пушечного мяса.
3 августа 1914 года трижды велiкая Германская империя объявила (ещё одну) войну Франции. Уже на следующий день ново’обретённый член партии Эрик Сати вступил в социалистическую милицию и принялся (в порядке очереди, дважды в неделю) патрулировать по ночам некий условный населённый пункт, находившийся шестью километрами южнее Парижа и обозначенный на военных картах под кодовым именем «Аркёй-Кашан». Страшно припомнить, сколько десятков и даже сотен немецких диверсантов пополам со шпионами пришлось передушить скромному «композитору варьете» своими громадными волосатыми ручищами за первый месяц войны, — пойманных буквально между делом: по огородам, в местном болоте или прямо посреди улицы. Жаль только, что «народную милицию» почти сразу же запретили отдельным указом (республиканской партии и правительства), а потом и вовсе — распустили, неизбежным образом приняв во внимание тот огорчительный факт, что она была — всё-таки социалистической. Во время первых немецких бомбардировок осени 1914 года, когда в очередной раз объявляли тревогу, Сати не раз приходил постучать в дверь семьи «велiкого» маляра Вейсьера на рю Коши 11, чтобы сказать им с поистине изуверской (детской) непосредственностью: «добрый день, друзья мои, я пришёл погибнуть вместе с вами».[12] Эти кошмарные пять лет, проведённые там, далеко на обочине, постоянно блуждая туда-обратно в поисках нескольких франков на хлеб и воду, только ярче высветили всю нелепость человеческого материала, непригодного даже для простейшего самосохранения того лучшего, что у него есть, здесь и сегодня... Ни Париж, ни Аркёй — теперь не годились даже в качестве бомбоубежища. И даже вечное & велiкое «Je retire» потеряло последние остатки смысла. Маленький... лысый от рождения Сати теперь не был нужен решительно никому. Словно бы навсегда позабыв о веселящем газе, они убивали друг друга всеми средствами, которыми только умели: бомбами, пулями, снарядами, штыком и саблей, пикой и лопатой, хлором, ипритом или фосгеном. Они убивали друг друга десятками, сотнями и тысячами, они умирали от тифа и холеры, они зарывали друг друга живьём в землю, сажали на кол, в тюрьму или в концлагерь, они вешали друг друга и расстреливали, и не было для них более важной заботы, чем уничтожить возможно большее число «противника».[40] Теперь только это занятие стало их главным искусством, составляя существо и основную совокупную ценность их жизни. Дорогой господин Дюкá. Бесконечно и безнадёжно просить в долг у всех, кому быть дóлжным абсурдно и непозволительно: жить в кредит у владельца комнаты, есть в кредит у хозяина бистро..., месяц, два месяца, пять месяцев..., надеясь неизвестно на что. Спустя всего год после начала войны..., подавляя подкатывающую тошноту пополам с брезгливостью и презрением..., доведённый до такой невероятной крайности, чтобы просить о милостыне..., почти подаянии от любой «организации, оказывающей помощь артистам»... Он, велiкий Парсье, владелец половины мира пишет письмо почти незнакомому композитору (из презренной консерватории, прости господи) по имени Поль Дюка..., отлично зная, что тот (испытавший недюжинное влияние Дебюсси в своём скромном творчестве) приходится ему всего лишь двоюродным учеником..., на постном масле. — О..., если бы не эти чортовы немцы со своими назойливыми бомбами, снарядами и касками!.. Никогда и ни за что Эрик не написал бы ни одного подобного письма, ни одного позорного прошения этому человеку... Чиновники из министерства культуры. Ничтожные композиторы с жалкими подачками из кассы взаимопомощи... Ни с чем не сравнимое унижение войной. Какое уж здесь, к чорту, «Je retire», когда в этом про́клято-прокля́том Аркёе — и поневоле остаёшься сидеть, будто в предпоследней мышеловке: на поезд нет денег, пешком дойти — нет сил, да ещё и рубашки все грязные, воротничков белых давно нет, а пиджак довоенный болтается как на огородном пугале.[9] Пять лет..., только подумать: пять лет кошмара, почти непрерывного, почти изуверского. И между ними — всего два парижских просвета, два маленьких года возможности, два глотка воздуха, воды, бумажных ассигнаций...
— Первый — скандалезная пика «Парад»..., возникший буквально из ничего благодаря трижды прекрасной Валентине Гросс и наконец-то сделавший Сати имя... Наконец, на третий год беспросветной войны правительство слегка «сжалилось» и ввело кое-какие (чисто благо...творительные) послабления в законе о военном положении. Прежде всего, для самих себя, конечно. В качестве исключения некоторые зрелища и концерты (сугубо патриотического содержания) были высочайше дозволены..., впрочем, только в том в случае, когда их целью объявлялся сбор средств на нужды армии, например. — Именно в эту малую щёлку пронырливый де-Дягилев и протащил ради скандала подрывной «Парад» святой троицы Сати-Пикассо-Мясина (не считая суетливой шавки-Кокто). — Париж и его люди всякий раз давали надежду, иногда крошечную, иногда пустую, но за неё приходилось хвататься как за соломинку... И всякий раз, захваченный парижской суетой (будь то концерт у госпожи Бонгар или в театре Старой Голубятни, бесконечные проекты и прожекты Кокто, возможная встреча с Дягилевым или срочное свидание с Пикассо...), Сати с радостью забывал о ничтожном, временами постыдном Аркёе, отставлял его в сторону и откровенно пренебрегал своими провинциальными приятелями, велiкими и не очень...[9] Но всякий раз, покидая Аркёй с надеждой на парижское «Je retire», после очередной неудачи на фронте, «мсье Сади» возвращался в пригородное болото как в последнее убежище. Тот маленький жалкий окоп, в котором пришлось просидеть всю эту... бесконечно длинную окопную войну. — Аркёйский болотный окоп, который решительно ни от чего не спасал, в котором только и можно было, что околеть от голода или, если повезёт, «умереть вместе с великими Весьерами» во время очередной бомбёжки, — и всё же, было бы совсем худо, если бы не он, сердешный. Пожалуй, трудно было бы найти такие слова, чтобы достойным образом возразить человеческой натуре, устроившей этот феерический (первый мировой) праздник собственного необязательного зла. Словно бы в назидание самим себе. Раз и навсегда. Нарисовав последнюю черту, за которой он последует..., и за которую проследует, наконец (согласно собственному приговору).[42]
Но хуже всего было, когда из постылого (почти прифронтового) Парижа все разъезжались (кто куда).[комм. 25] Или, ещё чего доброго, разбегались — врассыпную. Так было всякий раз — во время обстрелов, бомбёжек или очередного наступления немцев. И вот тогда..., уже не на что было рассчитывать. Совсем не на что. Потому что ему, Эрику Первому, в отличие от тысяч и миллионов «вторых», бежать было некуда..., решительно некуда. И потому что — оставаясь здесь, в маленьком захолустном Аркёе, как на подбор, полном «велiких» людей, можно было только переждать, пережить..., да и то — совсем немного, недолго, буквально чуть-чуть... До последней бумажки..., а затем от силы, ещё месяца три, не больше. Ну что, Вы наконец-то возвращаетесь? Довольны? В добром здравии? Вечно зелёная, вечно прекрасная, вечная красавица? ...и в последний раз стало совсем невмоготу — в марте 1918 года, едва стали распускаться аркёйские почки на деревьях. В эти славные весенние деньки, видимо, воспользовавшись дивной погодой, немцы привезли специальным составом и установили неподалёку от Парижа громадную пушку под скоромным названием «большая Берта», которая во все тридцать метров своей неприличной длины педантично и невозмутимо стреляла прямо по центру города, — неважно куда, лишь бы попало..., так она и стреляла — куда попало. А попадало немало. Тогда же, в марте, и сам Сати едва не окочурился под очередным парижским обстрелом — от осколка германских щедрот. Теперь это стало чем-то вроде патентованного развлечения..., или аттракциона — не только для приезжих, но и для местных жителей. — Слегка оттаявшая было обстановка в столице — переменилась на глазах. Снова началось большое бегство..., вон из Парижа, кто куда. Приоритеты решительно изменились: теперь уже не Сати, а все вокруг него делали своё резвое «Je retire» — кто трусцою, а кто и галопом. Причём, убегали все (кто мог), включая славное республиканское правительство, которое спешно собрало свои секретные бумажки и переехало от греха подальше — прямо в Бордо: значит, теперь там французская «столица», чистое бордо. Очень приятно слышать (надеюсь, хотя бы не красное?)... В общем, выбор милый. И городок, прямо скажем, не чужой, да и памятный для Эрика. К тому же — на юге. Далеко на юге. Туда же устремились и все прочие..., парижане. Жить от обстрела до обстрела почему-то никому не доставляло радости. А затем, поверх падающих посреди улиц и домов снарядов, прибавился ещё и страшный вирус с почти ласковым названием «испанка», который педантично добивал многих уцелевших после обстрелов. Город почти опустел и Сати снова засел в аркёйском окопе, безнадёжно голодая и отчаянно нуждаясь в деньгах. Словно призрак 1915 года, то было почти точное повторение начала войны, ещё двести дней полумёртвой оцепеневшей жизни. К середине лета Сати полностью обнищал, а к началу осени – пришёл в полное отчаяние. Ради этого даже стоило вспомнить, что фамилия Сати в переводе на русский язык звучит отчасти как «Сытин». Очень смешная игра, особенно если денег нет даже на отчаянные письма, занять катастрофически не у кого, а дорогие друзья-приятели не отвечают — месяцами, щедро награждая аркёйца одним только молчанием...[39] ...Дорогая Валентина. Я очень страдаю. Мне кажется, что я проклят. Эта жизнь попрошайки мне отвратительна. Я ищу & хочу найти место — служащего, какого-нибудь мельчайшего, какой только возможен. ...наконец, не достаточно ли для начала?.. Пожалуй, оставим этот разговор, пустой и малосодержательный.[4] До конца той славной, мировой войны оставалось ещё без малого полгода..., как говорится, ещё было где развернуться... и показать себя в полный рост. — Дивная история (чтобы продолжать в том же духе). Отдадим им должное: всё-таки бравые немцы добились своего. Как оказалось, правительству было не слишком-то приятно после всего обнаружить себя — в каком-то занюханном провинциальном Бордо (не многим лучше Аркёя)..., и оно резко усилило давление на союзников... Началось последнее наступление маршала Фоша, в конце концов, окончательно опрокинувшее этих бошей... — Впрочем, дела пошли заметно лучше ещё до окончания войны. Кажется, лёгкое послабление обнаружило себя уже начиная с сентября 1918 года. Разбежавшиеся во все стороны тараканы начали потихоньку возвращаться к насиженным местам, прежние ограничения военного положения в очередной раз смягчились и вся парижская жизнь заметно оживилась... на своём прежнем месте. — Кажется, настала пора в очередной раз эвакуироваться из Аркёя, смертельно усталым, истощённым и больным..., — даже почти не вспоминая (до поры) о своём непременном «Je retire»...
6. (и это я говорю даже без тени улыбки)... — потому что с той минуты на всё оставалось ровно пять лет. Не так мало, но и совсем не много..., — особенно, если не пытаться «поспеть» до отправления поезда.
Тем более, в Париже зарабатывать стало значительно легче, когда повсюду царила после’военная эйфория. Долгожданная победа над бошами..., победа, которой ждали (нет, не пять) — целых пятьдесят лет (после того позорного поражения и фактической оккупации Парижа)... — Наконец, словно бы отлегло. Отпустило. Расслабилось..., как поджилки у трупа. Никто не думал, что передышка (перерыв до нового реванша) составит всего-то два десятка лет. А пока... Париж до краёв наполнился деньгами, гомоном, новыми людьми — грубыми, неотёсанными, ранеными кто в голову, а кто и в задницу..., прежде невиданными и невозможными здесь, в узком пространстве между Лувром и Версалем (разве только во времена Максимилиана и коротышки?) И в самом деле, иной раз глаза разбегались, глядя на эту шушеру: «...разве мы знавали раньше таких типов как этот? Да, или вот такого... погляди-ка на него внимательно... Увы, нет!.., только во время войны! — Тогда... понадобилась война, целая война, чтобы мы их узнали! Почему же мы их обычно не видим? Они замечательны, и это знание могло бы нас отчасти изменить...» Само собой, такая, с позволения сказать, публика была совсем не для фумистических балетов Сати, — в крайнем случае, она могла бы освистать или разгромить сцену. Но поначалу, посреди всеобщего оживления, обильно сдобренного сумасшедшими деньгами, провинциалы и окопные типы съедали всё... или почти всё, что им давали со сцены.
Хотя муниципальное воодушевление тоже не прошло мимо. В ноябре 1919 года, на первых послевоенных выборах мсье Эрик Сати (несомненно, подстрекаемый прежними и нынешними социалистическими «друзьями») выставил свою кандидатуру — прямиком в муниципальный совет Аркёя. — И что же?.. Дивная наука отрезвления!.. — добрые местные рабочие, друзья всех социалистов, с ветерком прокатили Сати мимо кассы.[39] — Ох..., ну и досталось же ему под первое число на одном из собраний за весь его рафинированный «неоклассицизм» и мраморно-белого «Сократа»... Загибая пальцы, друзья-рабочие местного розлива припомнили ему, кажется, решительно всё, что только могло прийти на память: и «недопустимую буржуазность», и «классовую терпимость», и «всеядность», и даже систематические связи со «старой аристократией». Разве что «политической проститутки» Троцкого не припомнили. Ещё слава богу, что обошлось... без революционного приговора пролетарской «тройки»..., — благо, в советской России красный террор и военный коммунизм уже очень даже вошёл в моду. Буржуазную, салонную и рафинированную... — Ну что, прости-прощай, дорогая княгиня Полиньяк?.. и сиятельный граф де Бомон?.. Как бы не так...
...Тысяча сто десять извинений, но у меня имеется до тебя ещё одно маленькое дело. Послушай: мои знойные товарищи социалисты Аркёя хотели бы услышать лекцию об Америке: ты ведь знаешь..., есть на свете такая далёкая страна.[комм. 26] Не желаете ли содействовать делу народного «просвещения», драгоценный мсье Роше? Совсем ещё недавно, в июле 1919 года этот «композитор музыки» имел неосторожность подписаться под одним из своих писем: «Erik Satie d’Arcueil».[9] И спасибо ещё, что это письмо не попало в чесавшиеся руки рабочего комитета, ведь мог разразиться полнейший скандал: и мало того, что он приписал себе дворянский титул (самозванец, не иначе), так ещё и заявил права на владение всем Аркёём, мерзавец этакий... После «победы» большевиков в Петрограде рабочие и в самом деле стали агрессивнее, увереннее в себе. Чуть что, хватались за кобуру (воображаемую). — К тому же сказать, довольно скоро Москва приступила к прямой поддержке дела мировой революции. На этой почве неминуемо начались новые разногласия и среди социалистов: по отношению к Советам все разделились на «умеренных» и «большаков». Раскол не замедлил себя ждать...
В самом начале 1921 года, после мирного и почти бессловесного разделения старых социалистов на хороших и плохих (добрых и злых), аркёйский мэтр без малейших колебаний отправился налево, к «плохим». На официальном языке это называлось «соглашение социалистической партии c Третьим Интернационалом», по которому слишком левым «не возбранялось» уходить левее тех, которые предпочитали ходить по воскресеньям и средам направо, то есть, к причастию и в банк. Разумеется, для Сати не могло быть другого выбора — только во фронду или в офронт. Фактически, это было ещё одно «Je retire» своего рода, — единственный поступок, который оставался в запасе, в очередной раз покидая ряды благонадёжных и пристойных обывателей. Старый большевист среди мечтательных буржуев, скрытый протестант среди явных католиков, Сати с большим восторгом сдал свою социалистическую корочку, чтобы получить в руки новорождённый билет французской коммунистической партии.
...Теперь и до конца дней он окончательно сделался большевиком-аристократом, «...это я — Эрик Сати из советского Аркёя...», примерно так любил он представиться при случае (где воз...можно). Тем более, как это мило и забавно, во время деловой & светской беседы с каким-нибудь графом де Бомоном, благодетелем и меценатом, внезапно ощутить у себя за пазухой твёрдую корочку несгибаемого марксиста и увидеть в своём лице непримиримого классового противника... — Иногда, ради особого блезиру, Сати специально брал с собой членский билет «большака» и разговаривал с заевшейся «аристократией», положив левую руку прямо туда, на сердце пламенного революционера. И ещё, правда сказать, ему очень нравился этот русский «Ленин», иногда начинавший слегка напоминать отражение в зеркале... Такой неказистый, лысенький, маленького росточка, ещё один эксцентрик, не иначе: усики, бородка, — короче, вполне привычный человеческий уродец, даже немного хуже, чем это было бы прилично. Пожалуй, по этой части ему удалось переплюнуть даже Наполеона. Отличный пример для всех желающих (неизвестно чего)... В 1919 году я впервые почувствовал, что «наши» (и даже лысые..., кто бы мог подумать!) и в самом деле могут приходить туда... к власти. Пускай, эта странная страна Россия находилась от меня очень далеко, в какой-то дягилевско-стравинской мгле, имея вид слегка абстрактный, напыщенный и светский..., но дела это нисколько не меняло: главное, что они смогли и пролезли, вопреки всему и всем.[39] Мелочь, конечно, но зато как приятно понимать, что где-то за тридевять земель, на полях какой-то шляпы есть ещё один очень большой Аркёй, где коммунисты себя уже показали как следует... и ещё покажут, наверняка!..
И, пожалуй, наконец, последняя аркёйская закуска, о которой бы я (не)хотел здесь припомнить... В отличие от всего прочего, приготовленная собственноручно Эриком..., без которой уж точно «здесь ничего бы не стояло»...[47] О чём это я?.. — Само собой, ответ очень прост..., и особой проницательности здесь не требуется. Даже самым скверным аркёйским школьникам не стоило (бы) труда догадаться, что под занавес я попросту вынужден буду ещё раз вспомнить о ней, уже (не) раз всуе припомненной «L’Ecole d’Arcueil»... Причём, снова — не о той, конечно..., не о первой (по времени и престолонаследию), раз и навсегда заранее оставив где-то далеко за бортом пронырливых братьев-иезуитов, несколько веков прикрывавшихся старым парком и высокой каменной стеной.
Впрочем, сюжет начинался немного раньше, чем это можно было наблюдать на почти почтительном расстоянии. Встретив поддержку и сочувствие Дариюса Мийо, означенный Анри Соге наскоро бросил своё первородное Бордо (и вот ведь опять оно здесь всплыло, не к ночи будь помянуто), чтобы перебраться в Париж. Едва ли не с детских времён склонный к играм и игрушкам во всякие прожекты, компании и группы («аркёйская школа» была отнюдь не первой выдумкой на этой ниве), он и здесь не оставил своих бордосских наклонностей. В декабре 1922 года подросток-Соге (в те поры ему кое-как исполнился двадцать один год) придумал для себя новую группу, в которую включил четверых своих новоиспечённых приятелей (кое-как знакомых): Роже Дезормьера, Максима-Бенжамена Жакоба, Анри Клике-Плейеля и, наконец, Жака Бенуа-Мешена. ...Разуйте глаза! Да это же просто нормандский нотариус, пригородный фармацевт, гражданин Сати из муниципального Совета Аркёя, старый приятель Альфонса Алле и, вдобавок, кантор Розы и Креста...[48] Дальше, как говорится, дело оставалось за малым: придумать для выморочной группы ещё и название, желательно, такое же.[комм. 27] Впрочем, особой загвоздки последнее не вызвало: вольно или невольно, слишком напрягать мозги не пришлось, благо, помогла окружающая пресса, под прессом которой в иные времена ещё и не такое вызревало... Поскольку многие враждебные критики в те времена насмешливо прозвали Сати «Аркёйским мэтром», Соге решил сыграть в простую имитацию (или эхо), назвав свою новую группу «Аркёйской школой» (École d’Arcueil). Однако результатом, прошу прощения, стала типичная «детская неожиданность»..., в том смысле, что подобного шедевра — никто не ждал и даже не пытался добиться. Противу бездарности всех действующих лиц, получилось превыше всяческих намерений и пожеланий..., особенно, если взглянуть на это дело — слегка задним числом..., или пост’фактум. На месте презрительной, почти карикатурной клички от рафинированных критиков, в двух словах упрекавших Сати за его поселковую простоту и пригородную недоученность, выросло нечто двусмысленное и превосходное, стократ превосходящее не только самих «аркёйских школьников», но и все их умственные способности, вместе взятые... — Что поделаешь, его величество Случай. Снова и снова Он, способный лёгким движением руки превратить заплёванную комнату парижского клошара — в шикарную резиденцию нового музыкального Учителя (вечного Предтечи и хронического провозвестника Будущего), а из газетного ругательного клише — пример виртуозного и почти сюр’реалистически точного не’соответствия...
...Но тем временем я возвращаюсь к нашим молодым друзьям. — При простейшей смене ко’нтекста, едва только совершив лёгкую и несложную манипуляцию с цветом и консистенцией окружающей обстановки, — и как нежданный итог! — получился ещё один забавный цирковой номер, когда на месте презрительного определения многочисленных парижских злопыхателей, регулярно принимавших уродонал, чудным образом оказалась некая подстава (или даже подставка)... Прошу прощения, я хотел сказать: этико-эстетическая модель,[9] напрямую проросшая из первоначального «Je retire», не раз (не)произнесённого Сати четверть века назад, при известных обстоятельствах: в том числе, отправляясь прочь, прочь из Парижа — ad marginem — на обочину, в предместье, через пригородные кустарники и болота, в грязную аркёйскую келью..., пардон, комнату старого парижского клошара Биби.
Пожалуй, здесь бы мне впору и закончить эту слегка неуместную аркёйскую повесть, шаг за шагом оказавшись — в очередном тупичке, едва ли не железно’дорожном..., — когда почти весь старый Аркёй, повинуясь пресловутому императорскому императиву «Je retire», видимо, так и не дождавшись исполнения приговора, — сам переместился прямиком — в Париж.
...И точно, он и вчера опять оказался в своём безнадёжно устаревшем котелке, когда я случайно повстречал его на набережной: Последний (1924) год Сати всё меньше бывал в своей аркёйской комнате. Причиной тому — не только нарастающая слабость и болезнь. К тому неожиданно добавились — ещё и кое-какие разъезды и даже гастроли (вот уж прежде небывалое дело!).. Для начала, отвратительное рождество в Каннах;[комм. 30] затем — мартовская поездка с концертами (и лекциями) в провинциальный Брюссель и Антверпен; наконец, два заказа на два последних балета... Весной — Приключения Меркурия для графа де Бомона (опять эти ко(м)прометирующие связи со старой аристократией!.., чёрт), а летом — долгожданный «Релаш!», последний спектакль, который «всякий раз отменяется», невзирая ни на какие причины и следствия... — Во время работы аркёйского мэтра над «Меркурием», безупречно внимательный граф предложил ему прекрасную парижскую квартирку (кто бы мог подумать!.., на старости-то лет), паче чаяния: с ванной, телефоном и даже настоящим роялем..., чтобы Сати не тратил лишние силы и время на пусто’порожнее перемещение от вокзала Данфер до своего загородного имения и обратно. Немалое дело с приключениями бога торговли нужно было исправить быстро, срочно и, по возможности, без срывов. Что же касается последней «Отмены спектакля», то она требовала частых встреч с дорогим соавтором (Франсисом Пикабиа), а потому Сати нередко оставался переночевать там же, в отеле «Истрия» (на Монпарнасе). — Правда, работать над партитурой всё же приходилось дома, в старом-пыльном Аркёе.
...Да..., и вот что я совсем позабыл сказать, как оказалось впоследствии... Ещё в 1922 году аркёйский бомонд был взбудоражен неприятной новостью: едва ли не первый человек Аркёя, всеми уважаемый мэтр, почтенный доктор Распай стал жертвой... трамвайной аварии. Это случилось буквально в нескольких шагах от его дома, откуда его в бессознательном состоянии увезли в больницу. Результат был неутешителен: ампутация обеих ног, беспросветная болезнь, а затем не заставила себя слишком долго ждать и — смерть. Доктор Распай скончался весной 1925 года, всего на четыре месяца раньше Сати,[9] который в те поры уже безвылазно находился в парижском госпитале Сен-Жозеф, в комнате номер 4 павильона Гейне,[39] почти не вставая с постели. — Там ему и сообщили о смерти доктора Распая...
Внешне это выглядело так, будто бы аркёйский мэтр заснул и больше не проснулся... В точности таким же образом, как и жизнь всякого человека. Сначала родившись, затем прожив свои положенные десятки лет и, наконец — отправившись на тот свет, так и не приходя в сознание...[32] Когда... после смерти аркёйского мэтра парижские друзья впервые за четверть века переступили порог его «секретной комнаты», полгода назад в последний раз покинутой своим (не)добрым хозяином, это странное помещение показалось изумлённым посетителям какими-то фантастическими катакомбами, почти «неразгребаемыми завалами» бумаг и хлама, покрытыми сверху «гигантским покрывалом паутины»...[9]
«...И в самом деле, уж не является ли «безрукий Рафаэль» или «умерший в детстве Моцарт» (если прочитать это расхожее выражение в самом общем смысле) не каким-то редчайшим исключением, а напротив — кошмарным правилом в случае всякого гения? Не слишком ли груб и жесток этот мир для тех, кто пришёл в него один, а не целой толпой?.. — Говоря иными словами, вполне возможно, что большинство их «гениев» исчезает в безвестности, и даже самые следы их очень скоро растворяются в мутном потоке жизни без малейшего остатка. — Ведь гений, возможно, он вовсе не так редок и исключителен, как об этом принято думать, и люди исключительных способностей появляются на свет в сотни и даже тысячи раз чаще, чем мы об этом узнаём впоследствии. Но увы, у них слишком нечасто имеются в запасе те необходимые шестьсот когтистых лап, чтобы в нужную минуту успеть прижать к ногтю «счастливый момент», схватить за волосы фортуну, оттаскать судьбу за бороду и зажать в кулаке удачный случай! Увы..., так случается слишком редко – и все эти персоны мы можем буквально пересчитать по пальцам, при том постоянно путая исключительного человека и шумный успех... Именно поэтому мы снова и снова восклицаем с восторгом, показывая пальцем на единственного счастливчика: гляди-ка, вон гений! – при этом одновременно продолжая отталкивать, теснить и затаптывать ногами десятки ему подобных»...[7]
— Крупнее не бывает, вероятно... (у них).[33]
И пожалуй, совершенно напрасно я принялся (в своё время) за это странноватое мнимо-топографическое описание места обитания Эрика Сати, вечно неуместного предтечи, пришедшего в мир людей якобы «слишком юным в слишком старые времена»..., а потому неизбежно оказавшимся — на обочине, далеко на обочине ad marginem их столичной жизни. Само собой, в эти «слишком старые времена» Париж (как всегда) гудел, шумел, суетился, он был полон банкиров, торговцев, брокеров, чиновников, депутатов, предпринимателей, владельцев домов и заводов, магазинов и земель..., и все они, понятное дело, были бесконечно богаче и благополучнее Эрика..., не имея ни малейшей нужды говорить своё частное «Je retire» и отправляться как можно дальше ad marginem, куда-нибудь в жалкую аркёйскую комнату старого клошара Биби, чтобы сэкономить на этом бизнесе несколько монет. Пожалуй, здесь бы можно и поставить точку... — Потому что..., потому что покажите мне: где же они теперь, эти сотни, тысячи и миллионы бесконечно более благополучных «arrivée»..., банкиров, торговцев, брокеров, чиновников, депутатов, предпринимателей, владельцев домов и заводов, магазинов и земель..., проживших свой срок обычного планктона, взвеси, прошу прощения, банального бентоса своего времени и места, а затем — погрузившихся в донные отложения..., вероятно, навсегда.[52] И здесь, пожалуй, содержится единственный и последний смысл разговора о любом человеческом аркёе, как бы его ни называть. Этот их мир, сделанный обывателями для обывателей..., он имеет всего одно название: позор. Вот так, просто и со вкусом: позор — и всё. Разумеется, в нём не было бы ничего уникального. Ни во времени, ни в месте, ни в уместности, вечно затянутой паутиной по шею... Примерно таким же позором, к примеру, стало нынешнее время и его люди — по отношению ко мне, ещё одной инвалидной предтече, появившейся, как всегда, некстати. «Слишком юным во времена слишком старые». Или напротив, «слишком поздно во времена слишком ранние». А может быть, сказать иначе: «в том неуместном месте, где и без него и так тесно». Или наоборот, «где приятная пустота и хочется пометить уголок»...[33] — Наконец, оставим. Оставим пустые разговоры, мой дегенеративный друг. Конкретные слова не важны, потому что за их спиной всегда... (я повторяю: всегда) угадывается тень одного и того же позора: маленького, компактного и очень удобного в пользовании. Имя этому позору — тотальный потребитель, низкое животное, пришедшее в этот мир только ради того, чтобы получить свою порцию необязательного зла и затем, облегчённо крякнув, вывалиться наружу, откуда пришёл... — Не приходя в сознание, погружаясь всё ниже и глубже в «культурные» отложения своего места и времени, не создав ровным счётом ничего, кроме ничтожной части их совокупной жизни, и оставив после себя только взлётную полосу: выжженную, выеденную и затоптанную до изумления. И здесь, пожалуй, можно было бы окончательно замолчать, чтобы освободить место одному, последнему слову.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
( Мх.Савояровъ ) Ком’ ментариев
Ис’ сточников
Лит’ ература (для нежильцов Аркёя)
См. тако’ же
— Но если же кое-кто пожелает сделать какое-то « s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »
| ||||||||||||||||||