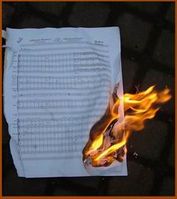Музыка эмбрионов (Юр.Ханон)
| |||||||||||||||||||||||||
|
М
ожет быть, и не хотелось бы начинать этот старый, очень старый разговор, да, видно, придётся уж... — Значит, скажем так, ради первого слова: это..., это... было, мягко скажем, весьма специфическое время... Со всех сторон специфическое... Во-первых, последний год советской власти..., и одновременно — последний год моей публичной карьеры.[комм. 1] Словно с места в карьер. И ещё во-вторых..., практически, то же самое, что и во-первых. — 1991 год стал буквальным максимумом моей насильственной публичной жизни, чтобы к ноябрю оборваться на своей высшей точке. По воле, разумеется, оборваться. Именно что: по воле, — а не поневоле. Максимум прессы, телевизионных программ, концертов (по разным городам, не только в Ленинграде), — всё это набрало скорость именно к 1991 году. И высшей точкой, по замыслу «создателя», должны были стать наши с Эриком весенние концерты. Первые концерты Сати в стране «советов». С первым российским исполнением большой части его <вокальных> вещей, обозначенных в программе. Впервые по-русски. С первым предисловием по Большому Счёту. Первые «независимые» концерты академической музыки. Ну... и вообще всё остальное — тоже в первый раз. Вероятно, и в последний.
Хотелось бы сразу заползти под стол и там — немного оправдаться: нет, здесь не было ничего невозможного. — И организацией своих концертов я никогда не занимался... — или, <скажем осторожно>, почти не занимался. Последнее было бы попросту немыслимо.[комм. 2] Частью, они происходили по инерции, благодаря случайной или нечаянной инициативе тех или иных лиц, попавших под внезапное влияние всесоюзного белого шума (в прессе и на телевидении), который, по существу, и сделал моё имя в конце 1988 и начале 1989 года, — практически, на пустом..., нет, даже дважды-пустом месте.[комм. 3] Вернее сказать, в пустоте. Или запустении. — Появление подобных скандальных типов от искусства, вполне естественное для времён футуристов или, тем более, фумистов было искусственно прервано..., или даже подавлено на (не)добрых полвека. С начала сталинских заморозков клановая система аккуратно перерабатывала в фарш всякого, кто осмеливался бы на подобный эпатаж..., причём, ей было уже не важно: происходил он против или внутри системы. Универсальный совет «не всё стриги, что растёт» был усвоен в лучших традициях пробирной палатки: с точностью до наоборот.[3] С большой готовностью обрубали под корень всё, что только могло торчать. Разумеется, после смерти рябого костолома режим заметно смягчился. И всё же, не радикально. Клановый асфальто’укладчик продолжал исправно работать на всех участках советского просёлка, невзирая на его направление или уклон: и в деревне, и в науке, и на фабрике, и «даже» в искусстве... — Впрочем, остановлю свои слова. Наверняка они будут неверно поняты. Само собой, речь здесь идёт не про страну или режим, но только о конкретном времени. А именно: о том времени, когда мне пришлось прожить свою биографию Высокого инвалида, всю жизнь простоявшего не просто в стороне от кланов, но и совершенно отдельно и непримиримо к ним.[4] Вне всяких сомнений, в любое иное время результат был бы таким же..., и только колорит картинки имел бы свои маленькие отличия. Потому что..., во все времена эти люди остаются людьми, одинаковыми и беспробудными..., вместе со своим племенным стайно-клановым инстинктом, вне которого для них ничто не существует. Ибо всякий из них ничто без своей пожизненной совокупности... Таким образом, вовсе не о рябом Сосо здесь речь..., и не про брови конкретного Брежнева. Но только о... принципе, который можно (было бы) назвать всего одним кратким словом, да и то — строкой ниже...
— Со всеми его обычными свойствами... Как всегда: нежданный, краткий, смешавшийся и смешанный, почти смешной, скоротечный, быстро затягивающийся — обратно, в прежнее своё состояние. Словно бы камень бултыхнулся в старое болото, блато, сплошь покрытое тиной, ряской... и ещё какой-то человеческой плесенью. Всё как всегда, всё как полагается... И вдруг, откуда ни возьмись, еловое полено. — Шум, вонь, брызги во все стороны. И вдруг, совсем ненадолго, буквально, на несколько мгновений — как будто ниоткуда показывается тонкая полоска, почти (за)трещина чёрной воды, внезапно освободившаяся от покрывавшего её налёта. Секунда, другая... и снова плесень затягивает поверхность прежним жухлым ковром. И спустя минуту на месте узкого водного зеркала остаётся только едва угадывающаяся трещина: место, в котором налёт прежней тины ещё не столь плотный, как это было прежде.
Спрашивается, но к чему же здесь была повешена эта дивная картинка лесного болотца..., в духе лядовского «Волшебного озера»? — ответ прост. Исключительно ради дорисовки кланового пейзажца пресловутого 1991 года. — Потому что..., потому что если бы не он..., если бы не этот небесный нежданчик в виде елового полена..., если бы не это внезапное замешательство загипсованных советских кланов...,[5] если бы не эта трещина чёрной воды между застарелой тиной, — не видать бы вам как своих ушей: ни того затмения, ни того концерта, ни этого мемориального интервью... с Максимом Максимовым.[6] Собственно, даже и сáмого имени моего теперь никто бы не знал. И не помнил... — Впрочем, что за странные оговорочки: почему я сказал: «бы»? — Никаких «бы». Это уже было. Уже есть...
|
Во веки веков: аминь... — Пожалуй, именно теперь, на отдалении почти трёх десятков лет стало заметно особенно чётко, до какой степени скоротечным и кратким оказалось временное замешательство устоявшихся & отстоявшихся кланов. Вечный расстрига, отщепенец и протестант, кое-как покончив со своим злостным обучением в консервативной консерватории всего двумя годами раньше, я имел перед глазами более чем наглядный образец. Как говорится, было с чем сравнить: и пример изгнания из одутловатого поздне’советского клана был ещё очень свеж в памяти.[8] Нежданная дезорганизация не продлилась слишком долго. И даже более того: наши земноводные весьма оперативно справились с первым эффектом детской неожиданности. Причём, правильный пример, как всегда, показали сверху, из окружения нового вождя. Даже после громкого (с плеском) августовского 1991 года падения елового полена в застылое болото у дна почти ничего не изменилось. Не наступило никакой перетряски прежних кланов. Не последовало элементарной чистки в нестройных рядах ветчинных рыл.[9] И даже более того: гомеопатическая встряска оказалась весьма полезной для «дряблых и заскорузлых», — исключительно на будущее: чтобы меньше зевать и учиться делить пирожок по-новому. Короче говоря, нерушимый союз творческих и нетворческих кланов остался целым и невредимым. — А значит, всё в порядке, понимай трубу правильно: с новой властью можно было жить дальше..., как прежде. Или, на крайний случай, почти так же...[комм. 4]
Вероятно, не имело (бы) смысла начинать заупокойную мессу со столь подробной полит’информации о размерах и свойствах какой-то предельно узкой щели..., зазоре или промежутке (191) между двумя чугунными статуями одного истукана, если бы она, эта щель, не родила, в свою очередь, мышь..., — или даже муху, по старой традиции тут же ставшую вровень с вашим слоном... — Тем более наглядно, если рассматривать её (его) в рамках одного эссе, находящегося здесь, поперёк этой страницы. Эссе, которого бы не было... в противном случае.[10] Потому что..., как следствие, в этом блюде фатальным образом не доставало бы ни одного из ингредиентов, случайно сложившихся в том месте и в тот час. Отвязанный комозитор, свободная газета, открытый интервьюер... — Как минимум, они трое не сошлись бы в этой точке, которой (бы) попросту не было. К слову сказать, именно этот, 1991 год стал высшей точкой в послужном списке ленинградской газеты «Смена», которая мало-помалу, пробуя почву под ногами, вырвалась в авангард «расширения границ гласности». К 1990 году репутация издания стала окончательно «левой», читай: демократической, а тиражи (впрочем, здесь я немного опасаюсь соврать) достигли каких-то олимпийских рекордов. Стыдно признаться, но даже я, человек принципиально не’газетный, в то время выписывал (!) «Смену» — ничуть не предполагая, что в какой-то странный денёк обнаружу там про’странное интервью — с самим собой. А поверх него, спустя немного времени — прости господи, — второе, третье, а затем ещё всякие заметки, статьи и прочие измышления... — Впрочем, сразу остановлю мусорный поток своих слов: продолжение было не слишком-то длинным. Почему? — я уже сказал. «Секунда, другая... и снова плесень затянула поверхность прежним жухлым ковром. И спустя минуту на месте узкого водного зеркала осталась только едва угадывающаяся трещинка: место, в котором налёт прежней тины был ещё не столь плотным...» Не прошло и двух лет, как внезапная «Смена» была сызнова затянута болотом и поглощена спохватившимися кланами. Чтобы здесь больше ничего не торчало. К сожалению, эту эпическую картину я помню немного подробнее, чем хотелось бы. Но, впрочем, — довольно о пустом. В конце концов, не пора ли оставить в стороне всё несущественное... или хотя бы второ’степенное?..[11]
|
А зачем Вам вообще-то фамилия?.. — первым делом вместо знакомства поинтересовался я у него по телефону, когда он спокойно и обстоятельно представился по всем правилам этикета и этикетки. — Ну да, в самом деле, для чего Вам ещё и фамилия (Максимов), если Вы и так уже «Максим»?..[13] Мне кажется, в таких случаях было бы вернее сразу же отсекать от статуи всё лишнее, ещё на предварительной стадии. Как говорится, достаточно одного, главного. Основного. Эссе из паспорта...
Максим Максимов, — ещё раз повторю для тех, кто (как всегда) не заметил... — Его замечательное тавтологическое имя не просто так поставлено здесь на верху текста и во главе угла. И не просто как одного из авторов газетной «Музыки эмбрионов», причём, дважды автора, по максимуму.[комм. 5] Пожалуй, если бы не это обстоятельство (времени и места действия)..., если бы не он один, я бы никогда не поспел взяться за публикацию этого, в принципе, не слишком-то большого текста, вдобавок — частично уже опубликованного почти тридцать лет на зад. Текст этот, говоря исключительно между нами, сразу же стал первым и пред’последним в нашей совместной «карьере» (сразу же, с места в карьер), — точно так же, как и тá встреча, за пять дней до концерта. Между тем, безнадёжно поставленное здесь прошедшее время не только объяснило всё, но и попросту — принудило меня взяться за стило & стилет. Буквально говоря — принудило, взяв за шкирку (как котёнка) и наклонив сюда, к этой рукописной (нерукотворной) странице.[комм. 6] Потому что... не припомню ещё одного такого текста, над которым мне настолько тяжело было работать, выдавливая из себя по каплям не только прошлое время вместе с нутряной сывороткой,[14] но также и бес’предельное отвращение — к тому (бес)человеческому миру, в котором пришлось всё это, напрасное — пережить, а затем, спустя полтора десятка лет, оглянувшись — зачем-то вспомнить и ещё раз вернуть, напоследок...[комм. 7] Словно и без того — мало было. Не хватило, значит...
Скажу сразу..., как точку поставлю. Или зарубку. Наше с Максимом «общение» (при жизни) не отличалось ни регулярностью, ни близостью (разве только скрытой, неявной..., где-то глубоко под кожей). Слишком уж разные у него оказались... две стороны. Силы суеты и отталкивания, как всегда, побеждали с громадным перевесом.[комм. 8] Но чтó в нём очевидно было, так это его исключительность, — от слова «исключение». Не говоря уже о редком недоумении — смотреть на самого себя издали, через другого как в телескоп — на ко(с)мическое тело тринадцатой величины. С одной стороны, и сам Максим, краснея и пожимая плечами так, что они почти прилипали к ушам, повторял, что со мной «прыгает выше головы». Или как на минном поле... Это было совсем не его дело: современная музыка, да ещё и «композитор» какой-то заумный, у которого всё «не просто так», а с винтом (левая резьба, кажется), да ещё и с «идеологией» в’придачу, — будто нам за советские годы её не хватило. Но с другой стороны, мои эксцентрические опыты (музыкальные и даже литературные) вызывали у него удивление. — Вы же классик, — сказал он мне сухо, почти нелюбезно, — только они все, кого мы обычно так называем, — давно умерли, а Вы наоборот, только родились. Анахронизм какой-то. Как будто дверью ошибся... — А когда он (для знакомства с предметом) попросил послушать «что-то из неизданного», первым номером я поставил ему «что попроще» — песню о вступлении — и не ошибся. Не зря эта вещь, впервые прозвучавшая в московском ДК завода имени Ильича, где (выражаясь словами Максима) — «ни одного музыканта» — сорвала и аплодисменты, и хохот, и свист.[15] Попадание было точным, дёшево и сердито: как хочешь, так и толкуй. Только после этого номера Максим слегка расслабился и сказал: «ну спасибо, кажется, теперь я понимаю, как сделать интервью, а то шёл и думал: слишком сложно, ничего не понимаю, не получится...» — В ответ настала и моя очередь пожать плечами: «честно говоря, не вижу вопроса, Максим. Как может интервью не получиться? Даже если Вы ни слова не поймёте, я всё скажу, что надо. И потом ещё добавлю сверху свои пять копеек...» — Он только рукой отмахнулся: «но я-то должен понимать, о чём мы говорим, а не сидеть как статист». — Кажется, здесь уже можно было подводить статист(и)ку...
|
Восьмого мая Максим аккуратно позвонил и сообщил, что интервью выйдет — завтра. Вежливость королей!.. «Это что такое, в праздник, что ли?» — мрачно осведомился я. «Да, это похоже на победу, чудо какое-то в Вашем стиле, и материал не резали, почти целая полоса получилась...» — «Но там же у нас ни слова о девятом мая!.., кто из нас пьян?..» — «Сам не ожидал, почему-то оставили...» — подтвердил Максим. Так наше интервью и вышло в их праздник: с портретом Сати и крупным заголовком: «Музыка эмбрионов». И ни слова о «велiкой победе» советского народа над полчищами фашистско-японских извергов. Кажется, это называется ан-шлаг!..., — очень к месту. Тем более, мягкому.[комм. 9] На концерте 13 мая зал был забит до отказа, люди сидели в проходах и на полу перед сценой. С нашей лёгкой руки Эрик-Альфред-Лесли начал своё возвращение сюда..., куда меньше всего хотелось бы возвращаться.[комм. 10] Чуть не половину концерта я провёл с тоскливым и острым ощущением, что «пора кончать»: Jedem das Seine. В конце концов, не врал же я Максиму (всего неделей ранее), что «каждый должен заниматься своим делом» (а не чужим, к примеру).[17] недолго..., очень недолго ещё мне удастся заставлять себя откалывать подобные засушенные номера. Месяц, другой..., в общем, больше полугода я в таком духе не протяну. Ещё два-три концерта, от силы — четыре и всё, allez!..[18] Крышка должна быть закрыта. Тем более — фонтан (& К°).[19] Разумеется, при последнем телефонном разговоре («последнем» — после того концерта) я сказал Максиму об этом. Скупо, буквально в двух словах. — Я вижу, Вы это серьёзно, — почти промолчал он. — В качестве шутки это было бы не слишком остроумно, — на всякий случай ответил я. — Глупо говорить: «жаль», тут Вы в своём праве, но может быть, я что-то ещё придумаю, — добавил он напоследок. И в самом деле, почему бы и нет?.. В конце концов, чем чорт не шутит...
Казалось бы, за такой срок много можно было успеть.[комм. 11] Или хотя бы кое-что... Но нет, — противу ожиданий, снова получилась обыкновенная история.[20] Ещё одна. Жизнь опять победила суть неизвестным науке способом.[21] Тошно загибать пальцы: сколько раз мне пришлось наблюдать (исключительно издалека) историю полного растворения очередного лица — в породившей его материнской субстанции. — Одна случайная встреча (почти чудом) и ещё три телефонных звонка.[комм. 12] — Пожалуй, это и есть всё, что я мог бы перечислить в нашем с Максимом «активе» (начиная с июня 1991 года). А ещё: оборванная история ещё одного несостоявшегося намерения. И такой же жизни, вероятно. — Думаю, при немного иной картине биографического материала, перечисленного набора с лихвой хватило бы для целой повести. Или хотя бы — отдельной максимально максимовой странички, затерянной здесь, между прочих страниц.[комм. 13] Однако, принимая во внимание все обстоятельства времени и места действия, оставлю место только для двух маленьких диалогов: предпоследнего и последнего... А если говорить точнее, то фрагментов из диалогов, фактически, этаких маленьких телефонных огрызочков..., пардон, — я хотел сказать, — эссе не’цензурного порядка. Двух из пяти, если (кому-то) ещё не вполне ясно. — Как сейчас помню, телефонный звонок (я корпел над последним актом Заратуштры, потому, видимо и голос у меня был не слишком-то приветлив). Максим зачем-то представился (а то я бы его не узнал!..),[комм. 14] да ещё и дважды, как всегда. — В ответ я тоже почти (не)любезно представился как «Юрий Юрьев». Максим фыркнул и дальше добавил, почти оффициально, как будто я из отдела кадров.
— Вот, хотел Вам сообщить, что я наконец-то ушёл из «Смены».[комм. 15]
— Это замечательная новость для той же газеты в отдел криминальной хроники, — мрачно отозвался я, — а можно ли поинтересоваться: ради кого Вы бросили эту „синекуру“?..
— Теперь у меня всё в «ажуре», Вы, наверное, не знаете, это агентство журналистских расследований, — коротко пояснил он.
— Что за чёрт, Максим, сменяли шило на мыло. И чего расследовать будем? Чиновников, бандюков, красные пиджаки, челноки, купи-продай?..
— Нет, пока не знаю. Мне там ничего расследовать пока не полагается.
— Значит, недалеко ушли, секретаршей работаете?.., при уголовно-культурных текстах. Это очень хорошо, так бы и всегда, — ещё мрачнее заметил я.
— Чего же «хорошего»? — как-то тускло переспросил Максим.
— А тогó «хорошо», что совсем не слéд Вам копаться в человеческой грязи. Как и мне. Есть люди, которые по своему характеру вполне могут работать хирургами, санитарами или в морге, а есть и другие, которым лучше цветы нюхать... в зоопарке. Флоксы, например... — последние слова я говорил уже почти раздражённо.[комм. 16]
— А почему Вы так думаете, что мне нельзя? — зачем-то переспросил он. Без особого интереса, как мне показалось...
— Вы знаете, Максим, есть у меня одно мерзкое качество, среди прочих. Для меня мерзкое. Когда в меня кидают какой-то дрянью или бьют, я никогда не уклоняюсь от удара. Мне хорошо известно об этом своём качестве, поэтому я и предпочитаю — не лезть. Просто сижу дома и пишу партитуры. Много. Вот, уже за седьмой десяток перевалило. Да..., и у Вас, кстати, тоже имеется такое славное качество... <...>
|
Точной даты, когда он позвонил в последний раз, я не помню. — Вероятно, прошло лет пять или немного больше, это был конец зимы, наверное. К тому времени я жил уже совсем в другом мире. Работа с локальными партитурами была давно закончена и начался последний выход — прямым ходом в Карманную Мистерию. Но наш разговор как будто начался с того же места (и он снова представился, неисправимый человек)...
— Вот, хотел сообщить, что ушёл из «ажура», ведь Вы были против... — начал он как-то рассеянно.
— Не обращайте внимания, Максим, я всегда против, Вы не помните, что ли?.. Ведь это у Вас уже не первая «смена»...
— Но я не по тому поводу звоню. Хотел спросить, в каком состоянии находятся Ваши партитуры? Вы ещё не все уничтожили?
— Нет, Максим, я только нáчал... это богоугодное дело. Ещё кое-что завалялось. В углу...
— Это прекрасно. Я надеюсь, у меня будет к Вам кое-какое дело. Только не сейчас, я немного заранее, узнать хотел. Может быть, через полгода. Или к осени. В общем, я позвоню. Пожалуйста, пока не очень торопитесь с уничтожением...
— Хорошо, Максим. Мы здесь прислушаемся к Вашей просьбе. Но скажите, почему Вы так быстро ушли из «ажура»? Вас разочаровали бандюки?.. Помнится, в «Смене» Вы как-то дольше просидели, в рамках «культуры»...
— Это не слишком приятная история. Тем более, зная Ваше отношение. Так что скажу очень коротко... <...>
И он сказал, — в самом деле, очень коротко... В двух словах. А затем, как всегда, покраснев (по крайней мере, мне так было видно отсюда), распрощался и вышел...
Прошло несколько месяцев. Потом — полгода. И ещё полгода. А потом ещё год, наверное. И ещё два... Максим больше не звонил, хотя это был первый случай в наших с ним «отношениях», со всех сторон первый. И в первый раз он сказал: «я позвоню». И в первый раз — не позвонил. Конечно, я всё помнил, как всегда, я не забыл о его словах... К сожалению, при жизни я (был) лишён этой щасливой способности: забывать. Тем более — так скоро. А потому и не забывал. Ни свои, ни чужие. Слова. Но за всю свою биографию поэта..., я слишком привык и никогда не мог привыкнуть к тому, что они..., практически все..., как Правило, — говорят и забывают. Обещают и пропадают. В суете. Или небрежении. Все (пропадают)... Или как все... — Очень жаль, думалось. Снова жаль.[комм. 17] — А потом..., это было спустя почти пять лет, в какой-то из светлых человеческих дней, я не выдержал... и — набрал в поисковой строке: «Максим Максимов, журналист». Затем нажал кнопку: enter. И только тогда узнал..., — и только тогда до меня дошло: чтó всё-таки произошло. Тогда. Пять лет назад. И спустя несколько месяцев после его звонка. Последнего звонка. В самом деле. Как в сказке... — Да, он был убит. Не бандитами... Ментáми.[23] И тело его они хорошо спрятали: профессионально, дважды. До сих пор не нашли (тело). Пропал: словно и не было на этом свете никакого Максима... Максимова. Дважды не было. А то и трижды, как теперь выясняется. — Вот тебе, бабушка, значит, и музыка эмбрионов...
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
— Вот с чего мне пришло в голову начать разговор.[комм. 20] Ваше нынешнее положение как-то не очень походит на нормальных советских композиторов, на ту обычную картину, к которой мы все давно привыкли. В общем, выглядит странно. Это даже и понять как-то не просто. Имя Ваше достаточно известно, причём даже в кругах отнюдь не музыкальных. Но при этом почти никто, кого ни спроси, не знает Вашей музыки, — разве что кроме той немногой, наверное, которая осталась в сокуровских «Днях затмения» и «Спаси и сохрани». К примеру, меня Вы сейчас просветили, спасибо, дали послушать всё, что я попросил. Это оказалось совершенно не похоже на Ваши кино-опусы. Но простите: кому это известно? Никто Вашей музыки не слышит. Остальные люди..., вся остальная-то публика не придёт к Вам домой за тем же. Не сможет. Да и не поместятся тут все. Скажите, почему Вы так редко даёте концерты?
— Ну-у-у-у..., я вижу Вы сразу заупокой начали, Максим. Это вопрос явно не по адресу. Вот скажите на милость, чтó бы Вы мне ответили, если бы я вдруг спросил: а почему Вы до сих пор не женаты?.. И чего Вы улыбаетесь как Джоконда? Я Вас совершенно серьёзно спрашиваю. Как перед аналоем. Отвечайте.
— Не понимаю, кто тут у кого берёт интервью... Ну скажем, не женился, потому что нé на ком было. И некогда.
— Вот! Отличный ответ, совсем как в пятом классе школы. И я Вам тоже могу, в свою очередь, ответить то же самое: «не на ком» и «некогда». А что думали: Вы один такой умный на свете?.. «Не на ком...» Смотрите сами, Вы меня с важным видом спрашиваете: «почему я так редко даю концерты?» Глядя на Ваше лицо, можно всерьёз подумать, что концерты — это что-то вроде променады, и их с лёгкостью можно давать таким же образом, как я пишу свои бесконечные партитуры, в полном одиночестве, в подворотне или даже на свинячьих выселках..., в Шушарах где-нибудь или в лесу под Левашово. Такой вот концерт, понимаешь, раз плюнуть, вышел по малой нужде с собакой, поднял ногу — и дело в шляпе!.. Это же среда, Максим. Понимаете, есть в русском языке такое простое слово: «среда» (не вторник, нет). Каждый человек, так или иначе, проводит свою жизнь в ней, в среде. Редко кто — по колено или по пояс. В основном — по шею. Так вот, без среды этой, профессиональной в частности, нельзя дать ни одного концерта. Он даётся там, в среде, для среды, силами среды и вообще, это совершенно «средовое» дело. А теперь поглядите хорошенько на меня. Видите ли Вы вокруг меня какую-то среду? Или нет? — вот именно! Вы не женились, потому что Вам было «не на ком», а у меня, может быть, есть на ком жениться, но «зато» среды никакой нет, тем более, для концерта. То есть, я безо всяких затруднений могу давать его каждый вечер или, скажем, по средам. Но только — в полном одиночестве. Вот здесь, между креслом и пианино. В совершенной пустоте. Понимаете, ещё со школы я так поставил себя, что я не один из них. А это очень тяжёлый случай, когда речь идёт об академической музыке. Тут всё залито бетоном и регламентировано до такой степени, что не продохнуть. И среда профессиональная и гомогенная до крайности, как в муравейнике. Вне этой среды мало что имеет смысл. Сыграть какую-нибудь Среднюю симфонию — оркестр нужен. И филармония. И афиши. И публика важная, которая даже ходит так, будто у них запор. А если без оркестра, без филармонии, без афиш и публики, то это уже не симфония, а предельно неясное «ничего с хвостом». Ну представьте себе, это как если бы сыграть сентиментальный романс Чайковского каким-нибудь гогеновским папуасам, аккомпанируя себе на дырявой тыкве. Интересно, и чтó они должны понять из этого набора звуков, совершенно чужого для них?.. Понятное дело, я утрирую. Но попробуйте, подойдите со своим вопросом к какому-нибудь из наших музыкально-номенклатурных прыщей, например, к Темир-Хану или Султан-Гирею, почему-мол у них «так редко мои концерты», практически, никогда. Думаю, получите такую реакцию, что будет почище папуасов. Очень наглядную. А между тем, это очень даже уместно, именно у них это и надо спрашивать. Там все причины, как ни крути. Это очень плотная музыкальная клака, они никого чужого не подпускают к своей драгоценной кормушке, у них ничего кроме неё нет. Это главная их ценность. Столько лет они подбирались к ней, прошли все стадии этой стайной иерархии, постепенно разгибаясь и вставая с четверенек: от ученика, почти раба, до господина и учителя, местечкового «Шах-ин-Шаха»... Теперь они всё решают: у кого будут концерты, а у кого — только Ваш немой вопрос. Я же с самого начала отказался проходить обязательный путь. Не кланялся. Не подносил блюдечко. Не делал губки бантиком. И главное: отказался им служить, как принято.[27] Без этого у них ничего не бывает. Вы думаете, меня просто так отовсюду выгоняли? Я ведь и диплом-то <их сраный> только чистым чудом получил. По «недосмотру». Но теперь-то уж они такой слабости не повторят.[комм. 21]
— Ну ладно, тогда мой первый вопрос снимается, считайте, я поторопился немного...
— Погодите, Максим, и не «торопитесь» снова, я ведь ещё даже и не начал отвечать на Ваш вопрос. Я же отлично понимаю, что «Смена» — это наша ленинградская газета, а не отвязанный «Огонёк» какой-нибудь, так что мою ругань в адрес местных авторитетов всё равно не опубликуют. Но кроме внешней причины, о которой я говорил, тут есть ещё и вторая, куда более важная. Потому что она — внутренняя, внутри. Вот глядите сами, Максим. Как говорится, «следите за руками»... Вы спрашиваете у меня на голубом глазу, «почему я так редко устраиваю свои концерты», — как будто позабыли, к кому Вы пришли и с кем здесь разговариваете. Ну..., скажите, ктó я такóй, по Вашему? Композитор?.. А чтó это за профессия? — прошу прощения за мой скотский тон. Чтобы не углубляться в дебри, скажу просто: это автор музыки. Человек, который её сочиняет. Понимаете, со-чи-ня-ет. А не исполняет. Вот в чём соль... Наверное..., это я так очень мягко скажу, каждый должен заниматься своим делом. Моё дело — работать, писáть свои бесконечные партитуры... Видите: вот мой стол, вот пианино. Передо мной чистый лист, пустота, воздух. Я сажусь за бумагу, беру карандаш и делаю из воздуха то, чего раньше не было. На бумаге. Карандашом.[комм. 22] А колебания воздуха делать — это совсем другая профессия. Она называется «исполнитель», а не композитор. Только что я Вам перечислил всяких крупных животных ленинградского небосклона. Вот они и есть — исполнители. Те самые, о которых Вы спрашивали. Понимаете, я не занимаюсь, не хочу и не могу заниматься устройством собственных концертов. Это попросту неправильно было бы, расточительная роскошь. Я иду на это кислое дело только тогда, когда мне садятся на шею, «давай-давай», и попросту вынуждают. Хотя, в принципе, я знаю, что точно такой же концерт даже с моей программой, но без моего участия, по выражению очевидцев, теряет где-то девяносто процентов своей притягательной силы, поскольку самим своим появлением на сцене я концерт превращаю в другую жизнь, нечто вроде события, хэппенинга... И всё же, я повторяю: это не моё дело. Устраивать концерты — значит тратить силы на пустую ерунду вместо того, чтобы делать настоящее, главное. То дело, которое только я один и смогу сделать.[28] — Но здесь я сразу оговорюсь. Ведь у нас-то с Вами разговор затеян по совершенно конкретному поводу. Это первый концерт Сати. Событие. И здесь — совсем другое дело, потому что это даже и не концерт никакой, а мечта. Как раз вот этот концерт «Эрик Сати — Юрий Ханон», я мечтал сделать в течение десяти лет, считайте: с бессознательного детства.[комм. 23]
|
— Так долго? И что же Вам мешало?
— Всего «одно» обстоятельство — то, что Эрика Сати совершенно не знают в Советском Союзе.[комм. 24] А между прочим, это человек, самым наглым образом перевернувший всю музыку двадцатого века с ног на голову. Ноты Сати в Союзе не издавались. До тех пор, пока это не сделала моя бабушка в сборнике детских пьес.[комм. 25] Ещё несколько его мелких вещиц случайно просочились в разные издания...[30] Сати практически безвылазно находился в придавленном состоянии, как «подпольный композитор» или андеграунд какой-то. Поверьте, в моих словах нет никакого преувеличения. Даже я сам его узнал не благодаря, а вопреки, буквально по случаю. Но что мне Вас тут пропагандировать, разве один Сати попал под пресс? Вспомнить, какой шикарной чистке и «раскулачиванию» подверглись в начале 1930-х годов хотя бы минимально «левые» композиторы, писатели, художники... Что уж тут по волосам напрасно плакать, когда повсюду — одна зияющая лысина, почти как у Сати.
Правда, было одно исключение: та же убогая до предела профессиональная среда, по которой я уже сегодня прошёлся. В нашем музыковедении просто так обойти молчанием фигуру Сати не могли. Слишком многое и слишком многие с ним были связаны в начале XX века. Дебюсси, Стравинский, Равель, Дягилев, Пикассо, Пуленк... Знаете, это как пустое место на фотографии получается: все, вроде, на месте, а посередине дырка. Эй, а кто там у вас подтёрт на бумажке? В истории искусства так не полагается: врать можно до хрипоты, это сколько угодно, а вот просто умолчать — очень трудно, для такого поступка уже определённый героизм требуется. Типа: сокрытие преступления. А герои у нас, сами знаете, в дефиците. Зато профессиональных ничтожеств — хоть отбавляй. Всякий потихоньку окучивает свою грядку, может быть, чего и вырастет. Вот так у меня и получилось. — Десять лет назад в одной из книжек нашего консерваторского профессора Филенко о французской музыке я раскопал Сати — в точности такого, как он есть.[31] Хотя это было нелегко, конечно. Пришлось мне своеобразное уравнение решать, потому что всякий профессионал подобен флюсу,[32] тем более, наш, доморощенный, с советской социалистической закваской. Такой старой тётеньке понять Сати совсем не под силу. И вот она, бедная, то врала как могла, то отчаянно пыталась изобрести гаечный ключ на пустом месте, чтобы хоть как-то «объяснить необъяснимое». Но зато во всём этом была ценная информация. И вот, по отношению заранее известной мне величины, советского нормативного музыковеда к некоей величине «Икс» (Эрику Сати), музыки которого я толком не знал, мне уже удалось понять, насколько это экстраординарное, выходящее из ряда вон явление. И ещё вóт что я понял: что Эрик Сати является моим духовным отцом. Это было прекрасное открытие. До того момента я непрерывно учился только у Александра Николаевича Скрябина. На его музыке учился, и на личном примере жизни человека, собиравшегося уничтожить всё человечество.[33] Но, в отличие от Скрябина, Эрик Сати был и остаётся совершенно неизвестен. Даже у меня перед глазами и ушами не было ни его музыки, ни его личного примера. Только какие-то благие глупости, написанные музыковедами. Вот на них-то я и учился. На глупостях. И видите, что получилось?
— Кажется, кое-что вижу. Занятная история получается. Но давайте подойдём ближе к вашему совместному концерту...
— Сейчас подойдём. Слава богу, мы не опаздываем, у нас ещё неделя остаётся в запасе, чтобы до дома архитекторов добраться. Понимаете, это как в той истории про дырку в фотографии. Годы шли, конопатый вождь оставался на своём старом месте, а людей вокруг него постепенно убирали..., во всех смыслах слова. А с Сати получилось в точности наоборот. Массовка вокруг него очень плотная, целая толпа знаменитостей всяких друг другу в затылок дышат, а его одного среди них почему-то нет. Какая-то персона нон грата, получается. Вот смотрите: чаще всего его знают как вождя французской «Шестёрки», вместе с Жаном Кокто придуманной. Но при этом абсолютно никто не подозревает, что вся история музыки XX века переполнена именами многочисленных подражателей и эпигонов Сати, которые гораздо больше известны, чем он сам.[4] И никто их эпигонами не считает..., потому что Сати на этой фотографии опять нет.
|
— А можно немножко конкретнее? Кого Вы имеете в виду под этими «знаменитыми эпигонами»?
— Не беспокойтесь, Максим. Я имею в виду очень даже конкретных лиц, которые известны всем высококультурным читателям «Смены». Но называть их сейчас неосмысленно. Стоит ли попусту мелочиться, вдаваться в подробности? Тем более, что я уже половину из них назвал, только что. Если кто хочет — пускай придёт на концерт, я непременно расскажу об этом. Всё как на духу выложу. Вместе со скелетами из шкафа моей бабушки.
У нас музыка Сати время от времени звучала в концертах типа «Эрик Сати и «Шестёрка» — жалкие огрызки какие-нибудь, по одному-два мелких сочинения в подобном соусе, почти оскорбительном. Ведь соседством, контекстом можно испоганить и оскопить всё что угодно. «Джоконда» только в золотой раме и в Лувре — шедевр, а в каком-нибудь бюро сомнительных знакомств — не более чем банальная реклама толстой тётеньки. Так и здесь. Пресловутая «Шестёрка» — это, по-моему, просто жмых, обезвреженные музыкальные оплёвки от Сати, и я бы никогда не ставил их рядом, чтобы не портить оригинал бледными копиями. Впрочем, здесь не до жиру, и на том спасибо. Если бы не такие мелочные концертики, Сати и совсем бы не звучал.
Потом и у меня ещё были кое-какие попытки выстрелить, — ещё в студенческие времена я делал несколько концертов локального характера. Году в 86-м в Консерватории я оккупировал второе отделение одного концерта — там был исполнен цикл Мийо «Сельскохозяйственные машины», между прочим, — впервые на русском языке. Если не знаете, я для Вас скажу несколько слов в пояснение, «Сельскохозяйственные машины» — это такой технический вокальный цикл начала 1920-х годов, в модном тогда конструктивистском духе, тоже, кстати, изобретённом Сати. Дариус Мийо (он был самый левый из «Шестёрки») положил на музыку текст каталога со всемирной французской выставки, в котором деловито описывается жатка, сноповязалка, молотилка, лобогрейка и прочие крестьянские приспособления. А на закуску, после Мийо прозвучало ещё несколько сочинений Сати в моей редакции или аранжировке, если угодно: для контрабаса, арфы и флейты с некоторыми ударными эффектами, что в лоб, что по лбу. Ну и сам я тоже кое-что поиграл для финального аккорда, с издёвкой. И несмотря на то, что все спали в течение предыдущего концерта, — как только я вылез на сцену, в зале понемногу началось какое-то нездоровое оживление, а затем стало твориться что-то невообразимое. Никак я не ожидал подобного эффекта и даже не думал, как это получится. Тем более, и публики-то было совсем немного, как обычно.[комм. 26] В конце нашего выступления нам устроили такие овации, что мне пришлось замахнуться стулом на зал, — напомнив, ради порядка, что нужно продолжать нормальный концерт, и другие исполнителя должны были сыграть своего Брамса для последующего засыпания кроликов...
— А как Вы можете объяснить: почему так получилось?
— Почему так? Ну, наверное, потому что люди, взращённые на стерильном Чайковском и сто раз жёваном Бетховене, — впервые неожиданно для себя, слушая музыку, услышали что-то кроме музыки. Не тот обычный набор звуков, красивый или не очень, яркий или тусклый, а ещё и какую-то мысль, не совпадающую с привычным представлением, что такое концерт, кто такие академические музыканты и что от них можно ожидать. Это была провокация, подмена, фокус. Понимаете, почти испуг, эффект детской неожиданности. Вместо пустого колыхания воздуха на них вылезла со сцены какая-то пика, алебарда с бородой! Понимаете, они ждали музыки, а вместо неё вдруг — какой-то огурец с пистоном. Неосторожным движением я нарушил их привычную скуку, за которой они обычно ходят на концерт. Иначе и быть не могло. Попросту я не умею делать «что положено» и «как положено». С детства не умею. И в школе не умел. И после школы. И сейчас опять не умею. После того, как меня выгнали из консерватории, я даже написал такую сюиту для оркестра под названием «Что положено». И снова у меня ничего не получилось. Ведь и поперёк течения тоже нужно уметь плавать, чтобы не просто пузыри получались, а что-то — ценное, настоящее. Эту науку я усвоил от своих дорогих учителей, конечно, я опять про Сати и Скрябина. Они оба на вес золота, потому что таких отщепенцев — днём с огнём не сыщешь. Таких всегда песочили, воспитывали, выгоняли, вытравливали... Или сразу на виселицу или на костёр, — высшая мера, чтобы зря не возиться, время на них не тратить.[35]
Когда Сати или Скрябин писали музыку, они при этом внедряли, насильно впихивали в неё элементы совершенно чуждые как человеку, так и самóй музыке. При написании своих сочинений они на самом деле занимались чем-то совсем другим. И желали чего-то совсем другого.[36]
|
— То есть они, с Вашей точки зрения, в первую очередь ставили перед собой какие-то другие, немузыкальные задачи?
— Безусловно! Не-музыкальные... И вне-музыкальные.[28] Скрябин, насколько известно, считал себя мессией (это я так специально огрубляю только ради газетной краткости), он должен был путём своей Мистерии вмешаться в цикл развития человечества и мира, чтобы прервать его. Это как бы макро’мир получается, вмешательство в космос. А Эрик Сати, напротив, при написании музыки занимался сведением счётов со своей собственной жизнью. Когда слушаешь его сочинения, там слышна не музыка, не просто звуки, а краткая история его взаимоотношений со всей окружающей его культурой, людьми, стилями. Это, значит, микро’мир, глядя на него хочется микроскоп вытащить. Или шляпу снять...
— Если у Вас такие два учителя, то какие же задачи ставите перед собой Вы?
— Скажем просто и скромно: я, наверное, ставлю задачу как раз промежуточную между Скрябиным и Сати. Как примерный ученик: и того — и другого.
— Её можно как-то сформулировать?
— Наверное. Если хотите — сформулируйте, я не возражаю. По крайней мере, я — это — уже давно для себя сделал. Иначе, уж можете мне поверить, я никогда бы не начал сочинять музыку. Крайне идиотское и убогое занятие, если нет цели. Нет, я так не умею. Сначала идея и только потом — её звуки. Так что — дерзайте, теперь мне будет очень интересно узнать, чтó Вы за меня придумаете. Но только должен предупредить Вас кое о чём... Как Вы знаете, Скрябин уже мёртв. И Сати тоже отдыхает давно. Отмучался. Поэтому подождите, пожалуйста, пока и я тоже откинусь..., в смысле, умру. И постарайтесь при этом сам не перегнать меня в гонке на тот свет. Иначе у нас с Вами ничего не срастётся. Смотрите, как мы всё устроим: за пару дней до своей смерти я Вам позвоню и предупрежу обо всём. Поставлю будильник, чтобы Вы не проспали. Время, место, диагноз... А затем ещё шепну несколько слов о главном. И письменно тоже. Обязательно. Я оставлю в заранее условленном месте полное пособие по мысли, там всё будет записано чин чином... А сейчас пока рано. К тому же основные мои фундаментальные сочинения не исполнены, их мало кто слышал. Это мягко выражаясь. Так что не вижу смысла попусту колыхать воздух своими микроскопически-грандиозными идеями, пока они сами как следует не настучали по куполу. А может быть, после их приведения в исполнение уже и объяснять ничего не потребуется. Вы не предусматриваете такого варианта?
— Концерт будет первым серьёзным знакомством нашей публики с Сати?
— А Вы, Максим, совершенно напрасно уклоняетесь от моего последнего предложения и делаете такой вид, будто я пошутил..., или ничего не сказал. Вовсе нет. Можете поверить, такое — уникально, бывает только один раз, и больше никогда не повторяется. И кстати, очень часто бывает, что слова, которые Вам кажутся несерьёзными — могут составить большой фундамент на будущее; а другие, как будто бы заманчивые и вполне реальные на вид предложения — на деле пшик или провал. Нет ничего хуже человеческих будней и здравомыслия, Максим. Через них так опускаешься и вляпываешься в их человеческую беспросветность и грязь, что потóм уже и хотел бы вылезти, да никак невозможно. Главное, не начинать. Как там у старика-Конфуция?.., первый шаг младенца — это первый шаг к смерти?[38]
— И всё-таки, Ваш концерт 13 мая — это первое серьёзное знакомство нашей публики с Эриком Сати?
— Ну, Вы ещё спрашиваете, Максим! Да, безусловно. Конечно! Это тридцать раз прецедент. И событие. Кол в горло всем злопыхателям и предателям. Я привёз ноты Эрика Сати из Голландии, полное собрание его вокальных сочинений.[39] Это для меня невероятное богатство. То совсем ничего не было, и вдруг — целый воз, пир горой. Моя добрейшая знакомая Тамара Иванова, прекрасный французский переводчик, сделала подстрочник, технический перевод.[комм. 27] А я по нему уже написал тексты — старался, причём, так, чтобы, по-первых, не искажать музыку <сохранить её тон>, а во-вторых, чтобы дать возможность слушателю уловить дух времени, дух и запах парижской тусовки начала века. В принципе, едва не половина песен Сати представляет собой кафешантаны. То есть, строго говоря, это примерно то же, что пела потóм Эдит Пиаф.[комм. 28] Но во времена раннего Сати ещё не было никакого телевидения, радио, пластинок и прочей шелухи, — всё это звучало прямо там, в кафе, да и то, если повезёт. Сати, в принципе, никогда не врастал в музыкальную среду, не мог врасти, и так было всю жизнь за исключением, разве что, последних лет жизни, его «старости». Он всю жизнь провёл тусовщиком и аккомпаниатором в кафе, от Монмартра до Аркея. Ну..., как бы это выразиться понятнее, как от нашей площади искусств до Колпино, от богемы „до рабочих до окраин“.[40] И всюду ему было нехорошо. И всюду он был чужой. Думаю, читателям «Смены» будет небезынтересно узнать... такой редкий факт для иностранного композитора, что вообще-то Сати был коммунистом с момента организации французской компартии (учётная карточка № 85761). Что являлось как бы облегчающим его «грехи» фактором при анализе его жизни советскими музыковедами: хоть и странный, хоть и непонятный, но вроде как «свой», коминтерновский. «Друг СССР» и прочая неправда. Это всё ерунда и болтовня, конечно, из той же серии будничного чернозёма.
|
— Почему же ерунда?
— Смешно потому что! Ну сравните сами, Максим, что такое, скажем, «коммунист» в России в 1913 году, в какие-нибудь лохматые времена царя Гороха II. — И что такое «коммунист» — сегодня, когда в райком партии только в пиджаке, с галстуком и верхом на жирном осле. А быть коммунистом во Франции, особенно после нашего 17-го года, означало примерно то же, что быть сюрреалистом, скандалистом, возмутителем спокойствия. Это такой эпатаж был. Выходишь на улицу, а у тебя на фраке табличка: «людоед». — «Ем буржуев» с костями и нижним бельём. Очень забавно.
— Насколько я знаю, для Вас коммунистическая идеология тоже имеет большое значение. Достаточно вспомнить ваш знаменитый, но, к сожалению, так и непоставленный балет по статье Ленина «Шаг вперёд — два назад», который я запомнил по Вашим предыдущим интервью. Можете ли Вы выделить что-то главное, чем Вас так привлекла коммунистическая идея?
— Да ничем не привлекла, Максим. Не смешите меня... Конечно, если Вам захочется, «выделить» я могу что угодно. Но здесь нет ни главного, ни второстепенного. Могу только ещё раз отправить Вас в начало нашего разговора. Нет никакой идеи, нет никакой идеологии.[42] Это же — среда, только среда и ничего больше. Среда в которой я вырос, жил и ещё продолжаю — между прочим, вместе с Вами. А вся их многотомная болтовня имеет для меня значение ничуть не большее, чем для Сати, хотя, в отличие от него, у меня даже «учётной карточки» нету. Давайте ещё раз повторим как урок, тем более, что после некоторых моих телепередач на эту тему хотелось бы немного уточнить акценты. Итак: для меня коммунистическая идеология не имеет никакого сущностного значения, но я как художник обязан сегодня считаться с тем, что она имеет значение среды для всего советского народа, и такие невыдающиеся исторические лица, как Ленин, Троцкий, Сталин, Каганович, Молотов и прочая банда для всех имеют и долго ещё будут иметь близкое, личностное звучание. Как жупел. Или фетиш.[43] Ни во что не вникая, ничего не понимая, но просто существуя в их среде. Как условный рефлекс: только произнесите абстрактную фамилию «ленин» — и тут же в глазах сразу отразится какое-то якобы понимание: «ага, знаю такого». Это их старая детская игрушка. А для меня, например, какой-нибудь грязный медведь на сцене гораздо теплее и ближе, чем их Ленин.[комм. 29]
— И всё же хотелось бы уточнить: в чём логика сопоставления в одной программе двух имён — Ханон и Сати?
— В том и логика. Ну..., Вы меня, конечно, ошпарили своим вопросом, Максим. Сногсшибательно. Это называется: проснулись, выскочили из окна, скакали, скакали, целый день скакали, лошадь вся в мыле, наконец, оглянулись и обнаружили, что и двух шагов не уехали. Вóт оно, окошко! И в нём рожа торчит... медвежья.
|
— Но я же не для себя спрашиваю. Вот человек, открывает газету, видит портрет Сати и спрашивает: а этот Ханон тут при чём?
— Ну..., я только с большим трудом могу себе представить этого „человека с газетой“, который знает Сати и... не знает меня. Сегодня тут у нас всё как в перевёрнутом мире. Помяните моё слово, лет через десять всё станет в точности наоборот. Этот Ваш «человек с газетой» про меня и думать позабудет, а Сати наоборот, постепенно станет очень даже известен.
— А почему это так должно быть?
— А потому, что я уже сказал: «почему». Среда, Максим. Профессионалы. Эти остолопы и ничтожества не успокоятся, пока не съедят меня живьём с костями. У них же других дел нету в жизни. Они со всем самозабвением будут устраивать этот коллективный «mein-kampf» против отщепенца. А у меня, простите, есть дела и поважнее, чем отмахиваться от комаров и вшей. Сам уйду. И «время выровняет все неровности почвы», — как сказано в торжественном финале одной моей повести.[45] Но я вернусь к Вашему вопросу. Тут, пожалуй, читатель очень сильно проигрывает слушателю. Вот Вы, например, — Вы уже кое-что слышали из моей музыки, но не знаете Сати. А какой-нибудь читатель «Смены», приятно себе представить такую сюрреалистическую картинку, совсем наоборот: он каждый вечер слушает Сати перед сном, но решительно ничего не знает о моей музыке. Пожалуй, в подобной ситуации одностороннего знания ещё и может возникнуть такой вопрос, как Вы задали: «Сати-Ханон, в чём логика сопоставления двух имён в одной программе». Но там, 13 мая в доме архангелов и архимандритов, где в концерте будут развёрнуты веером оба этих ренегата от музыки со своими параллельными выходками и причудами, там уже всё будет прозрачно слышно и видно. Как морковка в супе. Я думаю, у слушателей не возникнет никаких вопросов. Тем более, насчёт логики. Она, по-моему, вообще мало кого интересует.
— И всё же, давайте попробуем объяснить. Как в детском саду.
— Ну хорошо, если «как в детском саду»..., тогда я, пожалуй, немножко отступлю назад. До детского сада. Вот смотрите: я учился одиннадцать лет (!) в музыкальной школе, затем ещё пять лет в ордена Ленина краснознамённой Консерватории и всё время от музыкантов слышал о себе такую сказку: „вот он как бы очень талантлив, но путь-то неверный выбрал!“ Или немного иначе: „он идёт не вверх, как полагается в мастерстве, а вглубь роет. Кому-мол это надо!“ Или ещё вариант: „вот как бы всё это здорово и очень хорошо, но не этим надо заниматься, он же себя в тупик ставит, загоняет!..“ — А почему в тупик, интересно бы знать. Почему они вообще произносят такое слово? «Тупик». Чаще всего я в ответ произносил свою старую мысль, что „тупики только в головах человеческих бывают“.[46] Что скажешь «тупик», то и будет тебе тупик. Значит, сам упёрся как баран. А поверни рога чуть в сторону — и там советский простор неизбывный, гарцуй на всю необъятную Родину до линии горизонта! Вот смотрите, Максим, чтó такое тупик... Сейчас покажу на пальцах, очень просто и ясно. Ведь академическая музыка давно уже профессионализировалась до упора, она давно уже занимается вялым онанизмом![47] Кто ходит на концерты? В основном, сами профессионалы, музыканты. Они обсуждают друг друга, смотрят друг на друга, слушают друг друга, это замкнутое искусство, которое работает только в своём контексте. Причём, этот онанизм далеко не только в музыке победил, правило среды действует универсально, не буду сейчас углубляться... А у меня, как и у Сати, музыка — наоборот, это выход из себя, это — духовный пинцет. Им можно ковыряться. Можно воткнуть. Можно уцепить что-то. В нём есть диалог. Предметность. Вещи. — Есть вещи и вещи. — Вещие вещи. Не для профессионалов, понимаете, а для всех. Для любого с улицы. Для читателя «Смены», например. Или для Вас, как Вы говорите, «не понимающего современную музыку». Для тёти-Моти. Для осла без ушей. И все они, слушая эту музыку, будут прекрасно понимать, что это не про музыку музыка, что они слушают что-то другое, совершенно конкретное. Нет! Музыкантам это не интересно. Они служат, на работу ходят, играют, учат, «работники искусства». Они сидят в своём тупике, они упёрлись друг другу в задницу носом и ходят по кругу. Диез, бемоль, канифоль, техника игры, чушь собачья. А тут вдруг приходит какой-то наглец, молокосос и говорит им: эй!.., вы бессмысленные твари. Кончайте маяться дурью по должности и за зарплату. Разве это может понравиться? Разумеется, от такого «тупика» все сразу хотят избавиться. Перевоспитать, выгнать, обругать, запретить, забыть и притоптать холмик.[48] Но точно такой же был и Сати, только во Франции и на сто лет раньше. Это уникум, отдельное явление. И главное, если говорить уже с точки зрения музыки, так мне себя нé с кем более сопоставить. Только Сати. Если бы был, к примеру, такой концерт: «Александр Скрябин и Юрий Ханон», — я, наверное, это когда-нибудь сделаю, — то он представлял бы собой гораздо больше парадоксов и недоумения при взгляде со стороны. Потому что Скрябин и Ханон — это две величины, которые по музыке для этих тупичков-музыкантов уже совершенно несопоставимы. Само по себе, такое соседство уже выглядит как выходка. Выверт!.., как бы сказал Ильич.[49]
|
— А если Ханон и Сати — это не «выверт»?
— А вот они как раз сопоставимы и по музыке, я же сразу Вам сказал. И главное: они оба <обои>, сами по себе — «выверт»!..[51] Вот у меня как-то был концерт в Юсуповском дворце, с оркестром. Правда, не я его устраивал. И даже не участвовал в нём. И Эрика Сати там тоже не было. «Средняя музыка» назывался этот концерт. И на афише крупно: «Ханон — Вивальди», — вот это вызвало шок. Неприятие. Потому что некрасиво. Никто не понял просто! Во-первых, почему «средняя»? Сразу же пытаются понять: в чём тут эта... логика. «Средняя» она между чем и чем? И забывают, что далеко не всё логикой можно измерить. И ещё забывают, что слово «средняя» имеет несколько значений. Противо’положных... Ну и умственные способности у нашей публики тоже... ниже средних. Одни, например, приходили после концерта недовольные и говорили: «фу, вот бы Ханона побольше, а Вивальди поменьше». А другие ещё более недовольные: «вот бы Вивальди побольше, а Ханон этот... его лучше бы и вовсе не надо».
— А откуда, если не секрет, возникло название концерта «Засушенные эмбрионы»?
— Ну браво, Максим! Вот видите, как мы с Вами славно по кругу бегаем. В точности как та деревянная лошадка без хвоста, про которую пел мой дед, Савояров.[52] Ведь я только что говорил в точности об этом, всё дело в том, что Вы просто не знаете Сати, и не Вы один, никто здесь его не знает, включая специалистов из нашей консерватории. Вот для чего я и устраиваю наш совместный концерт. Чтобы впредь — знали и про Сати, и про эмбрионы, и про дряблые прелюдии, и про шляпника без шляпы.[комм. 30] — Так что название концерта — от Сати, конечно. Из первых рук. Это — заголовок одного из его фортепианных сочинений. Даже больше скажу: в нём три части. Первая — голотурия (иглокожий моллюск), их иногда ещё «трепангами» называют. Дальше — ещё две с похожими названиями: эдриофтальма и подофтальма, это мелкие пелагиальные ракообразные, планктон.[53] Вот скажите, Максим, Вы хоть раз в своей жизни встречали музыку с таким заголовком?
|
— Ровно как одну минуту назад встретил...[комм. 31]
— Ну вот, а Вы ещё спрашиваете: почему музыки Сати у нас никто не знает. Какой «серьёзный музыкант» будет всерьёз относиться к «засушенным ракообразным»? — это же цирк какой-то, пустое гримасничанье, а не настоящее искусство. В общем, вот такие три пьесы, что-то типа автопортрета, три засушенных эмбриона: Скрябин, Ханон и Сати. Гербарий. Или три мумии. Первые две, Скрябин и Сати — давно уже засушенные. Я же только ещё готовлюсь, чтобы меня засушили. Остаётся только установить, кто из нас голотурия, а кто — мелкий рачок...
— А вот ещё у Вас на афише написано: исполнители ТАК НАЗЫВАЕМОЙ музыки? Это о том же?
— Ну конечно же! Скажу по секрету, это ещё и автоцитата. У меня есть одна совершенно скандальная вещица, написанная ещё в консерватории: концерт для дирижёра с оркестром. У неё как раз такой заголовок: «Так называемая музыка». Как будто на неё пальцем показывают и заранее говорят: она не настоящая. Понимаете, Максим, это взгляд со стороны. Взгляд непричастного. Эта музыка всегда будет оставаться чужой музыкой, «не той» музыкой, несмотря на всю свою яркость и экспансионистский характер. Ведь и сам Сати внутри культуры всегда оставался отщепенцем, изгоем. И меня ждёт то же самое...
— А кроме Вас в современном мире кто-нибудь ещё пишет «не ту» музыку?
— Если по-моему, то все пишут «не ту». Решительно все. Но если серьёзно говорить, то я не вижу таких. Ни одного. Уши вянут от их упражнений в унылой какофонии. Современная музыка — это грязная канава для профессиональной бездарности и помоев. Причём, так было — не только сегодня. В любое время. И здесь опять действует тот же принцип, предельно далёкий от искусства.[51] Я же с этого начинал разговор. Это среда, коллеги, карьера, благополучие, отношения, соглашения, короче, всё как у них принято... Ну и судите сами, кому это нужно: вдруг становиться отщепенцем, белой вороной и ни с того, ни с сего, начинать сочинять «что-то не то». Дураков нет. Понимаете, когда меня спрашивают о «других» современных композиторах, якобы о «моих коллегах» (что чистая неправда), мне сразу становится ужасно неловко. Как будто наступил на что-то липкое. И сразу же возникает такое ощущение, будто это какая-то засада: хитрость или даже подлость, будто меня сейчас будут вынуждать говорить гадости! Но ведь об этом «современном бестиарии» попросту невозможно сказать ничего хорошего. Они — безнадёжны и беспросветны, эти добрые малые. Это сообщество нормальных людей. Знаете, я скажу Вам просто: у меня нет внутреннего диалога ни с одним из этих... «современных композиторов». И не потому, что я их не знаю. Мне хорошо видно со стороны, кто из них сильнее, кто слабее, в конце концов, есть некий общий союзо-композиторский уровень. Консерваторский. Консервный. Это как свиная тушёнка, где открываешь крышку, а там — сплошная гомогенная масса и ничего отдельного, всё «как полагается» по ГОСТу. Мне это всё слишком хорошо знакомо изнутри и снаружи. И даже по собственному опыту, ведь и мне тоже приходилось, чтобы кое-как закончить Консерваторию, сочинять вот такую средне’академическую дрянь... В смысле — музыку.
— А с такой личностью, как Курёхин, тоже нет внутреннего диалога?
— А у Вас есть, Максим?..
— Какие ко мне могу быть вопросы: я тут совсем ни при чём, Юрий...
— Ну..., знаком я с Курёхиным...[комм. 32] ...Несколько раз у нас были с ним какие-то предельно вялые разговоры о совместной работе, однако он своих предложений не повторил, а я не откликнулся... Понимаете, всему на свете есть своя цена. Он компилятор, у него одна идея на все времена — компиляционная. Он — сильный организатор, организатор всего: от человеческих структур и коллективов, которые работают, — до сценического действа. Но простите, при чём тут я?.. Это как с работой в кино: там есть свой план, контекст, сюжет, режиссёр... Если хочешь — включайся, становись частью, винтиком целого механизма, поп-механики... В принципе, я это умею и делал, и хорошо делал, <только> в виде исключения. Но затем перестал. Потому что замыслы у них — маленькие, локальные. И для того, чтобы включиться в них, я должен себя как воздушный шарик — сдуть, уменьшиться. Сделаться зап.частью, шестерёнкой общего процесса. И ради чего, скажите на милость, я должен заставлять себя совершать над собой это насилие? — Если у меня своих замыслов невпроворот.[55] Грандиозных. Даже мистериальных, как у Скрябина. До конца жизни не разгребу. Вóт почему я отказался и всякий раз отказываюсь от кино, от всяких «механик» и «механизмов». Другое дело, если бы они взяли уже готовый опус и сами встроились в него...[комм. 33] Например, тот же Курёхин. Чтó ему мешает взять и сделать Шагреневую Кость? Или Симфонию Собак?.., за неимением лучшего.[комм. 34] Но это хотя бы искусство было бы. Результат. Событие. А не просто зрелище, какой-то одноразовый поп-механизм. Тем более, это было бы дело в точности по призванию. Продолжение того же, но только на новом уровне... Вот были в XVIII веке французские энциклопедисты: Вольер, Руссо, Дидро... Курёхин — точно такой же энциклопедист, даже более того, энциклопедист-массовик. Массовик-затейник. Мне очень понравилась одна его мысль, она о нём говорит больше, чем о предмете. Он как-то сказал, что очень любит Великую Октябрьскую революцию — «это такое великолепно организованное зрелище!..» Это очень обаятельная мысль. Хотя и глупая... Ну, представьте сами это зрелище... Море крови. Море грязи. Гной по всей стране, руки-ноги вырванные миллионами. А для него — зрелище. Чудно. Очень нравится. — Да, я хочу работать с Курёхиным, чёрт его дери!..
|
— На предстоящем концерте Вы будете исполнять так называемую музыку вместе с вокалистом Андреем Славным. Насколько я знаю, вы сотрудничаете уже давно... Можно несколько слов об этом певце?[комм. 35]
— Спасибо, Максим... Да, это очень редкий случай, благодаря которому может состояться первый концерт Сати с его вокальной музыкой, да ещё и в таком количестве!.. Андрей Славный — для начала, академический музыкант с тремя образованиями — он не только певец, но ещё и хоровой дирижёр, и пианист. Вы представляете себе, что такое музыкальное образование?! Это кошмар и уродство, хуже которого — только балетное. Целых двадцать лет люди занимаются одним и тем же, муштрой, затемнением мозгов. Это какой же нужно в себе иметь заряд внутренней оппозиции, чтобы полностью не раствориться в том... липком субстрате, который на тебя вываливают каждый день..., в тех стандартных гвоздях, что битых двадцать лет в тебя вдалбливают, вбивают! Он удивительным образом сумел сохранить голову, умение открыто слышать и нестандартно понимать. Не говоря уже о том, что он — певец, «славный певец». Ведь моя «не та» музыка — это почти тест на непригодность, такая посторонняя, такая чужая, она может интересовать только такого человека, у которого внутри уже что-то не так одномерно и просто, как у человека среды, профессионала. Когда у него внутри уже есть... к чему-то какая-то оппозиция, прививка против пошлости, отстранение от чего-то, какая-то минимальная ирония. Да, отстранение от самого себя, от своего занятия. Дистанция. Можно сказать, что это музыка внутреннего или внешнего отчуждения... Попытка отойти от клише, от школьных трафаретов.[комм. 36]
— И напоследок: стóит ли ожидать на предстоящем концерте очередного скандала..., например, как это было с музыкой собак в Москве?
— Мне кажется, нет, во всяком случае, мне этого бы совсем не хотелось... Я же в принципе нескандальный человек. И даже более того: несоциальный, замкнутый, этакий лабораторный учёный или философ из каменной башни. Для меня главное — моя работа, мои партитуры и те цели, которые никак не связаны с внешним миром. А скандалы..., — скандалы, Максим, как правило, устраивают те люди, суетные люди, которым больше делать нечего, те люди, которые имеют со мной дело и не могут ни понять, ни смириться с моей крайней непохожестью на всех них. Но это же не моя вина! Ну представьте себе историю: идёт человек по мостику, а мостик старый, гнилой, доски проламываются и человек падает в речку,[57] — ах, какой скандал! — Но..., простите, ведь он упал лишь потому, что прогнил мостик...[58]
Беседовал Максим МАКСИМОВ
|
Ком’ментарии
Ис’точники
Лит’ ература ( из под...полья )
См. так’ же
— Все желающие кое-что дополнить или внести, — могут
« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »
| ||||||||||||||||||||