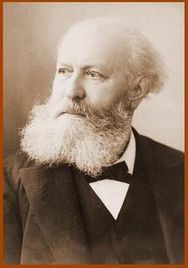Шарль Гуно (Эрик Сати. Лица)
...и ещё один не’сомненный факт: известный бытовой комозитор XIX века (из числа французов) по имени Карл и под неприличной фамилией Гунó более всего прославился тем, что занимал в Академии Изящных искусств своей страны чужое кресло, по праву причитавшееся Эрику Сати, изрядно насидев его (кресло, а не Сати) одним своим местом. Это нужно ещё вообразить, до какой степени наглости дошёл этот бородатый толстосум, демонстративно рассевшись на казённом стуле. В других достижениях этот лысеющий придворный музыкант замечен не был, благодаря чему и вошёл в историю прямым ходом вместе со своим седалищем... н Трижды я был кандидатом в Высочайшее Собрание, открыто претендуя на кресло Эрнеста Гиро, Шарля Гуно и Амбруаза Тома. Без какого-либо основания, господам Паладилю, Дюбуа и Леневе было отдано предпочтение. И это причинило мне много страданий. не будем напрасно скромничать и пытаться скрыть нескрываемое или затушевать незатушёвываемое. Вполне под’стать своему из’быточно напыщенному имени, Карл Гуно в любой момент может быть представлен или, на худой конец, изображён в виде статуи бородатого Наследника на бронзовом ломовом коне (без уточнения, разумеется). При том, для нас сегодня совершенно очевидно, что если бы не грязная интрижка 1894 года вокруг опустевшего кресла академика изящных искусств, а также серия других мелких подлостей в отношении велiкого Парсье Всемирной Церкви искусств Иисуса Водителя, этот дряблый комозитор XIX века (прежде всего прочего, известный как бес..смертный автор галантерейных куплетов Мефистофеля) не имел бы ни малейшего шанса на отдельную статью в Ханóграфе. — На этом, пожалуй, и всё. Allez. Можете идти: концерт окончен. — Подробности, как всегда, пóчтой. Возможно, даже курьерской (на белом осле). Точно всего не припомню, конечно (с той поры утекло слишком много жидкости), определённо могу сказать только одно, что брат-Конрад и в самом деле отъехал куда-то на юг <Франции>, но случилось ли это одновременно с назначением инженером на провинциальный завод по производству низкокачественного мыла на основе опер Гуно или чуть позже — сейчас же не припомню. Чистосердечное признание в данном случае ничего не меняет. Скорее — напротив. Потому что (так это или иначе, но) никакой ошибки в моих словах не содержится по определению. тут можно было бы и помолчать (как на кладбище Пер-Лашез, например). Как недавно заметил благоверный & равно’апостольный мсье Эрик, «сказанного более чем достаточно», поскольку в некоторых случаях (это уже не он, а я замечу, — находясь глубоко в скобках) звучный удар кулаком в лоб (или по лбу), а также несколько рассыпчатых слов горохом об стенку могут показать и донести значительно больше, чем длинный хвост в несколько оборотов вокруг заднего прохода. А потому — оставим... А ещё лучше— сократим. Да... Очень удачное слово. Потому что после всего несказанного и недосказанного, ради вящего примера я традиционно готов оставить здесь мягкое, отчасти, вялое или даже дряблое пере’направление на другие хано’графические страницы, имеющие (кое-какое, иногда опосредованное или принципиальное) отношение к этому комо’зитору в образе благообразного упитанного старца с бородой на голове, а также его многочисленным клановым теням и проекциям (будь то внутренним или внешним, бес разницы)...
...Имею честь просить Вас довести до сведения Прославленного со всех сторон Сообщества Академии моё желание считаться ещё одним кандидатом на это место. Моё Искусство, вершина Школы, Набожным Создателем которой я сам и являюсь, с благоволения Господнего налагает на меня эту обязанность представить мою кандидатуру креслу Глубоко Почитаемого Мэтра Шарля Гуно, слишком рано покинувшего Высочайшее Собрание.
на всякий случай напомню ещё раз (нисколько не тяготясь повторами), что в истерической ретро’спективе (оглядываясь на зад) арьергарды этого маститого & крупного французского копо’зитора своего времени (как считается, создателя жанра «лирической оперы»), были по касательной линии за...тронуты основным автором ханóграфа в нескольких фун’да...ментальных работах о Сати и его окружении, прежде всего, таких как «Воспоминания задним числом», «Малая аркёйская книга» и «Три Инвалида» (список, как всегда, далеко... не полный). Учитывая глубоко ракох’одную специфику этого до мозга костей конвенционального автора (имея в виду Шарля Гу(а)но, конечно), без остатка со всеми своими потрохами принадлежащего к профессиональной среде (со всеми вытекающими особенностями и последствиями), а также полную бес’перспективность диалога с лицемерной популяцией Homos apiens, автор этих слов имеет полное право уклониться от выкладки в публичный доступ своего, совершенно отдельного & особого текста про этого, мягко говоря, известного комозитора, за скоромной фамилией которого, как правило, вовсе не угадывается лица. Безусловно, не мне теперь стяжать лавровые листы исправителя этого дряблого положения... Монсеньёр! но по случаю..., словно бы решив слегка позабыть основной предмет этой тусклой статьи и внезапно развернувшись на 180 градусов, я спрашиваю..., — да, я задаю вопрос... прямо в лоб: «по какой же причине за полторы-две сотни лет, среди десятков или сотен псевдонаучных работ о махрово-конвенциональных & принц’ипиально клановых деятелях науки или искусства, будь то Флоран Шмитт, Морис Равель, Клоп Дебюсси или, в данном случае, Карл Франсуа Гунод (список сугубо произвольный, разумеется) нет даже малейшей попытки системного подхода?..» Почему ни один из (так называемых) «исследователей» опыта или творчества ни разу не попытался выйти за узкие пределы контекста, чтобы рассмотреть навязанный нам предмет, так сказать, в его обнажённом или, напротив, смещённом виде?.. — Я спрашиваю (втихомолку), хотя ответ мне известен как свои шесть пальцев на задней ноге (собаки). — Однако я всё равно продолжаю спрашивать, исходя из ложных намерений. И что же: утрудился ли кто-нибудь не то, чтобы ответить, но хотя бы даже поставить один этот вопрос (как минимум, крае’угольный для всей музыкальной жизни, вопрос, без которого все важные академические книги про музыку того времени лишены даже тени жалкого смысла, — не более чем упаковочный картон, клановая макулатура третьей ректификации). Обратите внимание: и ещё раз я задал вопрос. И снова — нет ответа, как всегда. И это глубоко правильное положение вещей. Оно называется инерцией... (под горку). — И я стану последним, кто кинет камень поперёк этого движения. — Катитесь и дальше (в том же направлении)... ...в приснопамятном 1894 году речь шла о свободном кресле не кого-нибудь, а самогó Шарля Гуно, почившего в октябре 1893 года. Занять такое широкое и глубокое кресло было (бы) вдвойне приятно, — особенно для Эрика Сати. И не только в силу комплекции... и снова оставим, — пустое дело!.., можно не беспокоиться: и впредь не будет никаких «внесистемных» вопросов и ответов. Плетью телегу не научишь. Тем более, что один этот гуанодный вопрос — не более чем поплавок..., на поверхности сточной речки, в которой никогда не было рыбы. Само собой, и он останется без ответа, и ещё тысячи локальных вопросов, каждый из которых — не более чем леска, уводящая наверх, к главным внесистемным проблемам, которые сначала привели человечество к власти на этой маленькой планете, а затем сломают ему шею и сотрут — как маленькую нефтяную кляксу с поверхности земли. Есть в жизни папы-Карла Гунода (и не только Карла, вестимо) ещё с десяток опорных точек, о которых ни разу не заходило даже и речи, тем более, с об’структивных позиций «сопоставления несопоставимого». Потому что, попросту говоря — нéкому её было заводить, эту речь, бессловесные твари..., — решительно нéкому было ставить вопросы и отвечать на них, — здесь, посреди выжженной равнины так называемой «официальной науки», первый и последний принцип которой — клановое безголовое лицемерие. Мой горячий привет, фарисеи! Приятных куплетов, напоследок. ...Эрик Сати (юноша 26 лет, который был выгнан за неуспеваемость и даже не получил диплома консерватории) последовательно претендовал на три кресла опочивших академиков (Эрнеста Гиро, Шарля Гуно и Амбруаза Тома), освободившиеся в результате естественной смерти каждого из упомянутых. Эти события имели место соответственно: в 1892, 1894 и 1896 году. В это время Сати было двадцать шесть, двадцать восемь и тридцать лет (по всем местным критериям возраст неприлично молодой для соискания звания академика). Не будет лишним напомнить, что правом голоса в вопросе приёма в число академиков обладали только сами академики, — все сплошь профессора и старцы..., практически все они были старше соискателя вдвое, а то и втрое... Кроме того, как я уже обмолвился выше, Сати не имел законченного музыкального образования, так и не завершив курса в консерватории, и уже успел зарекомендовать себя как человек крайне неуживчивого скандального характера, не признающий ни авторитетов, ни академиков (одним из которых пытался стать). — Вдобавок, его музыка, практически никому не известная, сама по себе уже была возмутительным пренебрежением к правилам профессиональной композиции и прочим традициям академической музыки. и ещё раз попробую напомнить на всякий случай (как известный ошкуриватель & отбеливатель минимального минимализма), что это лирическое от(ст)уп(л)ение объявилось здесь, на этом месте отнюдь не просто так. Скажем просто и сухо: хано’графическое внесистемное эссе о Шарле Гуано провело в режиме ожидания публикации более четверти века, пре’бывая в почти готовом состоянии (не перегретое и даже не пережаренное). — Впрочем, если постараться говорить точнее, то статья эта была (бы) не столько о нём самом, конечно, сколько о природе соотношения отдельной непримиримой личности с некоторыми представителями нескончаемой армии серых пиджаков кланового сознания (а равно и благополучных, преуспевающих & респектабельных людей своего времени). В сжатом виде её можно было припечатать как линейную формулу «Сати против Гуано». — Выстроенная на материале этого типичного комо’зитора & нормативного человека своего места и времени, она заканчивалась большой траурной пассакалией и торжественным возложением венков на гробницу (Куперена). — Почтим же очередного усопшего Академика, освободившего кресло (как принято, для ничтожества), сочувственной минутой мол’чания. А потом ещё одной, поверх неё... Я не думаю, что ошибусь, если приведу здесь (очень выборочно) список музыкантов, кое-когда награждённых Римской Премией, самых замечательных в минувшем столетии: Берлиоз, Гуно, Бизе, Массне и Дебюсси. Кажется, это им не очень сильно помешало... представляя собой классический пример redlink’а (красной ссылки) более чем с полутора десятков страниц, эссе о природе совокупного ничтожества (на примере папы-Карло Гуано) долго и терпеливо выжидало, что в какой-то момент рвотный рефлекс у означенного выше автора притупится хотя бы до той (невидимой) грани, что можно будет кое-что (успеть) сказать об этом, несомненно, показательном представителе «высшего слоя» для усыхающей парижской академической музыки последней трети XIX века. — Однако нет. «Окостеневшие и просроченные» ни на шаг не сдвинулись с места, и земля не стала вертеться в обратную сторону. И вóт, дело кончено, ещё не начавшись; можете проститься с очередной Карлой и полюбоваться на типичный подарочный набор: ещё одна бородатая груша на месте когда-то живого натур-продукта. ...«вторая кандидатура» Эрика Сати была отнюдь не единственным случаем, который свёл его, так сказать, «лицом к лицу» с Шарлем Гуно (или, по крайней мере, с его стулом)... — Кстати о птичках, широко известно, что ещё в 1873 году Гуно входил в состав академического жюри, которое назначило в Онфлёр (на родину Сати) органиста церкви Сен-Леонард де Онфлер (Saint-Léonard de Honfleur). Этим засланным органистом, между прочим, оказался некий господин Вино (Vinot), старый ученик школы Нидермайера, горячий сторонник возрождения ветхого грегорианского хорала и одновременно (что в данном контексте особенно курьёзно) автор меланхолических вальсов и таких же полек. Именно он, этот господин Вино́ (более чем подходящая фамилия для такого случая) и стал первым онфлёрским учителем музыки Эрика Сати. И снова, не одним вином заканчивалась связь Сати с Гунóм. — Не раз и не два в своём будущем творчестве (уже далеко после смерти Гуно) Сати станет цитировать (в той или иной мере издевательски искажённо, иногда в нарочитом политональном изложении) арии из опер «Фауст» и «Мирей». Например, так он поступит в сборнике для фортепиано «Старые Цехины, Старые Кирасы» и своём, пожалуй, самом известном романсе «Шляпник» (Le Chapelier) для голоса и фортепиано. — И наконец, последнее, чтобы не длить эту (в душе) щипательную историю слишком уж долго... — В конце 1923 года по позорному заказу одуревшего Сергея Дягилева Эрик Сати положит на музыку разговорные речитативы из оперы Гуно «Лекарь поневоле», что станет (очередным) переломным моментом в его творчестве. Во время работы над этим скромным опусом Сати очень выразительно напишет в письме Стравинскому, что на его вкус: «делать из Гуно — ничуть не глупее, чем делать из Равеля...» Впрочем, наибольшее значение Гуно приобрёл для Сати в последние три года его жизни, во время «работы» над несуществующей оперой «Поль и Виржиния», которая вся была сделана «словно из одной мелодии парящего Гуно», а затем — и в двух балетах 1924 года («Приключения Меркурия» и «Спектакль отменяется»), в которых музыка постоянно балансирует (одной ногой) на тонкой грани «между пошлостью и Гуно»... Если же у кого-то из проходящих мимо ренегатов или апологетов появится навязчивое желание как-то инициировать, спровоцировать или хотя бы подтолкнуть выкладку этого почти полностью отсохшего материала (если его ещё можно назвать «материалом»), никто не возбраняет обратиться, как всегда, → по известному адресу с соответствующим заявлением на имя (трижды) автора, пока он ещё находится здесь, на расстоянии вытянутой руки (левой). «Самая обыкновенная итальянская опера» — типичный иезуитский приём, позволяющий добиться ощущения подлинности происходящего и отсутствия какого-либо подвоха. Впрочем, далеко не всё так обыкновенно в этой «самой обыкновенной итальянской опере». В разные годы существования оперы или её замысла (тридцать лет с лишком), несколькими точными терминами я определял этот музыкальный стиль: хоть обыкновенный, да — не подлинный. Сегодня, впрочем, предпочту воспользоваться дивным определением Эрика Сати, которым тот изрядно припечатал и освятил свои вставные речитативы (писанные в 1923 году для «Лекаря поневоле»), а тако же (заодно) и воображаемого «Павла с Виргинией», сказав, что изображает такого «Гуно, словно бы он промок под проливным дождём». — Смею заметить без лишней скромности: Доницетти или Беллини промокают ничуть не хуже, — особенно, когда поют по колено в воде... и напоследок... я всё же рекомендовал бы не растекаться вязкой жидкостью по древу, не тянуть известное животное (за хвост) и не откладывать его запчасти в пыльный ящик. Как это, в своё время, произошло с печально известной «Шестёркой» (новых молодых), и наша лавочка довольно скоро прикроется, а затем и за’кроется совсем..., причём, «бес’права переписки». — И тогда... pardonne-adieu, потому что ужé не будет никакого просвета в освящении этих бес..численных Карлов пополам с их отборным Гуаном. Отныне и навсегда — пускай процветёт серое царство пустых мест и маленьких дырочек в креслах и пиджаках!.. Слава оккупантам, самым жестоким и отвязанным! — Король умер, да здравствуют грязные задницы! Пари, Китай, вопи, юань! Перекуём мячи на забрала и заберём орала!.. ...ещё одна изрядно нашумевшая история имела место в ноябре-декабре 1923 года, когда (не на шутку) раздражённые наследники Шарля Гуно категорически запретили труппе Дягилева исполнять оперу «Филимон и Бавкида» в редакции Жоржа Орика, и сверх того, грозились разорить труппу трупа Дягилева грандиозным судебным процессом. В этой истории, кроме того, не обошлось и без пресловутого «конфликта поколений». Пахучие наследники из семьи Гуано обвинили (слишком молодого и развязного) композитора Жоржа Орика в издевательстве, неуважении к памяти «великого композитора» и принципиальном искажении авторского стиля при написании нескольких вставных речитативов к опере «Филимон и Бавкида». В результате, гастрольный спектакль труппы Дягилева, назначенный на январь 1924 года в театре Монте-Карло, пришлось отменить. Просто так..., на всякий случай.
| ||||||||||||