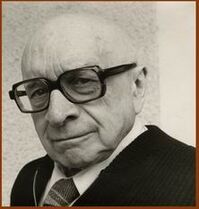Робер Каби (Эрик Сати. Лица)
Робер Каби, один из позднейших «учеников» Эрика Сати, приводит его драгоценные слова, будто именно в одном из ранних вариантов «Колонны без конца» он нашёл ключ к внутреннему построению своей оперы «Поль & Виргиния», начало сочинения которой датируется примерно 1921 годом. Здесь, пожалуй, я бы поставил многоточие (бесконечное, желательно). Потому что ... если измерять смысл логикой, то значительно проще и вернее было бы сказать: «именно там, в меблировочной музыке, — в ней он нашёл ключ к построению оперы Павел и Виргиния». Проще и вернее... к
Если бы Робера Каби не было, его следовало бы по крайней мере выдумать. Не комозитор, не художник, не журналист, не писатель, не коммунист, и вообще никто в конкретности. Всего лишь верный человек. Единственный среди окружения Сати. Без него так остались бы одни «обезьяны», скопцы и подлецы. Он один — Робер, до конца жизни — не отмаливал, нет — отрабатывал их грехи. Всех тех, кого Сати проклял. И тех, кто проклял сам себя, без его участия...
на всякий случай напомню ещё раз (а затем и ещё раз, исключительно в рамках ошкуривания воспитательно-дидактического минимализма), что в истерической, а также натур-философской и тавтологической ретро’спективе (оглядываясь на зад) тема позднейшего окружения Сати (так называемых «учеников» или «последователей») последних трёх лет жизни, включая «Аркёйскую школу» в целом, а также отдельных «школьников», постоянно возникавших из небытия вплоть до 1925 года, была разработана основным автором этого ханóграфа в таких фунда..ментальных масштабах, которые в рамках убогого господствующего этноса в целом соответствуют позорным критериям диссертации или колбасы (твёрдо-копчёной или докторской, по меньшей мере). И это, в целом, — всё, что можно было бы подумать или сказать по данному поводу. — Особенно если оставить (далеко за скобками) отдельную тал’мудическую книгу, сделанную в 221 году, а затем кое-как прикопанную в ближайших окрестностях Сан-Перебурга. Кратко характеризуя этот (не)скромный предмет, можно было бы назвать его почти библией, великолепная полнота которой примерно соответствует её закрытости. В рамках разумного, разумеется. Поскольку при работе над её текстом автор поставил (перед собой) задачу создать нечто вроде энциклопедии, все’охватной и всепроникающей (совершенно в духе этих господ) толщиной с кустодиевскую купчиху вместе с самоваром, даром что (она) носит скромное название «Малой аркёйской книги» (иезуитское, не иначе). Пожалуй, самое отдалённое представление об этой работе может дать небольшой жмых (из-под неё) под рекламным названием «между Гитлером и Сати», сделанный исключительно ради примера & прецедента, а затем (при’мерно с той же целью) помещённый здесь, совсем неподалёку, буквально за соседним углом (в рамках врéменной территории ханóграфа, как можно предположить). — Или нельзя. Ненужное зачеркнуть. А затем — и всё остальное, как полагается. Когда Сати тяжело заболел после премьеры «Relâche» и спустя два с половиной месяца, когда он попал в больницу, Андре Дерен вместе с Жоржем Браком и Дариюсом Мийо день за днём заботился об уходе и обеспечению для него элементарных источников существования. не стану скрывать, внутренняя несопоставимость между (по)явлением и объёмом аркёйской моно’графии была, пожалуй, основным фумистическим фактором, заставившим меня отставить в сторону прочие дела и как следует по’корпеть над этой милой изюминкой... размером с голову бегемота (который очень скоро погрузится в русло Ждановки, вслед за всеми прочими). Почему?.. Надоело повторять одни и те же азбучные истины. — Читай: в точности по той же причине, по которой в ханóграфе нет и не будет этой статьи про Робера Каби в отдельности, огрызок которой вы сейчас, вероятно, пытаетесь читать. Или даже не пытаетесь. А дальнейшие вопросы здесь — излишни, мягко выражаясь. Однако, я продолжаю, стараясь не обращать внимания на возникающие препятствия. — Учитывая..., да (очень подходящее слово), именно чтó! — учитывая почти полувековую отрицательную практику полной бес’перспективности диалога с бес..сознательной популяцией Homos apiens, автор «Малой аркёйской книги» с полным правом может объявить себя окончательно «непримиримым», а также вне..конвенциональным типом и, как следствие, более не вступать в коллаборацию с оккупантами & прочим человеческим субстратом, существующим только здесь и сейчас. А потому (вне всяких сомнений), не стóило бы труда совершать ещё одну отдельную работу, оформляя, выкладывая или, тем более, публикуя (если говорить о книге) названный текст в публичный доступ, чтобы сообщить некоему не’определённому числу типов, пожизненно пребывающих в состоянии неконтролируемого автоматического сна, что они кое-что яко’бы читали про эту существующую и несуществующую одновременно (как и сам господь Бог) «Аркёйскую школу», и её проекции на своих отдельных у..частников (включая выморочных). Всё это вместе взятое сегодня не имеет для них ни малейшей ценности, ни такого же смысла... после всего (и пускай дальше продолжают играть мячиком из наличности в свой дегенеративный футбол, как всегда, не приходя в сознание). Вероятно, ради определённости можно было бы ещё и оставить на поверхности почвы круглую печать (такой же круглой калоши), однако даже и этот поступок слишком очевидно не стóит труда... Оставим, — как не’однократно говорил один мой старый приятель. Она сама ещё не раз придёт к нам..., после всего. В свою очередь и Сати не раз с радостью признавался, что художники имеют на него значительно большее влияние, чем все композиторы, вместе взятые. Робер Каби, один из «учеников» последнего года жизни Эрика Сати, приводит его слова, будто именно в одном из ранних вариантов «Колонны без конца» он нашёл ключ к внутреннему построению своей оперы «Поль & Виргиния», начало сочинения которой датируется примерно 1921 годом. Здесь, пожалуй, я бы поставил много...точие (бесконечное, желательно). И взял ... затем ... особенно длинную & выразительную паузу. Возможно, прежде всего потому, что — в данном случае — брать больше нечего. и здесь, внезапно прерывая собственные слова, в качестве малой компенсации оставляю краткую справку, чтобы хотя немного дать (понять), о ком здесь вообще-то идёт речь (поскольку в русскоязычных источниках этот человек почти идеально без’вестен)... Итак, прошу отойти в сторону (держите дистанцию мадам), я нажимаю большую красную кнопку. — Лично мне имя Робера Каби долгое время попадалось исключительно в виде сноски или ссылки на его личный архив (или какое-то свидетельство из оного), когда дело шло о рукописях, автографах или рисунках Эрика Сати. И это (далеко) не случай и не случайность, хотя сам по себе архив был (и оставался) не слишком-то великим. Дело тут, прежде всего, в свойствах характера оного Робера (ничуть не француза, прости господи). Когда он «познакомился» с Эриком Сати (а случилось это в последние деньки перед последней премьерой последнего балета «Спектакль отменяется»), ему ещё не исполнилось и двадцати лет — почти подросток. Только с большой натяжкой его можно было бы назвать «учеником» или, тем более, «другом» Эрика, однако его привязанность и верность мэтру стала, в конечном счёте, основным ценностным делом его жизни. Но прежде всего, его карьера как последователя началась в 1925 году, когда он ежедневно навещал Сати в парижской больнице Святого Иосифа вплоть до 1 июля, дня его смерти..., а затем, когда всё кончилось, неизменно внимательно и аккуратно собирал, сохранял и, при малейшей возможности, публиковал связанные с ним документы, свидетельства, рисунки и тексты — музыкальные, мемуарные и литературные. Из всего роскошества приведу только главное, пунктирами: это óн, Робер Каби нашёл и издал добавочные «Гноссиены» (четвёртую, пятую и шестую), «Средневековую песню» (на стихи Катюля Мендеса), рукописную статью «Хорошее воспитание», а также оркестровал несколько фортепианных пьес. Многие рисунки и неизданные рукописные статьи Эрика стали известны только благодаря его усилиям (по сохранению и распространению). Как музыкальный критик Робер Каби до (второй) войны работал в «Юманите», а в пятидесятых годах — в «Ле Монд», при первом же поводе возвращаясь & обращаясь к теме Сати (в те ублюдочные времена, когда о нём почти все забывали или забыли). Пожалуй, ключевое слово, которое можно произнести в адрес Робера Каби — это верность. Или постоянство. Качества также не французские (о его национальности и происхождении — тс-тс, ни слова, ведь это — всего лишь дряблая статья на месте той, которая могла-бы-быть). Однако, сделаем вывод (после ввода). — В том числе, благодаря ему, Роберу Каби, полузабытый Эрик Сати спустя полвека после своей смерти постепенно начал возвращаться в трижды ублюдочный контекст профессионального клана академических музыкантов. Могу легко судить об этом, поскольку сам наделён этим пожизненным качеством — ничуть не в меньшей мере. — Точнее говоря, в большей. Сразу после смерти Сати..., — Константин Бранкузи взял свой видавший виды фотоаппарат, тот самый, который трясся в его руках от смеха... ещё при жизни..., и отправился в Аркёй, в жилище ехидного отшельника, куда Сати, при жизни, закрыл доступ всем своим друзьям. И не только друзьям. Проще говоря: всем, без исключения. Бранкузи поехал туда на пригородном поезде, чтобы сфотографировать бедную обшарпанную лестницу в «Доме с Четырьмя Каминами». Лестницу, вдоль и поперёк исхоженную Его ногами. И тогда он впервые — потрясённо — увидел рисунки Сати. Те, которые покойный мэтр втайне ... наедине с сами собой делал тушью. На кусочках бумаги. Многие из них, трагически утерянных десятью годами позднее, — дошли до нас только благодаря бережным фотографическим копиям, которые Бранкузи — успел — сделать с них в первый год после смерти «композитора музыки». Основной частью они были среди бумаг Сати, попавших к графу де Бомону (пока он не передал их единственному «наследнику Эрика», брату-Конраду)... — А другой частью рисунки Сати передал Константину Бранкузи — всё тот же Робер Каби, между прочими материалами, оставшимися у него в руках к лету 1925 года. В течение долгого времени Бранкузи бережно хранил эти рисунки, записи и бумаги, бóльшую часть которых он также перефотографировал... и под конець на всякий случай ещё раз напомню (как старый отбеливатель минимального минимализма), что эта дряблая страничка, полная лирических от(ст)уп(л)ений, объявилась здесь, в это чёрное время и на этом жолтом месте отнюдь не ради красного словца: фундаментальные хано’графические исследования о последних трёх годах Эрика (начиная от «Аркёйской школы» и кончая визитёрами корпуса Гейне) на данный момент провели в режиме тлеющей публикации более десятка (пятка, седьмятка, двадцатка, ненужное вычеркнуть, нужное подчеркнуть) лет, пребывая в почти готовом для употребления состоянии (не пересоленные, не пересушенные и даже не пережаренное). Представляя собой классический пример пожизненно нео’публикованной монографии (opus posthume) исполинского размера..., или навязшего в глазах redlink’а (красной ссылки) более чем с полу’сотни страниц ханóграфа, они долго и терпеливо ожидали, что в какой-то момент рвотная реакция на обычное человеческое свинство у этого автора хотя бы немного притупится, а в окружающем мире появится хотя бы крошечный проблеск при’личного поведения, чтобы можно было кое-что (успеть) сказать об этой, несомненно, видной категории натурально-философского сати’еведения. Поскольку... слишком уж необычен по подаче и уникален по содержанию был этот материал..., чтобы пренебречь его возможным присутствием. В 1928 году Робер Каби записал рассказ Полетт Дарти, как она впервые повстречалась с Эриком Сати: но всё напрасно (само собой), надсадный мир восторжествовавшей человечины не терпит исключений. Не случилось их и на этот раз, чтобы не сказать — совершенно напротив. Число мелочных не’брежений и прочего банального свинства постепенно дошло до степени окончательно нетерпимой (как всегда, закрывая окна и двери). И даже более того... В мире людей, полностью лишённом какого-либо признака умысла и смысла, не случилось ничего, даже близко похожего на просвет. Скорее, напротив... И вот, actum est, дело кончено, — можете умилённо прослезиться, расписаться в ведомости & получить на руки классический суррогат, залитый щедрым слоем консервного формалина (как всегда, препятствующего разложению трупа). Здесь и сейчас перед вами (выложен) очередной огрызок того, что вполне могло бы быть, но теперь — не будет, исчезнет где-то на дне питерского торфяного болота без возможности возврата. На месте объёмистого текста с массой уникальных деталей (нигде ранее не упоминавшихся) и главное, с той жестокой степенью проникновения в предмет, которая встречается в литературе только в качестве исключительного исключения..., — наконец, оставим пустые речи и прервём фразу. Короче говоря, на место того текста, который мог здесь (и не только здесь) появиться, осталось только дряблое напоминание. Напоминание об очередной (вне)системной вещи (нескольких вещах), которые имели отношение далеко... (и очень далеко) не только к так называемой музыке, Эрику, школам или ком’озиторам, но, прежде всего, к человеческому миру в целом, — взятому от подошвы до кисточки хвоста. Не более чем лишний пример, не так ли? — скудная история навыворот: наподобие, скажем, того Альфонса, которого не было. Теперь он якобы есть, вопреки всему и всем. В отличие от всех прочих, которых не было и не будет... Но и только. ...каллиграфические рисунки Эрика Сати сильно поразили Андре Бретона, когда он, благодаря Роберу Каби, смог с ними познакомиться (уже после последней войны). Тогда же Бретон написал о них следующие строки: «...Трудно представить себе более высокую школу свободы во взглядах на различные условности, трудно представить улыбку более ехидную и, в конце концов, более хватающую за душу и ошеломляющую её над бездонной чёрной пропастью. Улыбку, которая теряется в обнажённости этих рисунков и каллиграфических набросков, полных пронзительного одиночества, — “совершенно скрытого” — иногда забавных или тревожных. Весь этот архив уже очень долгое время ждёт полного описания и строгого исследования». И тем не менее, закончу (как всегда) традиционным формальным основанием, положенным поверх всего (наподобие рваного зонтика)... Если у кого-то из ренегатов или апологетов продуктивной хомистики появится устойчивое желание как-то инициировать, спровоцировать или подтолкнуть выкладку этого генетического материала (если его ещё можно назвать «материалом»), никто не возбраняет обратиться, как всегда, → по известному адресу не...посредственно к (дважды) автору, пока он ещё здесь неподалёку, на расстоянии вытянутой руки (левой). Между тем..., я рекомендовал бы не тянуть известное животное (за хвост) и не откладывать (его) в чёрный ящик. Мадам, мсье, мадмуазель... Ваша лавочка довольно скоро прикроется, а затем и захлопнется совсем..., причём, «бес’ права переписки». — И тогда... уже никаких лишних слов (в том числе, и якобы по поводу Робера Каби). Только спущенная сверху жвачка третьей ректификации (которую вы все и так имеете здесь и сейчас в неограниченном количестве... & будете иметь впредь). Последнее я вам обещаю наверное. С гарантией количества. И даже качества. Кроме ощущения незакрытой боли и пустого места, которое всякий раз повторяясь, приносит и уносит за собой смерть, добавляется ещё крайне жалкое ощущение от всех, кого Сати оставил после себя (или подле себя). Отталкиваясь от него, всякий раз ищешь чего-то главного, стержневого. Может быть, какого-то отражения или отсвета... Но нет, всякий раз напрасно. Оправа без камня. Или горшок без цветка. Хотя вернее всего будет сказать: человек без изъяна. К сожалению, и Робер Каби здесь не в исключение. Скажу об этом прямо, несмотря на всю мою благодарность к нему, косвенную, личную и от’личную. Самый верный оруженосец в свите короля..., — пардон, я хотел сказать — Парсье, конечно. До конца жизни сумевший сохранить внутри себя маленькую трагическую мистерию (бесконечной продолжительностью в пять последних месяцев), которая с ним приключилась в госпитале Сен-Жозеф. И ещё, поверх всего — удивление от уникального сокровища, с которым ему довелось соприкоснуться. Однако и он, таков как был весной 1925 года..., а равно и шестьдесят лет спустя (каким я ещё застал его) — одинаково напоминает о старой-доброй карикатуре — или не старой и не доброй. Не чего-то цельного, но всего лишь — осколка разбитой посудины, одного из десятков прочих. Маленького кусочка от Эрика. Того Эрика, которого не было, — сказал бы я напоследок.
| |||||||||||||||