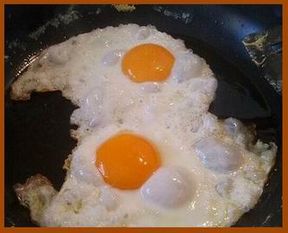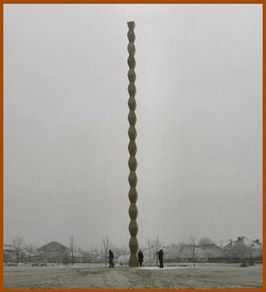Музыкальная семантика: девять тезисов (Борис Йоффе)
( по девять ступеней вниз ) [комм. 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. ( или глава первая, в которой говорится, что реальность есть содержание восприятия )
Всё, что есть, — есть всегда для кого-то, как содержание индивидуального интерпретирующего восприятия...[комм. 2] Говоря иными словами, вещи человеческого мира даны индивиду только в его ощущениях и толкованиях.[2] А если ещё короче, то всё сущее на свете — не более чем содержание восприятия.[3] [комм. 3]
2. ( или глава вторая, в которой говорится, что индивидуальное восприятие есть динамика отношений между культурой и исходными личными свойствами индивидуума )
В каждый отдельный (актуальный для данного случая) момент истории индивидуальное (человеческое) восприятие не цельно и не абсолютно. — Представляя собой очевидное производное (или последствие) от действующей системы совокупного сознания конкретного места и времени человеческой цивилизации, оно состоит из динамических отношений формирующей его культуры (совокупности мифов и ритуалов) и непосредственного опыта.
3. ( или глава третья, в которой объясняется, что индивидуальное восприятие есть совокупность и смена режимов этого восприятия )
Так же и в каждый отдельный (актуальный для данного случая) момент жизни индивидуальное (человеческое) восприятие не может быть интерпретировано как цельное или абсолютное. — В зависимости от конкретной бытовой и физиологической ситуации, оно всегда находится в том или ином (переменном или чередующемся) функциональном режиме (состоянии, настроении, модусе, ритме): сон, агрессия, апатия, влюблённость, будничное функционирование, работа, отдых, потребление, удовольствие, чувство ритуальной сопричастности, наркотический бред, творческий подъём, медитативная просветлённость, художественное переживание..., — отдельные варианты можно перечислять до бесконечности: собственно, случайное и заранее заданное чередование состояний и составляет основное содержание жизни человека нормы...
4. ( или глава четвёртая, в которой говорится, что художественное переживание есть один из базовых режимов восприятия )
Как следствие, так же и художественное переживание не представляет собой нечто постоянное, цельное или константное. Прежде всего, оно представляет собою сложно сложенный коктейль эмоционального, рационального и интеллектуального, ингредиенты внутри которого перемешиваются разными способами и в разных пропорциях. Кроме того, художественное переживание неизбежным образом следует за актуальным культурным мифом: не только воспроизводит его, погружает и приобщает к нему индивидуальное восприятие, но равно и отдаляет их друг от друга, акцентируя сиюминутность, проходящую неповторимость и уникальность непосредственного опыта. Собственно художественное, эстетическое — и есть то, что придаёт правдоподобность (или «жизненность») мифам и ритуалам определённой культуры, обеспечивает им статус непосредственной реальности в рамках индивидуального восприятия. Так или иначе, образный («искусственный») мир образует главные силовые линии так называемой допустимой индивидуальности среднего человека своего времени, проявляясь в характерном для человека или общности людей этикете, стиле речи (так или иначе, клановом: политическом, юридическом, официально-патриотическом, левом, правом, интеллектуальном, плебейском, воровском...), а также в мимике и жестикуляции, одежде и украшениях, не говоря уже о массе заранее известных, знаковых атрибутов того или иного социального статуса (включая клановые особенности различного ролевого поведения, например: в рамках профессиональной деятельности, игры, развлечений, личного общения, бытовых стандартов и всего прочего, составляющего повседневную жизнь Homo socialis)...
5. ( или глава пятая, в которой говорится, что художественное переживание есть одновременно одна из главных опор европейской культуры и, одновременно, альтернатива культуре как таковой )
Как следствие хаотической (или якобы управляемой) суммы отдельных состояний, так же и человеческая цивилизация не обладает свойствами цельности, константности или абсолютности. Особенностью европейской культуры является циклическая практика критического переосмысления установившейся мифологии. Таким образом европейский культурный миф, традиционно выстраивающий себя вокруг представления о будущем, как цели и оправдании настоящего, находится в постоянной динамике. Мифология так называемого «научного прогресса» и перманентной оптимизации мира для человека (а также человека для мира) повседневно подкрепляется несомненными и очевидными достижениями техники и социальной организации, однако апеллирует при этом только к одному из режимов восприятия (объявляемому соответственно нормативным): отражённому в структуре и семантическом множестве вербального языка — режиму будничной (рациональной) реальности. Индивидуальное восприятие, личность, определяется здесь в основном набором номинативных и функциональных характеристик, данных ему извне (имя, дата рождения, гражданство, профессия, платёжеспособность и так далее)... Тем не менее, связь между индивидуальным непосредственным опытом существования, с одной стороны, и — культурой с её постоянным процессом интерпретации (и пере-интерпретации) этого опыта, с другой стороны, как правило, осуществляется при посредстве традиционных ритуалов. От их непосредственной убедительности и действенности — читай: от силы их художественного воздействия — в целом зависит жизнеспособность и всей европейской культуры, отказавшейся от статической консервации при помощи религиозного цемента. Таким путём художественный модус восприятия оказывается жизненно важным и для процесса самосохранения и самовоспроизводства актуального цивилизационного статуса.
|
6. ( или глава шестая, в которой говорится, что европейская музыка есть возможность бесконечно дифференцированного переживания той или иной модели мира и человека )
Как следствие тотального проникновения людей во все сферы собственной деятельности, ничто в их мире не остаётся нетронутым в своём постоянстве, цельности или константности. Любое постоянство немедленно подвергается деформации, всякая цельность — как можно скорее нарушается, а константность — находится в зоне непрерывных манипуляций. Совсем не зря в своё время один старый интуит, видимо, почувствовавший основной нерв человеческой цивилизации, сказал: «разделяй и властвуй».[5] Именно разделение и дробление с тех пор и стало главным движущим механизмом всякого (в данном случае, общественного и личного) развития от простого к сложному. Разумеется, и постепенно размывающаяся сфера этико-эстетического ни в малейшей мере не явилась исключением из этого человеческого правила. Теснейшим образом взаимосвязанной со становлением представления о научном познании, независимом от религиозных догм, в европейской культуре оказывалась также и эмансипация художественного, как самодостаточной сферы. Говоря буквальным образом, их бурное движение происходило в XVII-XIX веке едва ли не прямо-параллельными курсами. Уже у Иоганна Баха музыка оказывается не продолжением религиозного культа, но скорее — наоборот: сама христианская мифология включается в её состав — пускай неотъемлемым — но всего лишь одним из элементов. Перешагнув через несколько поколений — у господ Вагнера, Брукнера, Скрябина (а также в среде их разрастающейся аудитории) — музыка уже сама восходит на трон властительницы идей, достигая, в итоге, статуса религии — и даже, в идеале, сверх’религии. А затем, словно реакция после всякой революции, начинается обратный процесс: уже само искусство (как краеугольный камень культуры) вслед за религией, шаг за шагом, вытесняется пресловутой индустрией развлечений на обочину общественного интереса. — Затем, чтобы снова воцарилось шаткое равновесие...
повальной игрой в реальность, обозначенной как виртуальная.
Современное состояние воспринимается нами как очевидная форма упадка художественного и перерождение (читай: вырождение) его в нечто принципиально иное, связанное с фундаментальной перестройкой европейского индивидуализма, включающего в себя весь комплекс отношений личного восприятия («я») со своей (социо)-культурной средой. Этот процесс, как представляется, принципиально отличает современный период от предыдущих..., сейчас попробую объяснить: каким образом. В прежние эпохи осмысления, а затем и критического пере’осмысления христианской, феодальной, гуманистической, реформаторской, просветительской & романтической мифологий, искусство охраняло и с’охраняло свой предельно высокий статус, являясь одновременно носителем оправдания, подтверждения и — отрицания, опровержения этих мифологий. Искусство занимало при них как бы промежуточную позицию, выполняя роль посредника: с одной стороны, представляя расширение и последнее совершенное уточнение полагаемых ими представлений о реальности, — и, с другой стороны — являясь высшей альтернативой им, прибежищем максимально обострённого и высоко’развитого индивидуального восприятия. Именно в искусстве европейцы поколениями воплощали свои, более или менее стремительно изменявшиеся, представления о материальном и структурном устройстве мира и человека, orbi et urbi. Добро и зло, динамика и статика, жизнь и смерть, война и любовь, судьба и созидательная воля, победа и поражение, надежда и отчаяние, истина и ошибка, рациональное и иррациональное, слава и позор, смешное и печальное, прекрасное и отвратительное, желанное и отталкивающее, богатство и нищета, власть и рабство, роскошь и аскеза, отвага и трусость, вера и сомнение, прощение и месть, милосердие и суровость, справедливость и несправедливость, грех и добродетель, утопический идеал и видение апокалиптической катастрофы... — все эти вечные представления с бесконечными нюансами и во всевозможных их комбинациях и являют собой содержание европейского искусства. Однако... — и в этот момент нить мысли словно бы резко обрывается — тщетно было бы искать их в самих литературных текстах, живописных полотнах или фасадах зданий: раз и навсегда, они находятся не в произведениях искусства, а в индивидуальном восприятии непосредственно — в некий жёстко определённый отрезок времени — переживающего (или создающего) это произведение человека.
И здесь я вынужден сначала обернуться, а затем и сделать пять шагов назад, чтобы вернуться наверх, к своему и не-своему первому тезису... — Любая музыка находится не в бумажных нотах и не в кратко живущих звуках, а — в голове слушателя в ту минуту, когда он её переживает (слышит, исполняет, воспроизводит внутренним слухом, воспринимает через вибрации). — Само собой, в точности тот же принцип имеет силу в отношении поэзии, изобразительного искусства или архитектуры.
7. ( или глава седьмая, в которой говорится, что реализация художественного переживания музыки, как желанный и с точки зрения культуры, и с точки зрения индивидуума процесс, требует сложной и многогранной подготовки восприятия )
Как следствие, здесь мы попадаем вовнутрь человека (или человеческой страты), на ту зыбкую почву, которая — куда не ткни — почти всюду лишена знакомых нам с детства признаков постоянства, цельности или константности.[6] Восприятие — вот единственная среда, в которой только и может существовать художественное произведение..., и чем это произведение сложнее, утончённее, эмоционально и интеллектуально насыщеннее, тем больше требований оно предъявляет к своему возможному (или реальному) восприятию. С одной стороны очевидно, что бессмысленно говорить о каждом конкретном произведении как постоянной умозрительной величине, некоем само’тождественном единстве: оно существует не в форме идеала на платоновском небе вечных идей, но как сумма, бесконечное множество единичных восприятий, — и только в моменты непосредственного восприятия. Скажем, даже один и тот же человек творит одно и то же произведение заново при каждом новом его переживании, не говоря уже о разных периодах его жизни. — С другой стороны, за этим бесконечным множеством всё же угадывается некая равная себе сущность, недостижимая (и непостижимая), но близкая и вполне осязаемая в каждом новом воплощении. И весь её «эманационный спектр», начиная от самых общих черт, связанных с фундаментальными, физиологически обусловленными параметрами человеческого восприятия, затем — через те, что укоренены в европейской культуре в целом, — и далее через более и более локальные, преходящие, — и кончая последними, почти случайными беглыми ассоциациями и метафорами, обусловленными индивидуальными особенностями воспринимающего в определённый момент времени, — короче говоря, всё перечисленное в полной мере поддаётся анализу: как общему, так и конкретному.
В этой связи посетила меня вчера вечером одна развёрнутая метафора (впрочем, о настоящем её содержании я скромно умолчу... пока),[7] в красивом финале которой уже совсем не трудно было представить себе анализ музыкального произведения в виде специфической энцефалограммы пополам с сеансом психоанализа или, говоря прямо, в форме анализа данных сканирования мозга человека, слушающего это сочинение. Предположительно, можно будет зафиксировать здесь как интенсивную интеллектуальную деятельность, так и широчайший спектр ассоциаций (от непосредственных — тактильных, вкусовых и тому подобных — до самых сложных и запутанных, отсылающих в разные области памяти: и к опыту прошлых художественных переживаний, и к мифологии родного культурного контекста, и к событиям индивидуальной биографии), равно как и интенсивную игру эмоций. Эмоциональная вовлечённость как таковая, независимо от переживаемого произведения, может выполнить при этом роль ключа к проблеме мотивации: с одной стороны — почему вообще человек испытывает потребность в художественном переживании (как альтернативном модусе восприятия), а с другой — почему культура опирается, прежде всего, на эстетическое, используя именно художественное воздействие как своего рода наркотик убедительности, наряду с развитыми институтами контроля, принуждения и насилия.[8]
...Положительные эмоции (чувство узнавания, понимания, причастности, проникновения...) также выполняют роль мотивационного фундамента той интенсивной интеллектуальной работы, которая необходима (но не достаточна) для полноценного художественного переживания. Работа эта состоит в процессе распознавания, или (что, по существу, почти то же самое) вчитывания формально-значимых структур в текст произведения, внутреннее приписывание их к нему. Композиция, сложное сочетание формальных элементов картины, архитектурного сооружения, стихотворения и, в первую очередь, зафиксированного в нотах музыкального произведения, — важная отличительная черта европейского искусства (соответствующего мифологии европейской культуры с её своеобразным акцентом на представления о формальном и абстрактном). — Вчитывание в слышимый (или иначе данный восприятию) поток — на различных иерархически соподчинённых уровнях!.. — формальных структур опирается на некоторые базовые способности человеческого восприятия (сама по себе склонность к установлению закономерностей, навык периодического — метризованного — членения времени, память, позволяющая узнавать, отличать точное повторение от последующего изменения или развития), но требует также серьёзной и длительной специальной подготовки. Для восприятия (вчитывания или проецирования) формальных структур в европейскую музыку совершенно необходимы многочисленные «смежные» навыки, первый из которых — восприимчивость к гармоническом тяготениям и распознавание дифференцированной фактуры.
|
Однако, чтобы провести «эталонный» анализ музыкального произведения через психофизические параметры восприятия, вовсе не достаточно отыскать такого слушателя, который обладает всеми перечисленными способностями и навыками. Также это должна быть внутренне подробная и разносторонне развитая личность, свободно (как рыба в родной стихии) ориентирующаяся в европейском культурном пространстве последних шести или семи веков..., причастная (или, по крайне мере, имеющая опыт соприкосновения) и католической, и протестантской, и даже право’славной мифологии, и просвещенческому деизму, и атеизму, и (пост-)романтической эзотерике, и позитивизму (увы, список на этом далеко не заканчивается)..., чувствительная не только ко всему спектру ролевых и социально-культурных различий (от камердинера до короля, от ростовщика до обвешанного орденами военачальника, от просветлённого аскета до развращённого прелата), но и к местному колориту итальянских, немецких, французских, фламандских, австрийских провинций, знакомый с языками, диалектами, фольклорными традициями в стихосложении и танцах, умеющий танцевать бальные танцы нескольких эпох, свободно ориентирующийся в греческой и римской мифологии, да и сам, желательно, владеющий и пером, и кистью, и музыкальными инструментами (неплохо бы ещё уметь ездить верхом и фехтовать).
Каким бы утопическим не показался сегодня нарисованный моими крупными мазками образ «идеального» слушателя, образованный европеец прошлых веков во многом соответствовал этим требованиям. Но, по счастливой случайности, неотъемлемым элементом европейского искусства является не только его глубокая укоренённость в почвенной мифологии и высокая культивированность восприятия, но и определённая (принципиальная) открытость, общительность и вариабельность толкования каждого произведения искусства.
И если то или иное индивидуальное восприятие соответствует хотя бы усечённому ряду основных требований (таких, например, как ощущение гармонических тяготений и навык цитатно-интонационного узнавания), то мёртвый набор звуков или нот вполне может ожить во время очередного контакта между музыкой и слушателем.
8. ( или глава восьмая, в которой говорится, что попытка понять музыку есть одновременно попытка понять самоё восприятие и возможна только как общение индивидуумов, обладающих необходимой подготовкой, и с учётом индивидуальных особенностей их восприятия )
Как следствие, каждый следующий контакт между произведением искусства и его, так сказать, потребителем состоит из неопределённого множества разнонаправленных факторов, всякий раз дающих уникальный (отчасти, прогнозируемый) результат, напрочь лишённый ожидаемого постоянства, цельности или константности. И всякий раз опускание в материал происходит сверху вниз, снова и снова возвращаясь и проходя все тезисы, шаги и ступени, начиная от первой. — Таким образом, всякое аналитическое знание о европейской музыке должно исходить, с одной стороны, из индивидуального человеческого (восприимчивого к основным параметрам уже в силу физиологической данности) восприятия (здесь и сейчас), как непременного условия её существования; а с другой — из множества элементов, образующих (подвижный и развивающийся) фундамент европейской культуры последних семи веков, и в первую очередь — основных элементов европейского музыкального языка (гармонические тяготения, многоголосная фактура, тематизм, формообразование, основные жанровые критерии). Никакого объективного знания здесь взыскать не стоит, — и человеку, не воспитавшему в своём восприятии необходимые навыки, не помогут ни учебники, ни дипломы, ни техническое владение тем или иным музыкальным инструментом. Для людей же, владеющих этими навыками и совершенствующих их, имеющих богатый опыт художественных переживаний и продолжающих его расширять, испытывающих потребность в художественном переживании как альтернативе условной вербализуемой, измеримой успехом и богатством реальности, постулируемой культурой, — открыт путь семантического музыкального анализа как углублённого и творчески насыщенного общения, в котором индивидуальные особенности восприятия одного не вступают в противоречие с особенностями другого, но дополняют их и обогащают опыт и понимание... Научная деятельность, близкая дискуссиям талмудических мудрецов и мало общего имеющая с гуманитарными лже’науками, построенными в эру позитивизма якобы «по модели» точных наук и до сих пор притязающими на некое умножение накопленного знания («сакрального», не иначе).[10]
Конечно, идеалом здесь оказывается общение на ещё более высоком и сложном уровне, максимально непосредственное и насыщенное, вне или над’вербальное, — совместное музицирование (камерная музыка, как вокальная, так и инструментальная, предназначенная не для аудитории слушателей, а для самих исполнителей — не только образ — но и подлинный путь — идеальной коммуникации). Однако не стоило бы недооценивать и собственно аналитические разговоры о музыке: совместное погружение в её глубины — это одновременно и погружение в пространство собственной личности, и погружение во внятно (в том числе, и вербально) очерченную проблематику: как мета’физическую, так и психологическую, историческую или социологическую. Такой анализ вполне может использовать терминологию из области традиционной (институтской) теории музыки, ничуть не впадая в зависимость о неё самой и, главное, от засушенных академических формальных схем. В такой парадигме всякое произведение рассматривается как множество возможностей или путей, как очередная провокация или средство «запуска» процесса интенсивного и дифференцированного художественного восприятия, дающего личности ощущение подлинности своего существования и причастности, апеллирующего ко всем её способностям и сторонам. Чтобы трансформироваться в художественное переживание, произведение должно быть, с одной стороны, пригодным для интерпретации, возможным для восприятия, а с другой — многослойным, интерпретируемым непременно неоднозначно, амбивалентно, сложно, то есть, именно и только — художественно, не превращаясь в йероглиф или знак, и не поддаваясь упрощающему переводу на вербальный язык. В таком варианте восприятия художественное переживание и, соответственно, художественное произведение не превращаются в предмет трафаретной редукции.
|
Самым ярким примером такого высокоорганизованного общения является — музыка, не просто требующая от слушателя времени для совершения полного восприятия, но и сама органическим образом создающая временны́е структуры. Структуры эти, в европейской музыке так или иначе надстроенные сверху, над представлением о более или менее равномерной пульсации (ни слова о метрономе!..), дают человеку возможность особенно интенсивно и разнообразно пережить сам феномен заполненного течения времени и связанные с ним внутренние (имманентные) процессы: как линеарные, так и циклические. Уже вследствие одного этого можно сделать точное суждение о своеобразном, особом режиме восприятия, принципиально отличном от будничного жизненного модуса с плановой ориентацией по часам и календарю. Сверх того, временны́е структуры в музыке оказываются, буквально говоря, резиновыми: они подлежат произвольному (и невольному) сжатию и растяжению, они — неравномерны, многослойны и разномасштабны на всех уровнях своего существа. Разумеется, равномерная пульсация необходима (слава богу, её-то у нас никто не отнимает), однако она не должна стремиться к унылой механической периодичности или, что ещё важнее, к доминированию (и, тем паче, к примату над более сложными и содержательными структурами). Уже в одном этом пункте сравнение сохранившихся звукозаписей музыкантов начала двадцатого века с послевоенными или, тем более, современными, даёт шокирующую картину подмены свободного дыхания — метрономической ровностью. Конечно, и здесь имеется своеобразная семантика, и она тоже — вполне — поддаётся причинно-следственному анализу... Возможно, именно в сложной дифференцированной работе с представлением о времени, переживанием времени, и заключается, в первую очередь, неизменная оппозиционность музыки — к её материнской европейской культуре в целом: веками и по сию пору время в европейском культурном мифе предлагается в самых примитивных пространственных категориях (даже те же часы!) и грубейшим образом постулируется (для физиков здесь нужно сделать исключение) как некая объективно (независимо ни от чего) данная миллиметровая бумага.
...Если когда-либо возникнет серьёзный интерес к возможным временным структурам и моделям времени, первым делом окажется, что музыка на протяжении веков вынашивала и создавала внутри себя всё новые концепции времени; для соответствующего анализа музыкальных произведений не понадобится ни владение фехтованием, ни знание итальянских диалектов (впрочем, верховая езда и, в особенности, танцы всё-таки могут оказаться весьма к месту): представления о движении, неподвижности, линеарности, цикличности, возвращении, обновлении, процессуальности, скачкообразности, ускорении, замедлении, одновременности, разновременности, смещении, концентричности, равномерности, неравномерности возникнут у любого слушателя, хоть как-то причастного европейской культуре; а многие, наиболее фундаментальные из них — у любого человека вообще: просто в силу физиологических процессов (пульс, дыхание, моргание...) и элементарного опыта движения (бег, ходьба, соитие, покой и т.д.).
Две основные принципиально различающиеся модели времени здесь — асинхронная, ориентированная на разномасштабность и плюрализм сосуществующих систем отсчёта (полиметрическая — изначально вокальная — с истоками в полифонии Возрождения); и синхронная, исходящая из единого для всех, общего времени, ориентированная на коллективный или парный танец (всеобщая танцевальность эпохи барокко, притом, с определённым механическим уклоном... впрочем, имеются и исключения: например, Себастьян Бах, вводя хоральные мелодии в синхронизированную ткань, тем не менее, использует первую модель) и марш (с истоками в военной деятельности, позднее трансформированной в романтической мифологии героического). — В более близкой современному человеку синхронной (ньютоновской) модели (соответствующая ей музыка остаётся сегодня актуальной частью современной европейской культуры) можно различить, в свою очередь, четыре принципиально разные модели:
- концентрическая, или баховская (время в ней предстаёт как оборотный водоворот: движение от неподвижного центра к непрерывно меняющейся периферии);
- линеарная, или бетховенская (она лежит и в основе европейского культурного мифа последних веков с его представлениями об историческом процессе, прогрессе, эволюции; Моцарт и Гайдн, предшествующие Бетховену, тяготеют к проникающему синтезу этих двух моделей);
- вертикальная, или шубертовская (индивидуальное, «субъективное» время разворачивается по вертикали к общему, «историческому», как видение или сон);
- и, наконец, мистическая, или брукнеровская (время может остановиться для мистика, созерцающего вечность). — Насколько применимы перечисленные модели в научном (или аналитическом) дискурсе, зависит от того, какая роль отводится наблюдателю.
Рассматривая музыкальное произведение как возможность художественного переживания или, говоря иными словами, аппеляцию к восприятию на разнообразных его уровнях, можно представить себе его как своеобразный оттиск, застывший скульптурный слепок с восприятия. Таким образом, в одновременном «звучании» раскрываются как потребности восприятия (насколько сложным, насколько интенсивным, дифференцированным, эмоционально насыщенным, ассоциативно богатым — насколько интерпретируемым — должно быть произведение, чтобы заинтересовать, увлечь восприятие, «запустить» процесс художественного переживания); а затем и «поверить алгеброй гармонию»,[12] изучив его язык (до-, не- или над- вербальный): что именно необходимо, чтобы вызвать ответное представление о смешном, о смехотворном, о подлинном, о возвышенном, о гармонии, хаосе, красоте, безобразности, страхе, восторге, о живом, о механистичном, о торжестве, отчаянии, печали, проникновенности... — как и структурные представления о повторении, изменении, варианте, отношении, непрерывности, скачкообразности, парадоксальном единстве, логическом единстве, законченности, открытости, закономерности, свободе...
|
Подобный анализ может оказаться плодотворным не только для традиционных наук о восприятии (нейрология, психология, психиатрия), но и заставить задуматься о конструктивных принципах моделирования (человеческого) восприятия.
Какими дополнительными качествами наделила бы искусственный интеллект способность создавать в своём восприятии музыку (на основе ли звука или иным способом переданного соответствующего текста)?.. — В любом случае, наверное, заставила бы его с бóльшим пиететом относиться к роду человеческому. Трудно найти что-то более наглядное и действенное, чем простые музыкальные (для начала, просто ритмические) примеры для выработки у искусственного интеллекта первичной мотивации для поиска (вчитивания и вычитывания) закономерностей в потоке информации, — и именно музыка выглядит идеальным материалом для работы над активным синтезом интеллектуального и эмоционального начал... С другой стороны, интересно, чтó именно сможет услышать такой «оптимированный человек» (с очевидной необходимостью — уже обладающий неповторимой индивидуальностью); возможно, что и здесь имеются веские основания для своего рода пессимистической надежды на будущее сохранение европейской музыки, этого высочайшего достижения человечества.
...Во что, однако, превращается музыка, когда она находится вне своей естественной среды обитания, то есть, за пределами творческого и подготовленного индивидуального человеческого восприятия? — Нотные знаки остаются всего лишь законсервированной возможностью, шифром,[14] лишённые того, кто способен оживить их в своём восприятии, они — всего лишь мелкие насекомые или чернильные пятна на поверхности бумаги... Конечно же, при этом нельзя недооценивать роль устной традиции, которая ныне столь стремительно растворяется в кислоте технических достижений совеременности, без неё знаки — неполноценны... Язык умирает, когда умирает последний его носитель. А чем является такая музыка, прошу прощения (музыка, которую никто не слышит), с точки зрения физики? Сложно упорядоченными колебаниями? Является ли она в таком случае физическим явлением..., и влияет ли её упорядоченность на Вселенную, понимаемую как единая система? Исполненная в пустоте (вакууме), не превращается ли она в чистую мысль или сущность, лишённую своего субстратного носителя, материи?
...В любом случае, тесные отношения музыки со «временем как таковым», с сознанием и подсознанием, с мирозданием в целом «поверх человека» — составляют систему представлений, играющих важнейшую роль в европейской (и не только) музыкальной семантике и лежащие в основании её ритуальной природы.
9. ( или глава девятая, в которой говорится, что семантический анализ музыки есть анализ её семантизации, интерпретации восприятием: на уровне базовых параметров, на уровне представления о структурах и их отношениях, и на уровне связанных с культурным контекстом и личным опытом ассоциаций, знаков и символов )
Как следствие хаотической (или якобы управляемой) суммы отдельных состояний одного человека, так же и вся цивилизация в целом не обладает и не может обладать свойствами цельности, констатности или абсолютности. — Так, или почти так я начинал свой пятый пункт, принципиально срединный не только для семантики вообще, но так же и для всего остального (за её пределами)... — Так каковы же, спросил бы я напоследок, инструменты собственно семантического анализа (в идеале — проходящего в форме углублённой беседы знатоков и любителей музыки или учителя с учениками, — но, конечно, возможного и в виде фиксированного, записанного текста)?
Пожалуй, самым продуктивным представляется опорное понятие, производное от некоей внутренней открытости или интерпретируемости, и понимаемое как единица смыслового измерения художественной интенсивности произведения. Основным же инструментом в этой парадигме станет представление о семантизации, под которым имеется в виду некий, происходящий «в реальном времени» поступательный процесс приписывания (присваивания) восприятием значений (не только смысловых, но и вполне формальных или структурных) произведению, т.е. по сути — самое восприятие (= интерпретация) как художественное переживание. В этой связи мне остаётся только ещё раз напомнить, что музыкальный смысл — собственно музыка (а не звуки) — находится не в музыке, но в голове слушателя во время художественного переживания (слушания, исполнения, чтения партитуры, воспроизведения по памяти), каждый раз заново синтезируя ощущения и представления о неизменном, идеальном с одной стороны, и сиюминутном, индивидуальном и случайном — с другой.[15] Вне процесса семантизации, различения (или вчитывания) значений, пускай и на самом элементарном, базовом уровне, не существует никакого восприятия, музыка оказывается — не более чем шумом или аккустической помехой (возможно, сохраняя единственное различие — в своей приятности либо неприятности...)
Попутно замечу, что под элементарным базовым уровнем автор этой статьи имел в виду совокупность основных параметров (почти физических... по своей фундаментальности или простоте), связанных с музыкальным материалом, как то: громкость, высота, скорость (темп), фактура (плотность звука), артикуляция (активность атаки), тембр... Различение и распознавание на этом уровне происходит почти автоматическим (рефлекторным) образом, в непосредственной связи с бытовым опытом и ощущениями собственного организма. К примеру: оценка быстро или медленно, равномерно или неравномерно, — ориентирована на органы дыхания, пульса, ходьбы и прочего физиологического ритма (учащённого или спокойного); восприятие высокого или низкого (а также громкого или тихого) звука связана с навыками речи, слуха или пения (большего или меньшего напряжения голосовых связок, распределения дыхания, нагрузки на слуховые мембраны); субъективное ощущение длинного и краткого приходит из опыта движения (говоря шире, любого изменения... в согласии со временем), но связано также и с речью, и с тактильными ощущениями... Разумеется, этот список открыт, его можно продолжать и далее. Повторюсь ради понятности: различение на этом уровне физической (и физиологической) информации, поступающей в организм, можно считать сугубо автоматическим или формальным (формализация параметров), в строгом смысле, оно ещё не является художественным переживанием, но только оно делает его возможным (необходимое, но не достаточное). По правде говоря, без вездесущего процесса первичной интерпретации, семантизации, не обходится и здесь: на свете не существует «просто-объективного» или «изначально-данного» нам в ощущениях эталона по критерию быстро или медленно,[16] это сугубо субъективная (или, говоря точнее, субъектная) интерпретация восприятия, ориентированная на общий физиологический опыт, но — ничуть не свободная и от влияния современной (воспринимающему субъекту) субстратной культуры, а также множества индивидуальных факторов, начиная от физиологии (или самочувствия) и кончая — темпераментом каждого конкретного слушателя.
Не так трудно очертить пунктирный круг основных значений, связанных с этими параметрами в европейской музыке: начиная от первых орга́нумов (простейшая дуалистическая модель, дающая два крайних состояния: от страшного, угрожающего, предельно напряжённого — до просветлённого, прозрачного, спасительного или утешительного) и кончая последними «достижениями» многочисленных молотков без мастера. — Само собой, пределы элементарной физиологии мало пригодны для их расширения или, тем более, ревизии. Композиторов, которым удавалось нарушить или даже преодолеть привычные устоявшиеся значения, связанные с громкостью, темпом, тембром, консонантностью и диссонантностью, простейшими пространственными представлениями (как то: движение вверх, движение вниз, расхождение в разные стороны или схождение), а также представлением о равномерности и возможными отклонениями от неё (как то: ускорение, замедление, прекращение пульсации ритма) — исключительно мало. Особенно заметно это на «экстремальной» музыке авангардистов ХХ века, от Шёнберга и Вареза — до Лахенмана и его эпигонов, без малейшей дополнительной критической рефлексии перенимающих традиционную семантику базисных параметров. Как примеры попыток пере’семантизации этих параметров можно вспомнить Ксенакиса, Айвза, Кейджа, Берлиоза, Фельдмана (упоминаемых здесь исключительно в контексте прерванной в зародыше попытки А.Скрябина превзойти не только все возможные физиологические параметры музыки, но и вовсе покончить с феноменом физической и духовной жизни)... К слову сказать, при продолжении подобной пере’семантизации вполне может потерять значение и первичное представление о контрасте, столь важное для европейской музыки.
|
Продолжая всецело следовать в траверсе диалектического материализма,[16] подробный семантический анализ музыкального произведения стоило бы начинать именно с рассмотрения того, как представлены и как проявляют себя в его языковой ткани базовые параметры, образующие нечто вроде аксиоматической системы координат: предполагает ли оно семантизацию на силовых стержнях, типа «громко-тихо», «медленно-быстро», «высоко-низко», «благозвучно-неблагозвучно», «плотно-разряжённо», «длинно-коротко», «равномерно-неравномерно»... Конечно, не следовало бы стремиться при этом к окончательным и точным вербальным характеристикам, однако представление о примерных оценках по дуалистической шкале («да-нет») было бы полезно себе составить. — Громкость, высота, тембр, дифференцированная артикуляция получают особенно большое значение в музыке как романтической, так и следующих за ней эпох, взыскующих крупных (или даже исполинских) оркестровых составов или (в наше время) — предоставляемых компьютером и звуковоспроизводящей техникой широких возможностей. К примеру, музыка Ренессанса и Барокко использует в своей языковой и конструктивной ткани не столько оппозицию «высоко-низко», сколько физически наглядные аналогии, связанные с направлением движения (вверх-вниз), а также массивностью звука (тихо-громко, один-много), что требует от слушателя уже большей специальной настройки (и, таким образом, уже не может рассматриваться как проявление чисто базовых, физиологически обусловленных параметров, переходя в смежную с ними область психологии или эстетики). — Хотя и в этом случае «первобытная» семантика высоты, напрямую связанная с физиологическим опытом речи и пения, остаётся в своём начальном значении.
Следующий за формализацией этап семантизации можно кратко обозначить как — онтологический.
Речь здесь идёт, конечно, не о хронологической последовательности как таковой, а о некой дальнейшей степени индивидуализации, сложности и укоренённости в культурном контексте задач, поставленных перед индивидуальным (а также и совокупным) восприятием. Впрочем, при анализе подобная последовательность неизбежно должна быть оговорена — именно в таком, хронологическом порядке. Речь здесь идёт о том, что в некий условный «момент» восприятию предлагается пережить определённое произведение как единство, лик, индивидуальную сущность, так что все его — в том числе разнородные — составляющие части (а чем острее восприятие, тем их больше и тем сложнее их взаимоотношения) предстанут в виде его элементов, проявлений этого единства, части целого, — которое (разумеется же!) не равно простой сумме его частей. На (втором) этапе онтологизации восприятие начинает «охотиться» за конструктивными деталями, позволяющими установить («вчитать», вос’создать или создать в себе самом) внутренние закономерности, структуры и отношения, образующие целое. — Повторение, изменение, сходство, различие, вариант, обновление, контраст, развитие, движение, цикличность, процессуальность, нарастание, спад, одновременность, разновременность, подчинённость, соподчинённость, иерархия, разделение, соединение, противопоставление, сочетание, сравнение..., короче говоря, все эти (и ещё многие другие) представления становятся важными инструментами онтологизирующей семантизации, неизбежным образом проецируясь на произведение, переживаемое в процессе восприятия. Равным образом, в дело идут и пространственные представления о границах, разделах, пропорциях, симметрии, членении, с помощью которых создаётся ощущение и понимание музыкальной формы как структурно дифференцированного единства. — Наконец, никакая онтологизация в восприятии европейской музыки (и в этом, может быть, состоит её главная отличительная черта, дающая ключ к секретам её необычайной силы) невозможна без развитого гармонического чувства, то есть, подробного внутреннего навыка переживания гармонических тяготений. Конечно, измерить в звучащей музыке каким-то специальным прибором тяготение доминанты в тонику — реально невозможно..., и всё же, вне всяких сомнений, такой результат будет получен при сканировании активного & подготовленного восприятия.
Вокальная полифония Возрождения демонстрирует нам в своём развитии и статике: каким образом становится возможным такое грандиозное достижение европейской культуры как музыкальная форма.
Почти всё в вокальных шедеврах той эпохи кажется связанным (или даже производным) от своего литературного первоисточника. Из него вытекает почти всё значимое: и имитационная фактура, и тип движения, и насыщенность гармонии (чередование трезвучий и их вариантов), и голосоведение (отношения сочетаний, воспринимаемых как диссонансы и консонансы), и мелодика (направление движения, степень его плавности, ритм)..., в конечном итоге, превращая всё музыкальное произведение в своеобразный сублимированный текст. Как следствие, оперативный простор для семантического анализа здесь поистине безбрежен. Впрочем, и сама мотетная форма в целом кажется столь же зависимой от словесного первоисточника: количество разделов, их отношения определены строением текста, его стилевыми особенностями и смысловым членением. Но вот, по результатам такого анализа парадоксальным образом оказывается, что едва ли не любой вокальный мотет (духовного ли, светского ли содержания) с лёгкостью может быть исполнен чисто инструментально, в полном отрыве от своих «изначальных» слов, текста, содержания. Причём, его интерпретируемость таким образом даже повышается, и перед семантизирующим восприятием ставятся новые задачи. Можно было бы даже сказать, что усложняется игра (ибо никакое искусство без игрового начала непредставимо), однако даже сама по себе игра эта в общем контексте европейской музыке кажется до такой степени непосредственно связанной с основами культуры и личности, что теряет отчётливую границу, отделяющую её от ритуала или духовного делания. Почти бесконечная возможность и — завораживающая увлекательность! — онтологизации восприятием такой полифонической фантазии (либо просто исполненного на инструментах мотета, либо оригинальной инструментальной композиции в соответствующем стиле) связана, в первую очередь, с прихотливостью и подвижностью гармонии: от одной каденции до другой, через цепь напряжённых звучаний к разрешению, от одной «тоники» к другой, ещё более «тонической». — Полифоническая фактура (местами и гомофонная, между прочим) рождается как бы одновременно с движением гармонии, проходящие аккорды (по сути дела, трезвучия) интерпретируются восприятием как сумма мелодических линий, но сами по себе гармонические последовательности, смены лада, терцовые, квинтовые, секундовые соединения определяют то, что воспринимается как непосредственное дыхание формы. При этом здесь нет ещё потребности в искусственно созданном замкнутом пространстве квинтового круга; мотетная форма раскрывает сама себя в некоем искусственном, принципиально открытом пространстве.
Одновременно же с тем, как возрастает интерес к чётко представимым формальным структурам, постепенно совершенствуются и необходимые для этого предпосылки. Во-первых, принципиально упрощается модель времени: временной плюрализм уступает место единоначалию синхронности, — общему метру для всей фактуры. Во-вторых, на основе единого метра устанавливаются более крупные симметричные, квадратные структуры (такты, сгруппированные от одного каданса до следующего): принципы танцевальной музыки как цикла (синтез статического и динамического начал), найденные ещё Возрождением, развиваются в пантанцевальную эпоху Барокко до максимальной подробности и даже — измельчения. Наконец, в-третьих (и это, пожалуй, самое важное!..), пресловутый клавир наконец-то становится хорошо темперированным... И это не в смысле представления о «правильности» или красоте звучания (она-то здесь как раз приносится в жертву), а именно в смысле представления об идеальном, совершенном замкнутом пространстве, — таким образом, завершается создание тональной системы как сложного подвижно-неподвижного воображаемого пространства, двенадцать (на самом деле их число стремится к бесконечности и принципиально не поддаётся никакому учёту) элементов которого являются (причём, одновременно и каждый) — центром и периферией (пространство, в котором все и каждый вращается вокруг всех и каждого)...
|
Способность восприятия онтологизировать в процессе художественного переживания (создавать представление о сложно структурированном, дифференцированном и, одновременно, статичном и подвижно-изменчивом целом) достигает своей кульминации — в баховских фугах и сюитах, а затем и далее — в сонатно-симфонических (а также и вокальных) циклах Гайдна, Моцарта и Шуберта; способность эта сохраняется по меньшей мере до появления опер Вагнера и симфоний Брукнера, раскрывающих в предельной наглядности природу тональной системы (всю тональную музыку можно рассматривать как одно произведение, посвящённое открытию и исследованию природы (и породы) идеального — воображаемого — реального — тонального пространства).[19] А затем наступает неизбежная «реакция»: почти вся музыка двадцатого века оказывается словно бы посвящённой поиску альтернатив прежней системы, — в целом достаточно бесплодных, поскольку остальные элементы традиционного музыкального языка (мелодика, фактура и приёмы мелодического и фактурного развития, форма в отрыве от гармонического контекста и гармония, как звучащие краски, в отрыве от формы) не претерпевают столь же масштабных изменений, продолжая мыслиться в прежней традиции: как более-менее неизменные, сохраняющие большинство черт тонально-гармонической семантики.
Восприятию только что перечисленных элементов и посвящён последний раздел семантического анализа, — при этом ни на минуту не следует забывать и первого тезиса, неумолимо гласящего, что никакой онтологизации самой по себе нет и не может быть: закономерности и структуры не могут быть голыми или пустыми, при всех прочих обстоятельствах они остаются всегда закономерностями и структурами чего-то. И здесь, словно бы в кошмарном финале реквиема Верди, я позволю себе ещё раз приподнять кверху свой маленький... указательный палец:
как содержание индивидуального интерпретирующего восприятия...
Совсем не случайно этап этот поставлен — сюда, вниз, на самое последнее место. Так произошло единственно потому, что он — уже в полной мере — зависит от культурного контекста и степени личной укоренённости в нём, а также от совокупности индивидуальных особенностей и опыта воспринимающего. Речь здесь идёт о семантизации, означивании — уже в самом прямом смысле слова: об ассоциациях, символах, аллегориях, картинах, ситуациях, эмоциональных состояниях, возникающих при художественном переживании того или иного произведения. Такое означивание, конечно, присутствует и в каждом моменте на двух прежних этапах: как в процессе формализации, так и онтологизации, как минимум — в форме ощущений и эмоций, связанных с узнаванием, пониманием и открытием (а равно и «обратным» чувством неудачи (не)узнавания и (не)понимания или досады от слишком низкой интерпретируемости — слишком высокой однозначности — текста и так далее). Анализ ассоциативного означивания связан далеко не только с психологией и нейрологией, но и в огромной степени — с историей, точнее говоря, с погружённостью каждой конкретной личности в совершенно определённый культурный контекст. Вот здесь как раз, в самую пору приходятся даже самые экзотические навыки, перечисленные в рамках седьмого пункта: и опыт верховой езды, и владение языками, и знание литературы (как художественной, так и философской) и, конечно же, глубокое знакомство с элементами христианской традиции... Причём, очевидно, что простой начитанности тут совершенно недостаточно. Необходимо ещё и чувство стиля, интуитивное понимание природы различных жанров, эмоциональная восприимчивость к основным темам и христианской мифологии, определённым социальным и философским представлениям разных эпох, эротическая чувствительность, в конце концов...,[14] — да и просто соответствующим образом развитое чувство юмора...
Безусловно, в последнем анализе могут и должны быть использованы и личные ассоциации участников беседы (даже самые тонкие), но всё же, значительно более важным (базовым) остаётся обращение к столь многочисленным знакам и символам исторически сложившегося «культурного кода».
Пожалуй, целесообразнее всего здесь было бы начать с учения о жанрах, о само́м феномене и о жанрах европейской музыки, а затем коснуться их предпосылок: бытовых и культовых. Вопрос о жанровых истоках можно и до́лжно ставить по отношению почти к любому уровню и элементу произведения: причём, не только и не столько по отношению к тому жанру, который обозначен в его названии (хотя и это, конечно, нельзя оставлять за пределами зрения), но — и прежде всего — к мелодическим, метро-ритмическим, тембровым, фактурным и (не в последнюю очередь) формальным его составляющим. — В тесной связи с основным «вопросом о жанрах» необходимо также поднять две следующие темы, имеющие, впрочем, и вполне самостоятельную ценность, в том числе и — физи(ологи)ческую.
- 1. (со)Отношение музыки и слова: речевая интонация (её семантика и эмоциональная насыщенность), ритм и мелодика речи, параллели с грамматическим строением языка. Также в зону анализа попадает и широчайший спектр связей смысловых значений (канонические религиозные тексты, гимны, псалмы, любовные шансоны, шуточные песни, военные марши и тому подобное) с мелодикой, ритмом, фактурой и формой — от неизменных на протяжении веков музыкальных символов (представленных, скажем, в многочисленных мессах, реквиемах, пасторалях, серенадах...) до утончённых, глубоко индивидуализированных способов связи музыки и текста как, например, у Лассо, Джезуальдо, Монтеверди, Шютца, Баха, Моцарта, Шуберта, Шумана, Вольфа или Берга.
- 2. (со)Отношение музыки и жеста, от жеста как элемента риторики до бесконечного разнообразия танцевальных поз и фигур с их более или менее неизменным соответствием в мелодике, ритмике, фактуре и форме (степень следования строгой квадратности).
- 1. (со)Отношение музыки и слова: речевая интонация (её семантика и эмоциональная насыщенность), ритм и мелодика речи, параллели с грамматическим строением языка. Также в зону анализа попадает и широчайший спектр связей смысловых значений (канонические религиозные тексты, гимны, псалмы, любовные шансоны, шуточные песни, военные марши и тому подобное) с мелодикой, ритмом, фактурой и формой — от неизменных на протяжении веков музыкальных символов (представленных, скажем, в многочисленных мессах, реквиемах, пасторалях, серенадах...) до утончённых, глубоко индивидуализированных способов связи музыки и текста как, например, у Лассо, Джезуальдо, Монтеверди, Шютца, Баха, Моцарта, Шуберта, Шумана, Вольфа или Берга.
Далее... со всей неизбежностью возникает вопрос о семантике гармонии: начиная от самого феномена гармонического тяготения и представлений о диссонансе и консонансе, — вплоть до семантики отдельных аккордов, гармонических функций и гармонических оборотов. Говоря о формообразующей роли гармонии, придётся снова вернуться на один шаг назад — к теме онтологизации, при этом можно осветить (с новой стороны) — символический & знаковый потенциал различных кадансов, секвенций, отклонений, модуляций. Рассмотрению подлежат как установившиеся (традиционные) гармонические обороты, используемые в неизменном виде поколениями композиторов, так и более — индивидуальные, штучные или даже «из ряда вон выходящие», как, скажем, бывало у Шуберта, Берлиоза, Брукнера или Мусоргского (между прочим, небезынтересной в этом пункте может оказаться и тема семантической инфляции гармонии, проявившей себя пышным цветом в музыке Рихарда Штрауса и ему подобных).
|
Наконец, последним и наиболее общим, сложным и захватывающим вопросом оказывается семантика формы. Здесь появляется всеобъемлющая (хотя и метафорическая, отчасти) категория дыхания: индивидуального, интеллектуально и эмоционально насыщенного, идеально-статичного и подвижного живого пространства-времени, возникающего (в художественном переживании воспринимающего — как создание новой реальности!) в качестве синтеза гармонического, метрического, мелодического, фактурного — с одной стороны — и структурного — с другой — уровней. Всякое состоятельное и состоявшееся музыкальное произведение европейской традиции даёт восприятию возможность каждый раз заново, по-новому создать и воссоздать этот синтез: увидеть, прожить, понять соотношение именно этого конкретного материала в рамках именно этой конкретной формы, погрузиться в осмысление и переосмысление отношений контекста и составляющих его элементов, пережив, таким образом, на практике мета’физическую проблематику не только формы и содержания музыкального произведения, но и, вместе с ним, — своего собственного существования. И здесь, словно выскочив из-за спины, снова возникает тема моделей времени, а вместе с ними — и моделей истории, личности, общества, вселенной...
Сама по себе ценность единства или целостности произведения, утверждавшая себя на протяжении веков как непреложный факт или аксиома, а затем блестяще решавшаяся поколениями художников как сложная проблема, незаметным образом оказывается — к началу двадцатого века — под большим знаком вопроса..., а сегодня, в тот день, когда я заканчиваю свою статью, может показаться, для начала, анахронизмом, затем — забавным казусом и, наконец — золотой мумией музейного раритета.
и такие же... ис’ сточники
Литтера’тура ( в том числе, семантическая )
См. тако же
— Некоторые желающие сделать заметку или помарку,
« s t y l e d & s c a l p e d b y A n n a t’ H a r o n »
| ||||||||||||