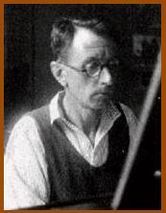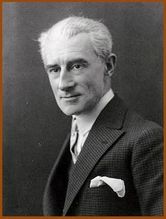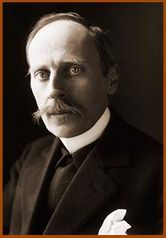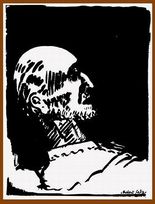Луи Дюрей (Эрик Сати. Лица)
( несомненная лесть )
Луи́ Дюре́й (иногда Дюре́, Louis Durey), а если сказать всё полностью, до конца, тогда Луи́ Эдмо́н Дюре́й (Louis Edmond Durey) или, может быть, всё-таки Дуре́й?.. — ой, и правда, девочки, а кто это такой? Не знаю как вы́, а я..., — я, так, в первый раз слышу, и что это за «Дурей» такой, странный-престранный? Да ещё и Луи, вдобавок? — а ещё говорят, что во Франции со времён Робеспьера (или Наполеона, это уж всё равно) не слишком-то модно называть детей: Луи... А здесь, что за дикая выдумка? — и мало того, что Людовик, так ещё и Дурей!.. — престранная история! — И в самом деле, хотелось бы знать, что это за Луи́ Дуре́й? Или хотя бы поинтересоваться... у кого следует. Некоторые, вот, люди знающие говорят, что это-мол и в самом деле Дуре́й из какой-то «Шестёрки». И даже не просто один из них, а самый старый, пардон, старший из её членов (в смысле возраста). И ещё — самый маленький по росту. И раньше всех облысевший. Очень странная история... А ещё говорят, что он был из этих..., советских французов. Особенно — во времена Коминтерна. А затем ещё раз, немного позже. После войны, конечно. Особенно — в 1960-е годы. Когда он «по заказу» советского посольства (по скрытому заказу, конечно) сочинял прекрасные х-ровые кантаты..., нет, не о Ленине. И даже не о Сталине. — Но всё же, это были настоящие прекрасные кантаты на стихи Мао Цзэдуна, Хо Ши Мина, Назыма Хикмета, Поля Элюара, Ленгстона Хьюза, Владимира Маяковского и других, божьей волей, коммунистов. Дым до небес. В общем, полный джентльменский набор: всё как полагалось — во времена зрелого социализма. А затем и перезрелого..., как груша. И всё-таки, кто же такой, этот Дуре́й? — если отбросить все глупости... Луи Дуре́й, между прочим... — это..., это французский композитор (скажем так, ради порядку) первой половины XX века, получивший известность главным образом в качестве одной персоны из короткого списка (составленного некто Кокто к Новому 1920-му году) группы «Шести». Несмотря на то, что это будет очевидная неправда, можно смело назвать Дурея одним из несущественных и несуществующих учеников Эрика Сати. Пожалуй, именно здесь и скрывается наиболее важная основа известности Луи Дуре́я: композитора, чиновника и коммуниста... Пожалуй, он первым среди прочих последователей примкнул к «аркёйскому учителю», демонстративно не признававшему никаких учеников и школ, за что и был впоследствии премирован (тем же Жаном Кокто) членством в «Шестёрке». — Кстати, кроме этой, весьма сомнительной «Шестёрки», Луи Дуре́й также выдвинулся по партийной (чтобы не сказать, профсоюзной) линии..., как член ФКП (французской коммунистической партии) и не просто член, а весьма видный член..., занимавший должность генерального секретаря (нет, не партии!)..., пардон, а впоследствии и президента Народной музыкальной федерации Франции. Пожалуй, не будет лишним ещё и сказать, что мсье Луи был видным другом страны победившего социализма, и сверх того, секретарём общества «Франция-СССР». Впрочем, положа́ руку на́ сердце, всё это какая-то чушь..., причём, — несусветная. Возможно, даже на постном масле. Прошу прощения. Кажется, в последнее время я дуре́ю..., дуре́ю..., и видимо, совсем уже́ одуре́л. В отличие от некоторых. Биография этого человекаЛуи Дюрей (и всё-таки не погнушаюсь ещё раз повторить: «эй, Дурей! — Louis Durey»), — этот человек, чтобы не произносить других слов, родился 27 мая 1888 года в малоизвестном провинциальном городе Париже (в семье своего отца, типографского рабочего, как это ни странно). Правда, к чести этого Дюрея, в Парижской консерватории он не учился, и до 19 лет даже и не помышлял о том, чтобы стать музыкантом, тем более — профессиональным. И здесь, на фоне полной неопределённости, пожалуй, впервые возникает в его судьбе призрак Эрика Сати. Планы Луи Дюрея резко поменялись в 1907 году после посещения театра (вероятно, это была Опера́-Комик), где в очередной раз исполнялась опера Дебюсси «Пеллеас и Мелисанда».[2] Теперь можно сказать, что именно тогда, после этого спектакля он буквально — стал Дюреем. Видимо, тогда ему впервые померещилось, что его дальнейшая судьба как-то связана с музыкой. И вот, он начал действовать в согласии с этим новым ощущением. Ещё до получения диплома Высшей коммерческой школы (это случилось годом спустя, в 1908), где он продолжал учиться, Дюрей поступил в Школу канторов вольнослушателем (практически, в одно время с тем же Эриком Сати) где частным образом брал уроки фортепиано, сольфеджио, гармонии, контрапункта, фуги и, наконец, даже композиции — и всё это у одного профессора Леона Сен-Рекьё. Впрочем, в отличие от Высшей коммерческой школы, здесь Дюрей никакого курса (формально говоря) не окончил и диплома не получил.[3] Таким образом, придётся сказать со всей возможной прямотой: как композитор и дирижёр Дюрей всю жизнь оставался — в полной мере самоучкой.
И всё же, несмотря на это незаконченное образование, Луи Дурей несомненно обнаружил в своём характере склад ученика, причём, ученика нутряного, прирождённого..., — чтобы было понятно — человека, способного и желающего постоянно заимствовать и учиться всему, — всему, что ему нравилось... Таким образом, в период от 18 до 23 лет Луи последовательно прошёл через несколько горячих увлечений. Сначала, как понятно, это был прохладный импрессионизм, затем более сложная атональная музыка вообще и нововенская школа в частности (воспринятая прежде всего через музыку австрийца Шёнберга, благо что Первая мировая война в тот момент ещё «не совсем» началась). Многие ранние сочинения Дюрея написаны в довольно изысканной и тонкой атональной манере.[комм. 1] Среди этого раннего добра (равно тонкого и изысканного), пожалуй, можно упомянуть хоры a capella на стихи Анри де Ренье и Шарля Орлеанского.[4] Собственно говоря, на этом месте... обсуждение биографии Луи Дюрея можно завершить (словно бы внеплановым образом), поскольку люди подобного склада по существу (и по существу своему) попросту не имеют никакой биографии, — кроме нормативной. — А потому, говоря без обиняков, — дело было так: в 1961 году Луи Дурей окончательно переселился в Сан-Тропе,[2] где и скончался 3 июля 1979 года..., в неправдоподобном возрасте (совсем как в сказке). — В день смерти, как говорят, ему был 91 год..., с небольшой мелочью.
Сати..., и — ДурейИ вот, снова здесь этот Сати. Уже несколько раз я произнёс его знакомое имя ... всуе. Затем последовало несколько встреч-раскланиваний, впрочем, вполне эпизодических (чтобы не сказать: «никаких»). Когда молодой человек (почти подросток) случайно сталкивался со странным, вечно ехидноватым и непохожим человеком — там, в церковных стенах (или коридорах) парижской «Школы канторов», где оба они были... чужими. — То ли очень вольными «вольнослушателями», то ли слишком посторонними «сторонними наблюдателями»... Один (который помоложе) — из высшей коммерческой школы. Другой (тот, что постарше) — из рабочего пригорода Парижа под странным названием Аркёй-Кашан.
Немного позже, да, так было..., — кажется, в 1911 году Луи Дюрей впервые напрямую столкнулся со странными продуктами творчества этого очень особенного, ярко-эксцентричного музыканта и композитора Эрика Сати. Столкновение опять случилось «благодаря» импрессионизму..., точнее говоря, благодаря второму королю импрессионизма, и также — второму пожизненному должнику... — именно тогда Дюрей услышал странные звуки «Вялых прелюдий для собаки» — на первых парижских концертах Сати, организованных хитрым Равелем. А спустя ещё год — Дюрей познакомился с этим собачьим Автором лично и (хотя и не сразу, конечно) стал его едва ли не самым ярым (чтобы не сказать: верным) последователем — (тем самым «сатистом», о которых не раз толковал сам Сати, с равным пристрастием и раздражением)...
Именно таким раздражителем и был, без лишних слов, — наш маленький Луи... И здесь всё можно пересчитать по пальцам.
Разумеется, и Дюрей не стал исключением. И для него жёстким (чтобы не сказать «жестоким») переходным этапом стала скандальная премьера балета «Парад» (хотя..., если говорить начистоту, какой же это был, к чёрту, балет!) — Взрыв на пустом месте. Газовая атака в центре Парижа (первый округ, — имперский театр Шатле). И снова повторю, чтобы меня не обвинили в рассеянности. — Одним из первых мощнейших толчков, давших молодым музыкантам Франции толчок недюжинного эпатажа и подтолкнувшим (под некое мягкое место) к восстанию против загнивающей роскоши «дебюссизма» и прочей академической затхлости, стал якобы-балетный спектакль «Парад» на музыку Сати. Значение этого скандального взрыва (второго после «Весны священной») в области эстетики и идеологии искусства невозможно переоценить. Вот, уже который раз за свою жизнь Сати выступил этаким «сигналом поворота» и дерзким ниспровергателем господствующей системы ценностей, указав новые пути своим негнущимся и вечно грозящим пальцем. Совсем не случайно... и вовсе не зря балет «Парад» стал манифестом (ещё не существующего!) сюрреализма, — впервые выставив на сцену свою особенную реальность, и даже «сверх’реальность», — более реальную, чем са́мая реальная реальность. И даже само по себе это слово «сюрреализм» впервые появилось именно здесь, в манифесте «Новый дух» (L'Esprit nouveau), специально написанном Аполлинером к премьере балета «Парад». ...Спектакль, поставленный в 1917 году, в разгар войны, многим показался вызовом здравому смыслу. Музыка Сати, такая простая, обыденная, наивно-искусная, подобно картинам таможенника Руссо, вызвала скандал своей нарочитой обыденностью. Впервые (потому что позднее это случалось часто) мюзик-холл заполонил Искусство, Искусство с большой буквы. И действительно, в «Параде» танцевали уан-степ. В этот момент зал разразился свистом и аплодисментами. Весь Монпарнас ревел с галёрки: «Да здравствует Пикассо!» Орик, Ролан-Манюэль, Тайефер, Дюрей и многие другие музыканты орали: «Да здравствует Сати!» Это был грандиозный скандал. В моей памяти, как на экране, возникают два силуэта: Аполлинер, в офицерской форме, с забинтованным лбом... Для него это был триумф его эстетических взглядов. И другой силуэт, словно бы в тумане — это Дебюсси, на пороге смерти, шепчущий, покидая зал: «Может быть! Но я уже так далёк от всего этого!» Некоторое время «Парад» незаслуженно презирали, но теперь он занял место в ряду бесспорных шедевров ».[6] На волне скандала нужно было срочно ковать успех... — В противовес академическому, засохшему и опухшему Национальному музыкальному обществу (а равно и Независимому музыкальному обществу), всецело находившимся под пяткой Форе, Равеля и Шмитта, Сати ещё во время войны попытался организовать «Концерты новых молодых» (Les concerts des Nouveaux Jeunes). — Именно та́к (словно бы в прямое возражение несносному Равелю) он назвал группу восторженных почитателей новой «парадной» (совсем непарадной) эстетики. Первый концерт «новой молодой» группы состоялся в Париже вскоре после премьеры (и прямо на гребне волны) «Парада», 6 июня 1917 года (после первого и единственного скандального спектакля не прошло ещё и месяца). В программе концерта значилась сюита из балета «Парад» Сати, фортепианное трио Орика, те самые «Колокола» Дюрея и шесть поэм Онеггера на стихи Аполлинера. После первого артистического успеха к группе присоединился ещё и вернувшийся с фронта Ролан-Манюэль.[4] В последние два года этой войны..., несомненно, самой прекрасной в истории человечества, новым центром притяжения для артистической молодёжи в опустевшем Париже стал маленький театральный зал на Монпарнасе «Старая голубятня» (Вье-Коломбье), своеобразная суб’аренда по оказии..., во главе которой стояла певица Жанна Батори (вместе со своим мужем, Эмилем Энгелем). — Здесь было маленькое (и заранее маргинальное) место движения для застывшего искусства..., застывшего от войны и старости. Здесь проходили вечера новой & авангардной поэзии, ставились первые пьесы начинающих драматургов и звучала музыка молодых (а также, как видно, «новых молодых») композиторов. — Именно театр «Старой голубятни», а также ещё один небольшой концертный зал на улице Юге́н Эрик Сати смог превратить в «новый молодой» плацдарм для наступления радикальной композиторской группы, объединившейся под вывеской «Концерты новых молодых». Именно здесь и был замешан коктейль (пока без Кокто, между прочим) между будущими членами «Шестёрки»: Онеггером, Ориком, Тайефер, Дюреем и Пуленком. — И только один несчастный, Дариус Мийо остался в стороне от собственного будущего. В это время он сча́стливо (и в полном неведении) находился в Бразилии (на дипломатической службе у поэта & посла Поля Клоделя, благополучно спасаясь от военной службы и германского фронта).
Психологическая зависимость и несамостоятельность, неустойчивость взглядов и постоянный поиск внешней опоры: как творческой, так и дружеской — пожалуй, этот набор образует основные силовые линии внутри странной, изломанной личности этого Луи..., Дюрея. Именно отсюда произрастают его многочисленные творческие перемены и переходы (лавирования) от одного учителя или образца — к другому. Вместе с тем, можно сказать, что Дюрей каждый раз был искренним учеником (или другом) и так же искренне старался оставаться верным до упора. В нескольких концертах группы «Новых молодых» 1917 года, устроенных Эриком Сати в противовес группе «просто Молодых» Мориса Равеля, Дюрей неизменно выступал вместе с Жоржем Ориком и Жаком Ибером, всячески выказывая Эрику Сати свою (бес)предельную лояльность. И не только словами... или внешним поведением..., было кое-что и поглубже. — Ну..., например: вскоре после скандальной премьеры (не) балета Сати «Парад» Дюрей сочинил до неприличия подражательную (точнее говоря, эпигонскую) сюиту «Цирковое представление» для фортепиано, — закономерно вызвавшую желчное раздражение патрона. Не пройдёт и полугода, как этот опус будет достаточно грубо обруган обожаемым предметом подражания.[8] Равель – «духовка»; если бы Вы знали, как он мне опротивел! – сверх всякой меры. Дюрей тоже, разумеется. Вот же подонок, не приведи господь! Злобно атакует Орика верхом на своей лысой свинье. Обзывает Орика «говядиной», которая он сам и есть... Ну и олух, ну и осёл!.. Да он чистейшая сволочь, говорю Вам; & ещё и глуп!.. Глуп..., как медведь, к тому же. То же самое и его музыка!.. Глупее глупого! «Цирковые сцены»! Ах-хах-хах, как это забавно! Но не будем говорить об этой законченной телятине: он слишком холодный, и никуда не годится, даже с горчицей...[8] Впрочем, и в публичных выступлениях Сати с трудом мог выдавить из себя несколько слов... в адрес своего «верного ученика». Так, в мае 1918 года, характеризуя во вступительном слове композиторов из группы «Новые молодые», Сати с трудом подыскал всего шесть слов, до предела сухих и ехидных, чтобы дать портрет одного из шести: «Дюрей — артист очень серьёзный и озабоченный».[8] — И всё! (при том, что для характеристики остальных музыкантов у него нашлось куда больше эпитетов и замечаний)... — Возможно, что именно по этой причине «телятина-Дюрей», оставив неласкового мэтра, (впрочем, временно) переметнулся в группу сателлитов душного-Равеля (уже упомянутая группа «Молодые»), однако спустя ещё полгода (после премьеры новой драмы Сати «Сократ») — аки блудный сын, — снова вернулся обратно. Именно в это время (не будем забывать, продолжается откровенно «сатистический» период его творчества) Дюрей сочинил ещё несколько произведений откровенно эпигонского характера (так или иначе, но посвящённых мэтру-Сати). Его «Эпиграммы Феокрита» и «Стихотворения Петрония» (и то, и другое — 1918 года) несут на себе неприкрытые следы влияния «Сократа». И снова поставлю ударение: каждый раз это происходило к большому неудовольствию Сати, который не ценил имитаторов и никогда не стремился проложить для своих учеников (как реальных, так и возможных) «торную дорогу» для подражания.[9] ...Прошу иметь в виду, раз и навсегда: не существует никакой школы Сати. Так называемый „Сатизм“ попросту не смог бы существовать. Именно во мне он нашёл бы своего первейшего и непримиримого врага. Несомненно, что немалая часть жёсткого пафоса этих слов, а также — изрядная доза яду была адресована — лично Луи Дюрею, который постоянно раздражал Сати сочетанием, казалось бы, несочетаемых качеств: эпигонства и непостоянства. Ничуть не меньше, чем какое-то собачье подражание, Сати не нравилось наблюдать, как Дюрей в конце 1917 года позволил «совратить себя» старому & опытному искусителю-Равелю, который «не гнушался в выборе средств», чтобы наладить контакты с молодыми музыкантами и, не колеблясь, вербовал себе сторонников в окружении Сати (окружение которого, напротив, возникало совершенно спонтанно). Сам же Сати, в полную противоположность Равелю (между прочим, своему «тоже» ученику и последователю ещё в далёких 1890-х годах), не только не удерживал около себя сателлитов, но ещё и не упускал случая наддать им хорошенького пинка под заднее место, чтоб «летелось легче».[9] В конце концов, чтобы продемонстрировать этой скотине-Дюрею своё крайнее неодобрение, Сати дошёл до того, что спустя всего полтора года объявил о своём демонстративном «выходе» из рядов им же самим основанных «Новых Молодых», чем вызвал окончательный распад этой группы (и тем самым инициировал & ускорил её дальнейшее превращение в «Шестёрку»). Луи Дюрею, лично в руки Причём, это (почти курьёзное) письмо «о своей собственной отставке» Сати не отправил по почте, а вручил — лично в руки Луи Дюрею, не удостоив его при том ни единым словом объяснения. В историческом документальном фильме, снятом режиссёром Франсуа Порсилем (François Porcile) в начале 1970-х годов, Луи Дюрей с грустной иронией вспомнил и изобразил эту сцену, которая накрепко врезалась в его память.[9] — Однако это клеймо кое-что да значило. Единожды вычеркнув своего бывшего сторонника из числа приемлемых лиц, Сати на будущее ничего не забывал и не прощал. В начале 1920-х годов в своих публичных лекциях о «Шестёрке» Сати (как бы в отместку) станет определять Дюрея как «чистого импрессиониста», — практически, ругательный термин, который в эту эпоху борьбы различных музыкальных тенденций (и групп) означал в устах «аркёйского мэтра» — безнадёжную отсталость.[9] Но даже и без фирменных «сатизменных» ругательств, Дюрей имел немало отличий от других «новых молодых»: как в характере, так и в стиле. Кстати, он оказался не только подвержен зловредному & загнивающему «импрессионизму» (не исключая и самого́ Равеля вместе с «духовкой»), но и оказался единственным из «Шестёрёнки», кто не прошёл через увлечение джазом.[3]
И тем не менее, кончу за здравие (к сожалению, только дурея)... — Несмотря на все личные проблемы, трения и конфликты, в данном случае вписывающиеся в классическое определение депривации (в данном случае, от возлюбленного учителя), бедный Луи до конца своих дней сохранил неизменное уважение — и к Сати, и к Равелю (причём, одновременно). И даже не столько «сохранил», сколько оно осталось у Дюрея в крови (как у прирождённого ученика и последователя). — Между прочим, именно по этой причине он и Онеггер (Дюрей и Артюр) стали двумя пресловутыми «отщепенцами» из «Шестёрки», отказавшимися подписать едкий памфлет Сати против Равеля, — в центре которого красовалась крылатая фраза: «...Равель отказался от Ордена Почётного легиона, но всё его творчество этот орден — принимает...» [4] Разумеется, этот маленький (патриотический) демарш ничуть не прибавил им очков..., или напротив, желчного (не)доверия Сати.[комм. 3] Отчасти, можно сказать, что Жан Кокто, отношения которого со скверным «Учителем» отнюдь не отличались безоблачностью, включил Дюрея в состав «Шестёрки» — отчасти по стопам Сати, но отчасти и в пику ему. Проявив, таким образом, свою петушиную «самостоятельность». Ещё 28 июля 1919 (за полгода до нашумевшей статьи Колле, объявившей о «рождении» «новой» «Шестёрки»), Жан Кокто написал о тех же шести молодых композиторах, посвятив Луи Дюрею более чем доброжелательные и понимающие строки. ...ЛУИ ДЮРЕЙ работает в уединении. Он избегает трудных общений, избегает джунглей. Своё дарование он развивает неукоснительно, ставя его на службу прекрасной душе. «Надпись на апельсиновом дереве» и «Три стихотворения Петрония» — это вехи, без всякого шума отметившие рождение новой школы. «Бестиарий»: там, где Пуленк прыгает на щенячьих лапах, Дюрей изящно ступает копытцами лани. И тот, и другой поделывают это естественно. Поэтому о них одинаково любят говорить. «Эпиграммы Феокрита» я бы упрекнул в слишком прямом влиянии «Сократа» Сати. Это мраморная тень от него. А Квартет — произведение свободное. Озабоченность тем, чтобы не подвергать мотивы разработке, приводит к некоей дробности, которая выправляется силой чувства. «Образы Крузо»: голос в сопровождении малого оркестра создают атмосферу, напоминающую «Поля и Виржинию» Сати. Тему Крузо холостяк Дюрей раскрыть прямо-таки обязан. Сюита без экзотики. Он воспевает не остров, а томление и тоску по острову. Шум моря, который слушают, припав ухом к раковине, — это не настоящий морской шум...[11]
В двух провокационных (или, если угодно, рекламных) статьях (они вышли с дистанцией в неделю: 16-23 января 1920 года) парижский музыковед и критик Анри Колле (действуя по прямому указанию Жана Кокто) — без особого расспроса включил Луи Дюрея в состав шумно объявленной группы «Шести» (или «Шестёрки»..., так сподручнее). — Первая статья носила программное (тоже рекламное) название: «Русская пятёрка, Шестёрка французов и Эрик Сати». Собственно говоря, фантазия автора на этом истощилась. Вторая статья вместо заголовка попросту перечисляла членов новой группы: «Шестёрка французов: Дариюс Мийо, Луи Дюрей, Жорж Орик, Артюр Онеггер, Франсис Пуленк и Жермена Тайерфер».[3] Впрочем, поставленный вторым (по списку), Дюрей никогда не занимал в «Шестёрке» такого места. И даже третьего (не занимал)... Всегда на отшибе, в стороне, он почти не принимал участия в коллективных акциях группы, а через год и вовсе удалился. Куда? — скажу позже... На первых порах Дюрей (всегда верный и горячий: прирождённый партизан-экстремист!) отличался ярким радикализмом в поведении. Можно сказать, что до определённой степени оно носило антибуржуазный оттенок... и даже бывало «антиобщественным»... ...исполнение фуги из моей сюиты вызвало неописуемый скандал,[комм. 5] настоящее сражение, во время которого органист собора Победы мсье Франк получил пощёчину от Дюрея. Оркестра уже не было слышно; ужасный шум всё усиливался; наконец, вмешалась полиция. Муниципальная гвардия начала освобождать от публики кресла балкона. Я имел удовольствие видеть, как два полицейских выводили под руки критика журнала «Менестрель»...[13]
Впрочем, являясь в чистом виде продуктом провокации и саморекламы Жана Кокто, «газетная сенсация группы Шести» не просуществовала и пары лет. Первым, как ни странно, удалился именно Дюрей. Буквально — по стопам Сати. Или «как» Сати. Правда, Дюрей не передавал «лично в руки» Кокто письмо с просьбой считать его впредь «не состоящим» в пресловутой «Шестёрке». Однако его физического отсутствия оказалось вполне достаточно. В итоге, кроме чистого номинала двух газетных статей, участие Луи Дюрея ограничилось первой коллективной акцией «Шестёрки». Его небольшая фортепианная пьеса заняла своё место среди прочих шести пьес, вошедших в изданный тем же годом «Альбом группы Six», — но уже среди пяти авторов (пяти из «Шестёрки»), оформлявших своей музыкой фарс Кокто «Новобрачные на Эйфелевой башне», имя Дюрея — не значилось, равно как не значился и он сам.[2] Шаг за шагом, коммунист и композитор Луи Дюрей понемногу отдалился от прежних приятелей. Не в последнюю очередь причиной этого стал сам Кокто, равно болтливый и утомительный. В конце концов, Дюрею прискучило слушать его фантазии, глубоко вторичные по отношению к Сати, временами Кокто попросту сыпал цитатами и выдавал мысли аркёйского мэтра — за свои. Эта «творческая группа», лишённая присутствия Сати, потеряла главное, что в ней было: смысл, содержательность. И превратилась в тот предмет, которым и было с самого начала: газетную (торговую) марку. Очень скоро Дюрей совсем перестал общаться с прежними приятелями, чтобы избежать постоянного давления со стороны «какого-то Кокто», на его вкус – слишком навязчивого и пустого.[9] А годом позже (в 1921) Дюрей по собственному желанию удалился не только от «Шестёрок», но и вовсе из Парижа — в Сан-Тропе, в те времена это было ещё не такое модное (курортное) местечко, хотя и Прованс..., даром сказать. — Уже в начале 1922 года в своей статье «Новая музыка во Франции» несколько обескураженный Кокто написал о «Шестёрке» в прошедшем времени: «Так что группа „Шести“ (или, точнее, „Пяти“, поскольку Дюрей от них отдалился) — это объединение чисто дружеского порядка, которое общается с художниками и поэтами, и каждый в нём сохраняет свободу, уважает то, что кажется ему хорошим, и сочиняет, что захочет. Нет ничего проще. Однако слишком простые вещи воспринимаются плохо. Наших музыкантов постоянно упрекают — то в том, что они работают единой командой, то в том, что они не составляют общности и слишком друг от друга отличаются».[11] А спустя ещё год и Эрик Сати не без удовлетворения сообщил об окончательном распаде «Шестёрки» — на отдельные шестерёнки...[8]
Отъезд Дюрея в Сан-Тропе, впрочем, не стал окончательным, пока... — он переедет туда... «насовсем» спустя ещё сорок лет (в 1961 году), достигнув известного состояния независимости.[9] Время от времени Дюрей продолжал посещать опустевший для него Париж: почти чужой город. «Старомодный» Равель понемногу потерял интерес к «светской музыкальной жизни», отдалился от прежних артистических интриг, перестал плести свою паутину и как-то перестал интересовать своих бывших адептов. А летом 1925 года умер и Сати... это событие стало тихим рубежом для Дюрея, который никак не участвовал в предсмертных войнах бывшей «Шестёрки» против своего бывшего мэтра и фетиша. Ситуация немного повторилась... Как четверть века назад Сати удалился в Аркёй..., так же теперь и Сан-Тропе стало местом артистического затворничества. Потеряв интерес к новой музыке в самом себе, Дюрей на десяток лет сделался «немного того́»..., совсем дирижёром. Говоря по существу, среди всех «поклонников, последователей и учеников» (взяв все эти слова в кавычки) Эрика Сати — именно он, Дюрей, был (бы) самым близким и верным — именно таким, в котором всю жизнь нуждался и какого искал Сати. И одновременно всеми этими своими качествами Дюрей несносным образом раздражал своего учителя. — Пожалуй, если бы между ними не уселась эта чёрная кошка, результат жизни и того, и другого — мог бы иметь существенно иной вид. Заканчивая словно бы строкой из официального некролога, мне остаётся сказать примерно так: в 1925-1935 годах для Луи Дюрея настало типическое «время застоя» и творческой апатии, его профессиональный композиторский уровень развивался более медленно и неровно, чем у остальных членов «Шестёрки», с многочисленными творческими срывами и остановками.[2] По всей видимости, изнутри ему существенно не доставало того деятельного мотора, который он столь упорно и терпеливо искал — снаружи себя, пытаясь прилепиться то к Равелю, то к Сати... ...Равель пришёл (лично!) [комм. 7] повидать Кариатис & поручил Гровле оркестровать свою уродистую «штуковину». Дюрей по такому случаю буквально прыгает от радости. Эта ничтожная сволочь всему причиной. Тогда что..., придётся без Мийо? Какая же вонючая свинья этот Дюрей! Скотина надувная! У меня просто нету слов. Когда же из него наконец-то выпустят ветры? Ну и свисту будет... Да уж...[8]
Дурей..., после — Сати
И тем не менее, какой бы дутой и пустой она ни была, всё же теперь снова и снова придётся возвращаться к этой условной рекламной марке под не слишком-то приятным названием «Шестёрка». Так или иначе, но рекламный газетный трюк Кокто-Колле имел успех, резонанс и даже некоторый результат. «Шестёрка», невзирая на всю свою поверхностную, светскую и публичную природу, под стать своему создателю, — всё же оставила рельефный след в истории (французской) музыки двадцатого века. Пожалуй, она стала первым предметом по своей теме, который обычно вспоминают... — Нет более яркого пятна в промежутке между двумя войнами и на закате одутловатой Третьей республики. ...Хорошей чертой нашего содружества было то, что будучи связаны только самыми общими идеями и принципами, мы, несмотря ни на что, оставались очень разными в реализации наших творческих замыслов и планов. Совершенно очевидно, что Орик так же мало похож на Онеггера, как я — на Дюрея...[17] Практически все члены «Шестёрки», так или иначе, отметились в своих воспоминаниях или интервью об этом предмете. И почти все говорили о нём примерно в одном тоне: благодарно и снисходительно (словно бы «с высоты» своего положения). Более тридцати лет спустя и сам Луи Дюрей (в то время уже крупный функционер коммунистической партии Франции и «генеральный секретарь» Народной музыкальной федерации) вспоминал о событиях бурной молодости и совместных концертах группы «Шести» в своей почти номенклатурной по стилю и тону статье, между прочим, написанной по заказу журнала «Советская музыка». В целом его тон был благожелательным (совсем без прошлых ноток раздражения), хотя и «понимающим»: ...В театре «Старой голубятни» выставлялись полотна Матисса, Брака и Пикассо. Жан Кокто пытался извлечь из всего этого новые законы эстетики, которые он убеждённо отстаивал, несмотря на фантастичность своих прожектов. Во всяком случае, хотя каждый из новичков проявлял себя по-своему (их индивидуальности сильно различались), вместе они сумели противостоять пессимистическим настроениям, порождённым войной. Теперь, спустя много лет, я вправе сказать, что в наших молодых дерзаниях всё же было много хорошего. Конечно, временами мы хватали через край, но виной тому была горячность и неуёмная энергия молодости... <...> И хотя пылкое стремление к новизне, присущее молодости, порой побуждало нас прибегать к атонализму, политональности, мы никогда не возводили это в систему... Лучшие традиции французского искусства нашли своё продолжение в ораториях Онеггера («Царь Давид» и «Юдифь»), в операх Мийо («Христофор Колумб» и «Боливар»), в многочисленных симфонических произведениях этих крупных музыкантов, а также в фортепианных пьесах и особенно романсах Франсиса Пуленка, столь близких к народной песенности...[18] В 1920-е годы творческая деятельность Дюрея оставалась в тени, равно как и он сам. Крупных сочинений он не писал, в крупном городе (Париже) тоже появлялся нечасто, а новые произведения — почти не появлялись. Впрочем, и раньше его интересы в основном находились в области не слишком-то резонансных камерных жанров: вокальной и фортепианной миниатюры, а также инструментального ансамбля.[3] Фактически, пятнадцать лет после первого отъезда в Сан-Тропе прошли в относительной изоляции, когда Дюрей в основном дирижировал, дегустировал провансаль... и время от времени занимался организационной деятельностью. В конечном счёте, это с ним случилось — хотя и бесконечно запоздало..., только пятнадцать лет спустя..., к 1935 году. Нет, конечно же, я не имею в виду выход из творческого застоя или даже молчания. Случилось — другое. И совсем другое. Этот Луи Дурей наконец-то смог найти то, что ему было так насущно необходимо. — Не в последнюю очередь благодаря пресловутой «Шестёрке», восьмёрке, девятке, он всё-таки нашёл. — Нашёл своё собственное место, которое так упорно, почти упрямо искал — все предыдущие годы. Терпеливо, методично..., — грех не сказать: «как свинья трюфель». И вот — случилось. Отныне и до конца жизни это место осталось — при нём. Как приклеено! А он, в свою очередь, наконец-то в полной мере проявив свою верность, остался — при нём. При месте. — навсегда. Как пёс.
— О чём я говорю? — должно быть, вы спросите. С полной уверенностью можно сказать: наконец-то Дурей нашёл и получил то́ необходимое, что мучительно искал все предыдущие годы. Идея, учитель и опора..., хозяин и слуга, высокое служение и невысокое услужение... не исключая поста и даже кормления.
Впрочем, это всё ещё далеко впереди... А мы — не будем забегать слишком далеко вперёд. — 1936 год. Осталось совсем немного, кажется... Счётчик включён. И метроном уже стучит. В годы, оставшиеся до молниеносной оккупации Франции Дюрей много колесит по стране, помогает организовывать рабочие хоры (и дирижирует ими), а также пишет обработки патриотических и антифашистских песен для их репертуара. — В эти же годы (в рамках Народной музыкальной федерации Франции, разумеется) у него появляются заказы на музыку для театральных постановок и кинофильмов, — однако особого резонанса его работы не имеют, чтобы можно было сказать о какой-то из них отдельно... или особо.
И здесь, в этом месте будет не лишним снова (и снова всуе, как и раньше) вспомянуть старого аркёйского мэтра. — В первых числах августа 1914 года (сразу же после убийства Жана Жореса), Эрик Сати вступил в социалистическую партию Франции — а затем и в социалистическую милицию, патрулировавшую Аркёй в начале войны. — Однако, тем дело не кончилось. В конце 1920 года, сразу же после распада старого социнтерна, бывший милиционер Сати примкнул к его более радикальной части и стал — одним из первых членов коммунистической секции Интернационала,[8] его личная карточка и партийный билет до сих пор значится в реестре под № 8576.[3] Так было, — если хотите знать. И сейчас я не намерен обсуждать смысл и содержание этих поступков Эрика. Поскольку не здесь и не время. И вообще..., — мы же договорились! Как видно, пора ученичества так «вдруг» — не закончилась. Даже посмертно..., подобно своему не в меру желчному «учителю», Дюрей также стал верным членом компартии, но уже совсем в другое время и совсем при других условиях. — Да. Это случилось спустя 15 лет, в эпоху сталинского, с позволения сказать, Коминтерна (1936 год, Колыма, расстрел, всё более дурея и дурея...), когда членство в партии уже стало системой со всеми возможными гонорарами, преференциями и должностями, включая — между прочим, связи и оклад. Здесь и поневоле вспомнишь — скупое определение Сати, которое он едва смог выдавить из себя на одном из концертов 1918 года: «Дюрей — артист очень серьёзный и озабоченный».[8] — Ах, бедный Йорик! В мрачные годы фашистской оккупации Франции, — как любила сообщать официальная советская историография, — Луи Дурей стал ведущей фигурой среди музыкантов, близких к движению сопротивления (на юге Франции). — С 1944 года начинается его последний, третий период творчества, который изобилует хоровыми произведениями (для рабочих хоров) и обработками народных песен для разных составов. Условным образом, этот период можно назвать пролетарским или социалистическим..., — чтобы не сказать: советским, конечно. Как во время оккупации, так и после 1948 года Луи Дурей занимал почётное место признанного лидера всех прогрессивных (и даже более того, — коммунистических) музыкантов Франции.[2] Это он, маленький бесстрашный Луи Дюрей — руководил Национальным комитетом музыкантов (номинально входившим в состав Национального фронта Сопротивления). [3] Его простую (по мелодии) и легко запоминающуюся «Песню борцов за свободу» пели левые члены французского Сопротивления и партизаны. После войны Дурей становится видным функционером коммунистического движения и членом французского комитета защиты мира.[4] С 1950 года Луи Дюрей — музыкальный критик центральной парижской газеты «Юманите» — официального печатного органа ФКП. После смерти Шарля Кёклена (как я уже говорил Выше), бессменного и всеми уважаемого президента Народной музыкальной федерации, в 1951 году Луи Дурей был избран её Третьим Президентом и просидел на этом высоком социалистическом посту чуть более 10 лет.[комм. 9] В том же 1951 году Луи Дюрей был удостоен французской премии SACEM. Тогда же, в 1950-е годы Дурей также активно участвовал в руководстве музыкальной секцией «общества друзей СССР», а затем, после её создания в 1958 году — и Организации «Франция-СССР».[3] Не будет лишним заметить, что в это время..., вернее говоря, в эти времена Луи Дурею было уже (за) семьдесят лет... Эпи ... лог
Эрик Сати умер 1 июля 1925 года. Он заснул и не проснулся. Пожалуй, говоря об окончании жизни Дурея, все фразы можно заканчивать одним и тем же финалом: «...и уехал в Сан-Тропе»... — Несомненно, это произошло..., — наряду с незабвенным Ги Ропарцем (по прозвищу «нансийский мандарин)», Дурей — настоящий долгожитель..., подлинный рекордсмен старения — по крайней мере, среди французских композиторов. «...и уехал в Сан-Тропе»... — Эрик, дружище...., дорого́й мой, — кажется, ты спрашивал: «когда же из него наконец-то выпустят ветры?...»[8]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ис’точники
Лит’ература (запрещённая)
См. также
« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »
| ||||||||||