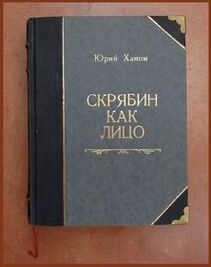Скрябин как лицо, обрывок (Юр.Ханон)
Зал был мрачен, огромен и полупуст. Праздника заранее не получалось. Это, конечно, сразу разочаровало и огорчило. Невольно поймав себя на желании единолично занять с добрый десяток мест, я тут же представил себе, как эти пустоты будут выглядеть со сцены, когда Скрябин выйдет и посмотрит сюда, где сейчас сидел я. Он так любил горячий и полный публики зал, а здесь налицо «залысины и полнейшее скисание»... Но можно ли было ожидать чего-то иного здесь, в этой сосисочной Германии? Его почти не знали, и даже неизвестно, хотели ли ещё знать. Да и вообще, для немцев ли были они оба: и этот концерт, и этот странный человек со своей странной музыкой издалека?.. к
Получив оную «заявку» и как следует пропустив её через канцелярию (гóспода Бога, не иначе), шеф издательства ничуть не удовлетворился достигнутым. Теперь, видимо, следовало убедиться в достойном литературном уровне будущего украшения каталога издательства «С-З». — Чтобы, так сказать, случайно «не опозориться», и не ударить в грязь лицом. Кажется, во всех шагах его теперь чувствовалась ледяная поступь советской школы... Не исключая полувекового аромата кабинета в том здании, который он занимал по праву..., несомненно. — И первым же крупным шагом на пути будущего невиданного взаимопонимания (как и полагается в стандартных случаях), оный разовый господин глав’вред запросил у автора «демонстрационный отрывок» из будущей книги. Признаться, от подобного начала (совсем неподобающего) я слегка оторопел (и в самом деле, каюсь, был наивен, не ожидая столь показательного хамства, к тому же, вполне трафаретного и лишённого даже малейших признаков чего-то личного). Видимо, лобзаний пантер с гиенами и прочих усатых новинок этому человеку показалось недостаточно (или он попросту не подготовился к разговору и даже не удосужился проглядеть хотя бы пары опубликованных текстов)... И всё же, возражать я не стал: единственно потому, что жёстко-кон’структивный настрой возобладал с самого начала. Главное — результат. Прецедент.
на всякий случай напомню ещё раз (а затем и ещё раз, как известный дистиллятор минимального минимализма), что в истерической, а также натур-философской и тавтологической ретро’спективе (оглядываясь на зад) скрябинская тема, впервые поставленная с предельной жёсткостью, — тáк, как он бы сам её ставил (от первого лица), была неоднократно освещена мною ещё до написания предлагаемого обрывка и, тем более, до окончания первого тома книги «Скрябин как лицо». Суммируя и сокращая все (излишние) подробности, можно только повторить ещё раз: к моменту начала работы над романом (1994 год) за спиной у его автора стояло, как минимум, полтора десятка лет подробного ежедневного диалога с Александром Скрябиным, не говоря уже — о десятке написанных о нём текстов, наиболее показательные среди которых можно упомянуть, так сказать, до кучи в удобном для того месте (например, строкой ниже): Впрочем, оставим этот дурной тон, нам ли теперь поминать старое..., — тем более, «двадцать лет спустя» (то ли штаны, то ли рукава). Несмотря на очевидное хамство (а также недомыслие и отменный формализм) своей первой просьбы, — вскоре господин редактор получил на руки свой «ненаглядный отрывок» <из будущей книги>. Как всегда, этот автор сработал в своём стиле: «раньше установленного срока», «больше запрошенного размера» и в полном соответствии со всеми формальными требованиями северо-западной канцелярии. Почти две недели ушло у меня на эту добавленную работу (заранее излишнюю, а потому — трижды досадную). Сначала рукопись, затем — чистка и редактура и, наконец, самый тяжкий налог — отпечатать полтора десятка листов начисто. На старой пишущей машинке весом почти в тонну, где каждая ошибка или промах становились маленькой трагедией (Пушкина), поскольку лист был «безнадёжно испорчен» и всю страницу приходилось перепечатывать — заново, сверху донизу. Впрочем, пустое. Оставим жалобы старым собакам (а также их приспешникам)... — Наконец, 7 сентября состоялось ещё одно историческое событие: демонстративный образец (в итоге, размером почти в полтора авторских листа) был готов и представлен под начальственные очи. Судя по выражению лица, шеф издательства почувствовал себя несколько обескураженным: словно бы он не ожидал подобной прыти..., пардон, — подобной аккуратности и быстроты от какого-то композитора и вообще... лица творческой профессии (читай: пустобола и фантазиста). — Впрочем, не таков был он сам... Да. Совсем не таков. Две недели понадобилось на написание скрябинского обрывка размером в полтора чёртовых листа. Авторского. А затем..., воцарилась тишина. Почти на два месяца. не стану, однако, плодить дополнительную скорбь и перечислять, загибая пальцы, сколько отменных изд(ев)ательств пришлось претерпеть и какое количество честных частных лиц «кинуло» меня с изданием первой скрябинской книги, ни на что не похожей и, безусловно, единственной в своём роде, как бы её ни оценивать. Главное, что их число оказалось совершенно достаточным... для того, чтобы на полтора десятка лет закрыть тему публикации, а второй том — и вовсе пустить сначала на ветер, а потом — по дряблому течению. Нужно ли после этого удивляться, что «демонстративный отрывок» (читай здесь: обрывок или огрызок), запрошенный рядовым пакостником, бывшим главным редактором (крупнейшего на тот момент) бывшего изд(ев)ательства «Северо-Запад», до сих пор (за последние три десятка лет) нигде не засветился и не был опубликован. Виною тому, прежде всего, характер его автора, а также — самое содержание внутреннего рассказа. Посвящённый событиям и диалогам февраля 1911 года, этот текст хронологически не вошёл в первую часть романа «Скрябин как лицо» (завершающегося 15 января 1909). Отдельные обрезки и лоскутки из него (спустя шесть лет) были вплетены в ткань второго тома, а затем, последовательным образом, — удалились вместе с ним в известные места, где до сих пор телят гоняют, вероятно. Там с ними теперь можно повстречаться..., в любой момент. Впрочем..., за сухими деталями докладной записки (самому себе) осталось, пожалуй, «самое интересное»..., имея в виду неформальные детали, в которых крылось..., крылось... В общем, как всегда. — Встретив меня в своём кабинете (едва ли не с распростёртыми объятиями), господин В.Б.Н. принялся прочувствованно (почти взволнованно и тепло) рассказывать, что теперь он, наконец, знает: ради чего «тащил» издательство и столько лет корпел в своём главном редакторском кресле. Как оказалось после ознакомления с «демонстративным огрызком» (как я его сразу обозвал), вся их фирма была создана только ради того, чтобы сделать мою книгу — в качестве высшей точки и венца своего существования. «Ведь я сам писатель, — говорил он искренним голосом, — и понимаю толк в текстах. Теперь у всего этого (и он обвёл рукой вокруг себя, словно показывая всемирные границы своего кабинета) появился смысл. Ради чего было всё...» — И наконец..., даже странно сказать..., завершая своё дружеское выступление, он выставил мне (автору!) какое-то очень странное условие: чтобы тираж книги был НЕ МЕНЬШЕ пяти тысяч экземпляров!.. При этом он особо, с каким-то давлением в голосе выделил каждое слово в этом числе: «пя-ти ты-сяч». Пожав плечами, я не возражал, разумеется. Никакой особенной разницы между одной, пятью и двадцатью с моего расстояния не было видно. — А затем предложил подписать договор на издание книги..., впрочем, благоразумно отложив какие бы то ни было «конкретные сведения» об авторском гонораре на будущее время (в прошлом).
и ещё раз напомню (на всякий случай), что это лирическое от(ст)уп(л)ение объявилось здесь, на этом месте отнюдь не ради красного словца. Страницы (статьи, эссе, сообщения) о книгах «неизданных и сожжённых», включая также обрывки, отрывки, огрызки, черновики и прочие ценные записи, провели в режиме тлеющей публикации более десятка лет, пребывая в почти готовом для употребления состоянии (не пересоленные, не пересушенные и даже не пережаренные). Представляя собой классический пример неопубликованного рассказа (выдержки или эссе), или привычного по форме redlink’а (красной ссылки) с нескольких страниц ханóграфа, они долго и терпеливо ожидали, что в какой-то момент рвотный рефлекс у этого автора хотя бы немного притупится, а в окружающем мире появится хотя бы крошечный проблеск корректности, чтобы можно было опубликовать старый обрывок 1993 года и (успеть) сказать хотя бы пару слов об этом несомненном прецеденте в ряду других (бес)подобных по скрябинской теме (циклического уничтожения мира). Поскольку... слишком уж уникален и необычен по подаче был (бы) этот материал..., чтобы пренебречь его возможным присутствием. Однако промысел не удался. За всё это время не появилось ни малейшего просвета, скорее даже напротив: отдельные проблески темноты соединились в одну, непролазную. А в результате — что?..., вместо настоящих страниц (или обрывков) стали множиться исключительно дряблые. Учитывая почти полувековую отрицательную практику полной бесперспективности диалога с бессознательной популяцией Homos apiens, автор упомянутого обрывка и всех дальнейших форм продолжения романа «Скрябин как лицо» с полным правом может считать себя «непримиримым», а также вне...конвенциональным типом и, как следствие, не вступать в коллаборацию с оккупантами & прочим человеческим субстратом, существующим только здесь и сейчас. А потому (вне всяких сомнений), не стóило бы труда совершать отдельную работу, оформляя, выкладывая или, тем более выставляя названный обрывок (отрывок или огрызок) на площадной обзор. Послушав меня, Сокуров назвал три <моих> условия <совместной работы> разумными, сказал, что согласен, спросил, когда мне нужно познакомиться со сценарием и попросил за пару недель сделать для него «демонстрационную» запись... — Сценарий мне понадобится только как сувенир, читать его я не буду, — сказал я сразу. А на возникшее тусклое удивление Сокурова ответил: «я буду писать музыку для Вас, а не для фильма». таким образом, сам собой кристаллизовался окончательный результат (как видно, пока ещё достаточно дряблый). Здесь и сейчас перед вами (выложен) ещё один показательный огрызок от того обрывка, который вполне мог бы стать книгой или её отдельным фрагментом при единственном условии: если бы хоть один выморочный субъект из внешнего мира людей сдержал слово или исполнил обещание. Однако ничего похожего во внешнем мире не случилось, и теперь (как последствие) нет ни второго тома, ни отрывка, ни обрывка и очень скоро всё временно задержавшееся здесь — исчезнет без следа. На месте полно..ценного фрагмента текста, который вполне мог бы здесь (и не только здесь) разместиться, осталось только дряблое напоминание (и такая же страница). Да и то ненадолго. Словно записка, сделанная тростью на прибрежном песке с несколькими словами про ту системную вещь (или сразу несколько вещей), которые имели отношение далеко... (и очень далеко) не только к биографии Скрябина (применительно к 1911 году) или его «музыкальному творчеству» (так называемому), но, прежде всего, к вашему миру в целом, взятому от подошвы до кончиков шляпы, — взятому изнутри и снаружи одновременно, как вывернутая наизнанку перчатка..., или её обрывок. Вот ещё одна глуповатая «басня навыворот», басня без морали: наподобие, скажем, того Альфонса, которого не было. Теперь он якобы здесь, вопреки всему и всем. В отличие от всех прочих, которых не было и не будет. Книг и обрывков. Партитур и клавиров. Но и только. И по сегодняшний день предварительные просьбы «показать, прислать, предоставить» образец, обрывок или отрывок приводят только к одному <результату>: не изданные книги, не исполненная музыка, уничтоженные партитуры, — как следствие, всеобщий и равный мир скота живёт и побеждает. Впрочем, ненадолго. Скоро они доедят друг друга и отправятся вслед за Макаром... — Наконец, оставим эту тему: из неё больше ничего не высосешь. Попросту говоря, с той поры и до сего дня я считаю все подобные разговоры пустым трафаретным (рассеянным) хамством. За которое (в данном случае) моя (не)земная благодарность. И тем не менее, находясь в том времени и в том месте, я хорошо понимал: таковы стандартные условия игры (или среды). Приняв решение единожды поучаствовать в их клановой деятельности, я заранее был вынужден под’чиниться их правилам (минуя согласие и лояльность, разумеется). Пускай даже и понимая всю нелепость и абсурдность выдвигаемых условий. И тем не менее, закончу (как всегда) традиционным формальным основанием, положенным поверх всего (наподобие чёрной шляпы или трости с набалдашником). Если (вопреки всему) у кого-то из проходящих мимо ренегатов или апологетов появится отчётливо или даже навязчиво оформленное желание как-то инициировать, ускорить, под’толкнуть или даже спровоцировать выкладку этого, безусловно, экс’тремального обрывка и его, так сказать, препарирования (научного или наученного), никто не возбраняет обратиться, как всегда, → по известному адресу не...посредственно к (дважды) автору, пока он ещё здесь, на расстоянии вытянутой руки (преимущественно, левой). Во всяком случае, такая видимость ещё не до конца утеряна. ...Он постоянно должен прикладывать усилия к тому, чтобы себя «хорошо вести». Однако даже и это «хорошее поведение» стало для него не более чем условностью или условием, отдельной игрой со своими заранее известными правилами, — да и то, временной, до определённого момента, когда всё это — пустое, наносное, человеческое, — можно будет скинуть как мусор. Он, Александр Николаевич Скрябин, в сущности уже совсем взрослый человек, ему уже почти сорок лет, однако давно привычная маска «великого композитора» и «большого мыслителя», который не должен ежечасно перепрыгивать через стулья и громко капризничать перед обедом, так и не пристала к его лицу. Всего лишь, ему удалось приучить себя с каждым годом снимать её всё реже и реже. Но к чему это сейчас? — когда в комнате только я, и только он, больше никого. — Вдобавок, Шуринька прекрасно знает, что при мне, при нашей-то многолетней истории, позволительно всё непозволительное, потому что и я сам — почти такой же, как он..., и теперь можно хотя бы на пару минут расслабиться, и не стараться прикрывать своё детское лицо посмертной маской с пушистыми усами. Потому что никто его за это не накажет и не поставит в угол. И не разжалует из гениев. А может быть, даже наоборот, — повысят немножко в почётном звании. И вообще, в конце концов, почему же нельзя сегодня, когда уже очень скоро, в последнюю неделю существования мира станет Можно Всё! И вот, последние колебания отброшены. И совсем уже напоследок, захлопнув за собой и Сашей Скрябиным тяжёлую чёрную дверь..., я всё-таки рекомендовал бы кое-кому не тянуть резину или известное животное (за хвост) и не откладывать (его) в чёрный ящик. Потому что — время вышло..., или почти вышло, оставив на своём месте только жалкий обрывок (обмылок, лоскуток) известно чего. Лавочка довольно скоро прикроется, а затем — и захлопнется окончательно..., причём, «бес’ права переписки» и, что особенно приятно, на этот раз без нашего со Скрябиным по..стороннего участия. — И тогда..., прошу прощения, для вас уже не останется решительно никаких обрывков, отрывков или (даже) целых книг (открытых или закрытых). И как всегда, в сухом остатке — только общее место. Точнее говоря, банальная конвенциональная жвачка третьей ректификации (которая по неуклонному принципу транзитивности и так безраздельно властвует во всех доступных временах и весях). ...Ни на минуту..., я повторяю, — ни на секунду не сомневаюсь, что по результатам последних шести лет книга..., эта книга останется раз и навсегда неизданной, она не будет жить в их мире..., в мире людей. И более никому — кроме нас со Скрябиным, разумеется, — её не удастся найти. — Причина? Вы говорите: причина? Или это вопрос? Смешно слышать. Ещё смешнее отвечать. Она проста как обрывок. Обрывок страницы. Или даже проще. Потому что, согласно инструкции, ни один трюфель, прошу прощения..., — ни один трюфель не может существовать в пределах свинофермы. Вот и вся причина. Одна. В двух словах. На всю вторую часть. Часть, которой не было и не будет. Во всеми утекающими последствиями.
| ||||||||||||||