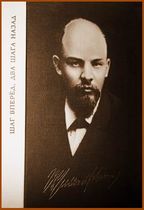Композитор Александр Локшин (Из музыки и обратно)
неуслышанный композитор Пристало ли нам говорить о мелочах, мой старый друг...,
С
Творчество Локшина — вершина советского экспрессионизма, причём, прилагательное «советский» здесь служит почти исключительно в качестве формального определения времени и места. ...Именно что! — почти: при всей своей оригинальности и самостоятельности, эта музыка, как мне кажется, не могла бы родиться без железного занавеса, без абсурда страшных советских будней, — без культурной изоляции художника, который лишь между стен своей квартиры чувствует себя в своей среде и только в одиночестве выстраивает воображаемые мосты к прошлому европейской (а то и азиатской) культуры. При этом краеугольное отличие Локшина от его коллег (как старших, так и более молодых), представлявших советскую музыку внутри страны и частично за рубежом, заключается именно в том, что изоляция для него — это важнейший и обязательный элемент творческого процесса, почти синоним творчества и бытия. — Наблюдая за его жизнью, создаётся такое впечатление, что размышления на тему роли художника в истории, обществе или политике попросту не приходили ему в голову, — так же, как и пустые рефлексии на тему музыкального материала: «нового» и «старого». Эстетическая реальность Локшина не связана напрямую с внешней, будничной реальностью, она эквивалентна внутреннему миру художника, а потому — не является ничем, кроме проявления этого внутреннего мира со всей его сложностью и противоречивостью. Кажется, в той же мере, что и претензии на «новизну» и «актуальность», Локшину не было знакомо едва ли не всеобщее желание соответствовать критериям социалистического реализма: будь то мифическая близость массам или верность линии партии. При этом он был отлично осведомлён о всевозможных тогдашних музыкальных течениях, как авангардных, так и вполне стерильных и политкорректных, — поскольку одним из основных источников дохода было для него исполнение новых произведений советских композиторов перед разнообразными комиссиями и худсоветами Союза Композиторов или Министерства Культуры (в основном речь шла об исполнении партитур на рояле — в четыре руки с Михаилом Мееровичем — часто с листа...) Также, в творчестве Локшина не найдёшь даже и следов последнего имперского академизма (в духе какого-нибудь Глазунова или Римского-Корсакова), — несмотря на то, что его учителем был Николай Мясковский, едва ли не главный представитель после’русской школы академической музыки. Бо́льшую часть жизни Локшин провёл в стенах своей московской квартиры, в кругу семьи и немногочисленных друзей и учеников. Однако биография его фатальным образом оказалась связана с публичным скандалом, волны которого не улеглись и по сей день, — и отголоски которого, к сожалению, до сей поры вызывают к этому композитору более сильный интерес, чем его замечательная музыка.
Локшину не просто поставили самую худшую отметку, — его выгнали из консерватории (даром что не арестовали), так что ему пришлось спешно ретироваться из Москвы назад — в Новосибирск. Снова поселившись у родителей и подрабатывая как пианист в клубе, Локшин предпринял попытку себя «реабилитировать», чтобы вернуться в ряды профессионального сообщества. Попытка удалась с первого раза: его патриотическая кантата «Жди меня» приглянулась Евгению Мравинскому, в 1943 году гастролировавшему в Новосибирске.[комм. 1] Он сразу же включил её в программу, а Иван Соллертинский в своём вступительном слове перед концертом не поскупился на похвалы Локшину, назвав день премьеры «Жди меня» историческим событием. Благодаря удачно выстрелившей кантате Локшин смог возвратиться в Москву, где не только с успехом закончил консерваторию, но и сразу по окончании был даже зачислен в штат преподавателей. В воспоминаниях бывших студентов, успевших соприкоснуться с Локшиным за краткое время его работы в консерватории (он вёл чтение партитур, инструментовку и музыкальную литературу), этот педагог предстаёт не только яркой, незаурядной личностью и блестящим специалистом, но и убеждённым просветителем, без ограничений знакомившим студентов с сокровищами европейской культуры — в том числе и такими, о которых было положено помалкивать.
С этого дня жизнь композитора становится исключительно тяжёлой, и не только в связи с мучительным заболеванием и бытовой неустроенностью. Парадоксальным образом он был подвергнут остракизму сразу с двух сторон: не только властью, но и своими ближайшими друзьями и коллегами, среди которых он вскоре превратился в Persona non grata. Спустя два года после увольнения из консерватории среди знакомых Локшина распространяется слух, будто бы Локшин донёс агентам НКВД на Веру Прохорову, ближайшую подругу Святослава Рихтера. Молодая женщина, после ареста подвергшаяся унижениям и пыткам, сама передала эту убийственную для Локшина информацию из лагеря в Москву. — Слух о доносе распространился быстро и укрепился прочно, в том числе — благодаря влиянию Рихтера, лично возненавидевшего Локшина; до самой смерти позорное клеймо предателя оставалось не смытым. Револь Бунин и Рудольф Баршай не усомнились в личной порядочности Локшина и на всю жизнь остались ему верными друзьями, равно как и Мария Юдина.[комм. 3] Судя по всему, Дмитрий Шостакович также придерживался принципа презумпции невиновности. Симптоматичным выглядит поведение Геннадия Рождественского, который, прежде чем согласиться исполнить одну из симфоний Локшина, потребовал «справку о невиновности».[комм. 4] Для большинства в «деле Локшина» линия поведения определялась именно «презумпцией виновности», тем более что масла в огонь подлил другой бывший друг композитора, математик Александр Есенин-Вольпин (сын поэта Сергея Есенина). И сам попавший в мясорубку сталинских репрессий, вслед за Верой Прохоровой (хотя и менее горячо) он называл Локшина причастным к своему аресту. [2] ...Почти с тою же настойчивостью, с какой Локшин-младший борется за реабилитацию памяти отца, продолжает выступать и Вера Прохорова, публично повторяя свои обличения в адрес композитора. При этом она рисует совершенно другой, почти демонический образ Локшина, ещё в юности почувствовавшего, если верить её словам, вкус к преступлению и предательству. Совершенно иным образом повёл себя Есенин-Вольпин. Он примирился с Локшиным ещё при жизни последнего, хотя и не отозвал своих обвинений в его адрес...
После кантаты «Жди меня» Локшин повторно предпринял ещё две неуверенные попытки занять место в ряду лояльных советских художников. Впрочем, благодаря бдительности цензуры, обе они потерпели фиаско. Написанная к 70-летнему юбилею Сталина «Приветственная кантата» поначалу достаточно успешно прошла все необходимые комиссии, но под конец «высшая музыкальная инстанция» в лице Тихона Хренникова вынесла непреклонный приговор: «произведение холодное и ложное по своим музыкальным образам, крайне сумбурное, шумное и беспомощное».[6] В 1957-м году Локшин пишет Квинтет для кларнета и струнных, стиль которого позже (в Автобиографии) характеризует так: «...в первой части весьма парадоксально сочетались Шостакович и Вертинский, вторая часть навеяна Стравинским (Думбартон-Окс). Как ни странно, разницы стилей не наблюдалось. Сочинение вполне профессиональное».[8] « ...Когда я учился в консерватории, моими кумирами были — Скрябин, Дебюсси, Оскар Уайльд и многие другие. Тогда я сочинил очень изысканное и столь же непрофессиональное произведение: 3 пьесы для сопрано и симфонического оркестра на тексты из Бодлера. Затем последовала многолетняя тяжёлая болезнь, кончившаяся резекцией желудка, а также резекцией всего моего декадентского прошлого. Толчком был «Зимний путь». Я написал «Вариации» для фортепиано в духе Шостаковича, затем Кларнетный квинтет в 2-х частях: в первой весьма парадоксально сочетались Шостакович и Вертинский, вторая часть навеяна Стравинским (Думбартон-Окс). Как ни странно, разницы стилей не наблюдалось. Сочинение вполне профессиональное. Сразу после Квинтета была написана Первая симфония, — «Реквием для хора и оркестра», замечательное произведение, знаменующее, несмотря на определённую близость Квинтету, явный стилистический поворот. — Хор вступает только во второй части, сразу же с текстом Dies irae, — таким образом первая часть, чисто инструментальная, берёт на себя роль одновременно вступления и Requiem aeternam. Это отчётливо заметно и по характеру музыки. Протяжённые подвижные аккорды высоких струнных и духовых звучат как невидимый ангельский хор, и служат фоном кратким и выразительным мотивным фрагментам, трактованным более или менее тематически: некоторые из них повторяются и развиваются, другие же скорее — только намёки, обрывки воспоминаний. Средний раздел части, возбуждённый, беспокойный, соответствует жалобной молитве Miserere nobis. Мотивный материал, инструментовка, многоуровневая фактура могли бы живо напомнить Малера, но в контексте кажутся совершенно оправданными и самобытными, — благодаря особенной, сразу узнаваемой локшинской гармонии: точно услышанные гармонические комплексы, возникающие при наложении и соединении гармоний (сложные и внятные одновременно), являются истинным расширением тональности, поскольку работают в рамках тональных тяготений. Исключительно эффективно и (не типичное для более позднего Локшина) легко обозримое формообразование с его широким дыханием, в котором находится место многочисленным и разнообразным остро заточенным деталям. Вторая часть не имеет ничего общего с типичными (анти-)советскими апокалиптическими панорамами «Страшного и Ужасного», без монументальных притязаний повергнуть слушателей в эпический страх и трепет, — её атмосфера темна и мрачна, оставаясь по-прежнему субъективной и пронизанной атмосферой тяжёлой личной боли. Текст пропевается исключительно точно и ясно, вокальная мелодия почти не отклоняется от ритма стиха, — но, тем не менее, это ещё не декламация (как у более позднего Локшина), а настоящее пение, помещённое в создаваемое оркестром сложное живое пространство, полное ярких деталей, ясное и всё же неповторимо оригинальное по своей гармонии. Создаётся ощущение, чем-то напоминающее Реквием Берлиоза: царство тёмной Бесконечности, из которого ярким лучом света вырывается то одна, то другая сцена... « ...Теперь должна Вам сообщить нечто величественное, трагическое, радостное и до известной степени тайное. Слушайте: я написала письмецо – «профессионально-деловое» по одному вопросу в связи с Малером – Шуре Л<окшину>, который его знает, как никто. В ответ он написал мне, что очень просит меня повидаться с ним. Я согласилась. Вчера он сыграл мне свой «Реквием», который он писал много лет, вернее «подступал к нему» и бросал и наконец «одним духом» написал его 2 1/2 года тому назад. На полный текст такового, полнее Моцарта. Что я сказала ему, когда он кончил играть? – «Я всегда знала, что Вы гений». Да, это так и это сильнее многих, из-за кого я «ломаю копья» и равно (теперь) только Ш<остакови>чу (не последнему...) и Стр<авинско>му. Сыграно это сочинение быть не может ни у нас, ни не у нас, что понятно... Это – как Бах, Моцарт, Малер, и эти двое. Он совершенно спокоен зная, что это так и что оно не будет исполнено. Ш<остакови>ч теперь просто боготворит его... »[8] Не трудно убедиться, что эпистолярный пассаж Марины Юдиной о полном тексте реквиема не соответствует действительности; и далеко не всё сказанное ею поддаётся проверке (как, например, замечание о Шостаковиче), но мнение Юдиной о музыке Симфонии в любом случае интересно и симптоматично, так же как и оценка ситуации с возможным её исполнением. — Впрочем, Локшину всё-таки привелось услышать свой Реквием. В 1967 году он прозвучал в Москве под управлением Арвида Янсонса, хотя и с другим, подставленным текстом: приятель композитора, поэт Евгений Солонович «подогнал» под музыку некий антивоенный текст, вполне приемлемый для советской цензуры. Следующее исполнение симфонии (во второй редакции, сделанной автором в 1974-м году) — на сей раз с настоящим текстом — состоялось в Париже только в 1992 году, дирижировал всё тот же Рудольф Баршай. Первая симфония сильно отличается от первого крупного произведения Локшина (столь дорого ему стоивших «Цветов зла» для сопрано и оркестра). Музыкальный язык кантаты почти не выходит за рамки позднего романтизма, при том оказываясь несравненно самостоятельнее и убедительнее, чем гремучие партитуры Ревуцкого или Колессы с одной стороны, или незамутнённые романтические поэмы Эйгеса или Крейна — с другой. Произведение решено как своего рода оперная ария (слегка в духе Чайковского), при этом во взаимоотношениях текста, пения и оркестра уже заметны некоторые специфически локшинские черты. Определённые «ключевые» слова и образы из бодлеровского текста дают толчок появлению музыкальных метафор, так что оркестр и вокал предстают как два разных уровня: внутренне и внешнее, описывающее и описываемое. Такая наглядность музыки не имеет ничего общего с плоской иллюстративностью социалистического реализма, не ожидающего от слушателя никакого сотворчества и поэтому не способного подарить ему подлинное художественное (со)переживание. ...Экстатичную, возбуждённо-чувственную музыку цикла дополняет сам по себе факт обращения Локшина (студента советского ВУЗа) к декадентско-эротической тематике (кстати говоря, без малейших коннотаций со Скрябиным). — Кажется, в дерзком наклоне фигуры юного Локшина имеет место рецидив радикального романтизма с демоническими чертами! Круг тем, которые вдохновляют композитора и в последующие десятилетия, остаётся в исключительных границах Тёмного начала: смерть, мучение, боль, безумие, проклятие...
Для своей Второй симфонии («Греческие эпиграммы», 1963 г.) Локшин снова выбирает неожиданный текст, причём, уже и само название симфонии оказывается обманным: речь здесь идёт вовсе не о весёлом, но только о мрачном и страшном. Всё начинается с диалога путника с погребёнными посреди дороги костями, мешающими его ходьбе (стихотворение Леонидаса из Тарента в переводе Леонида Блуменау), музыка живописует торчащие из-под земли кости, сломанное надгробие, безжалостные шаги путника, ступающего прямо по черепу погребённого. Мужской хор возмущён: «Кто тут зарыт на пути?», но женский хор сочувствует лишённому покоя мертвецу. — После некоторой паузы и сам покойник обретает голос, сопровождаемый совершенно неожиданными звуками орга́на: «Кости мои обнажились, о путник!». Экспрессивные музыкальные фразы, мотивы, фрагменты, ещё напоминающие о Малере, кажутся болезненно заострёнными, и напряжённая диссонирующая гармония словно бы врезается в живую плоть. Возникает почти шокирующее впечатление экспрессионистского, лишённого воздуха, давящего пространства... — За первой частью следует камерно-музыкально решённый инструментальный раздел (орга́н участвует и здесь), жалобный и стенающий. Вторая часть — «Узник Эрота». Несмотря на заголовок, здесь не найдёшь даже оттенка сладостно-ядовитой атмосферы бодлеровского цикла, и шуточно-провокативная просьба о казни, обращённая к Зевесу, («Если убьёшь, усмирюсь я, но если ты жить мне позволишь, бражничать стану опять, как бы ни гневался ты») превращается в совершенно серьёзный вопль протеста, взыскующий справедливости — у неба. Тихий и печальный переход к следующей части снова поручен органу, который продолжает играть солирующую роль и далее, отвечая хору. Эта часть строга и спокойна, словно бы излучая мягкий свет, — по-видимому, такая обстановка ожидает нас в Царстве мёртвых. Речь идёт исключительно о том, что предпочтительнее быть неродившимся, чем рождённым. Но тот, кого всё-таки постигло несчастие жизни, должен стараться сохранить себя для Аида чистым от прегрешений, страха и неверности... Следующая оркестровая интерлюдия выполняет функцию скерцо: однако, нервное, дрожащее движение не ведёт нас из Аида к свету, — напротив, атмосфера ещё более сгущается и темнеет, становясь словно бы непроходимой, — наконец, мы достигаем дна, нижней точки покоя и тишины. Соло флейты — это наигрыш флейты Пана, и хор приглашает: «Сядь отдохнуть, о прохожий, под этой высокой сосною... Скоро на веки твои сладкий опустится сон», — не только гипнотическая колыбельная, но и экстатический гимн смерти. Вокал (всегда хор, без солистов) и оркестр уже в этой симфонии не связаны общностью музыкального материала, — этот метод композиции Локшин будет развивать и дальше, в каждом своём новом произведении. Вокальная партия словно бы выполняет одну чётко очерченную функцию: как можно яснее декламировать текст, слог за слогом, без малейших украшений и вокализов и, главное, без столь естественного для романса или оперной арии стремления музыкально воплотить говорящего-действующего-поющего персонажа. Скромными усилиями поющих текст просто «размещается в пространстве», а оркестр утончённо, подробно и увлекательно иллюстрирует его, оживляет, материализует, — впрочем, без того, чтобы музыка преобразилась в вагнерическую сцену или подобие театра. Третья симфония (1966 г.) [комм. 6] без труда выдерживает сравнение с самыми знаменитыми европейскими антивоенными музыкальными полотнами, — как экспрессионистскими (созданными в 20-е годы), так и заострённо-гротескными авангардными & сюрреалистическими 1950-60-х годов, — и не имеет почти ничего общего с массивным корпусом советских антивоенных композиций... При том (особо замечу), что Локшин ни на минуту не покидает рамок тональной гармонии и обходится без помощи каких бы то ни было звуковых (дешёвых) эффектов. Своей особой авторской манеры он достигает, работая с легионом экспрессивных мотивов, которым никогда не дозволяет разрастаться до метастазов тематической степени индивидуальности; работая с резкими и неожиданными контрастами плотного и прозрачного, тихого и кричащего, невнятного и режуще-ясного, работая с гармонией не просто диссонантной, но полной невероятного напряжения, работая с гармонией, делающей подобные контрасты возможными, и в первую очередь — выстраивая сложные отношения между разными уровнями и этажами целого... — Текст. Пение. Инструментальная музыка. — Локшин создаёт до предела своеобразное пространство-время: давящее, сжатое, бредовое, удушливое... Я рискую сказать нечто по-ту-стороннее, но колорит его музыки заставляет вспомнить обособленную палитру живописи разложения Хаима Сутина...
Мне кажется, именно в эти годы, месяцы, дни... центральной темой для Локшина становится проблема выразимого и невыразимого — противопоставление слова и инструментальной музыки в его симфониях ценнее всего было бы увидеть именно в этом свете, — причём, уже в Третьей Симфонии (1966 г.) его дифференцированный музыкальный лексикон, сконцентрированный на Невыразимом, подсознательном, ассоциативном, привидевшемся, основанный на неопределённых образах, неназываемых чувствах, достигает своеобразного совершенства, принципиально не подлежащего улучшению. Таким образом, каждая последующая симфония (после третьей) словно бы продолжает утаптывать раз достигнутый уровень, «всего лишь» освещая его новые стороны, — и реализуя новые грани. «Эстетическое» очевидно и сущностно связано для Локшина именно с «иррациональным», бессознательным, — вероятно, это и есть тот центральный момент, которым он столь разительно и поразительно отличается от своих коллег (включая подавляющее число представителей так называемого «советского авангарда»). [2] Среди традиционных музыкальных форм Локшин находит одну, особенно точно соответствующую его манере кружения вокруг неуловимого центрального образа, навязчивой идеи на грани выразимого и невыразимого. Надеюсь, вы уже догадались: какую. Конечно, это вариации. Не только в вокальных симфониях, но и почти во всех своих инструментальных произведениях он обращается именно к этой форме — и в кларнетовом Квинтете, и в фортепианных Вариациях, и в единственной своей чисто инструментальной симфонии, Четвертой (интересно в связи с этим вспомнить также и последнюю, Одиннадцатую: здесь оркестровый вариационный цикл дополняется единственным вокальным разделом, одновременно являющимся одной из вариаций и кульминацией целого). Четвёртая симфония (1968 г.) носит заглавие Sinfonia stretta, она до крайности коротка и интенсивна. За лапидарным вступлением (Introduzione) следует тема с шестью вариациями и заключение, (Conclusione) которое одновременно подытоживает всё предыдущее и — перечёркивает его. Каждый из этих кратких разделов написан как развитие, устремлённое к своей локальной кульминации с последующим успокоением, — и точно в такую же логику укладываются все разделы вместе, взятые как единое целое. И здесь, снова возвращаясь к третьей симфонии, отмечу и ещё одну симптоматическую деталь: она написана к стихам Киплинга, — но... на каком языке? Премьера, состоявшаяся только в 1979 году, прошла в Англии (хор и оркестр Би-Би-Си под управлением Геннадия Рождественского). Её пели с английским текстом, по изданию, проверенному композитором. При том, некоторые хоровые пассажи этой версии заставляют всё-таки вспомнить характерную русскую музыкальную просодию. И действительно, оригинальная версия — первый авторский клавир — была написана по русскому переводу стихов Киплинга. Конечно, практика обратного перевода и подтекстовки не нова (в особенности, на оперной сцене), но всё-таки применима далеко не ко всякой музыке, в частности — не к той русской вокальной музыке, которая ориентирована на Даргомыжского и Мусоргского (а значит, опирается на разговорную прозаическую интонацию, как мы это встречаем не только у Прокофьева или Шостаковича, но и у Яначека или Куртага). Совсем не таков Локшин. Текст и язык для него — далеко не одно и то же. Его вокальная мелодия почти не ориентируется на разговорную речь, но представляет собой ритмически точную, ясно артикулированную подачу текста, звучание само́й речи в которой акцентируется неизмеримо слабее, чем её содержание (или даже смысл). Так и выходит, что переводные тексты (с греческого, японского, португальского, английского, немецкого, французского!) отлично укладываются в рамки его эстетики: звуковое измерение текста заранее приносится в жертву содержательному. Сквозь звучание текста композитор «с боями» пробивается к его содержанию, семантика же звучания переходит в епархию инструментов оркестра. ...Насколько правомерно относить Третью симфонию к числу произведений в ряду антивоенных (как «западных», так и «восточных»), от Бриттена [комм. 7] до Кабалевского и Шёнберга — однозначно сказать сложно. — И в самом деле, можно ли считать голос отчаяния, исполненный страха перед жизнью не менее, чем перед смертью — голосом некоего абстрактного гуманизма?
Иногда приходится слышать рассказ, будто бы Третья симфония была «почти» допущена к исполнению в СССР: от Локшина требовалось только согласие на «косметические» изменения в тексте (англичане в Индии должны были уступить место американцам во Вьетнаме), которое он якобы не дал. Этот эпизод (почти исторический анекдот) мне кажется не совсем правдоподобным, — и не только потому, что в тексте (на самом деле) не упоминается ни Англия, ни Индия..., — уж слишком несоветским и «чуждым» соцреализму кажется локшинский эстетический подход, его образная трактовка проблем Добра и Зла.
Музыка, сопровождающая эти Голоса во вступлении, подобна неопределённым движениям воздуха, испарениям, разобщённым частицам, — хор буквально пробивается сквозь неверную, призрачную атмосферу. В центре второй части, значительно более протяжённой и разнообразной, чем первая, и потому воспринимающейся как собственно первая часть (после вступления) — царит одна из главных локшинских метафор, а именно удушение. Это — и состояние музыки, и предмет текста (рассказ о повешении Денни Дивера), а в кульминации — сцена казни. Также и здесь композитор работает с поэзией в свойственной ему нейтральной манере, не превращая её в условную сцену с действующими персонажами, каким бы подходящим для этого ни казалось стихотворение. Солисту равно поручены и реплики действующих лиц, и ремарки (сказал один, сказал другой), так что он не идентифицируется ни с одной ролью, оставаясь сторонним рассказчиком или даже чтецом, декламатором. Примерно такова же и функция хора (за одним исключением: временами он затягивает припев бравой солдатской песни, не находящий продолжения). Вся торжественная и полная энтузиазма военная музыка «спущена» в оркестр наряду с разбитными «кабарэтными» пассажами, мутными волнами музыки первой части, жалобными вздохами, страшными агрессивными фанфарами угрозы, нежными, сладкими бредовыми голосами и почти натуралистической картиной мучительной смерти на виселице. В то время как вокальные фрагменты организованы в виде строф песни с припевом, материя оркестровой музыки не теряет непрерывного поступательного движения. Переход к следующей части — «слушай, поют мертвецы» — начинается с каденции скрипки и быстро перерастает в своеобразный сюрреалистический ландшафт, на фоне которого появляются (мёртвые?) марширующие солдаты из следующей, третьей части (Boots). Интересно наблюдать как (в переводе) композитор жертвует важными семантическими деталями (равномерные шаги марширующих), чтобы сохранить главный образ: непрерывное, неутомимое, безостановочное движение. В первоначальной русской версии хор поёт: «день, ночь, день, ночь» (бредово-фантастическая панорама сменяющих друг друга дней), а иногда на тот же мотив — «пыль», «пыль», в английской же поётся только: Boots, Boots, Boots, Boots, — подобная киномонтажу картина марширующих колонн, сфокусированная на механике сотен топающих ног. Техника монтажа здесь распространяется на всю часть, словно бы соединяя и разделяя два визуальных уровня: общий план — для панорамы марширующих колонн; и крупный план — для отдельных лиц (солирующих голосов). Оркестровая фактура долгое время остаётся необычно простой и прозрачной, подчинённой общей одержимости маршем. Когда же голоса, наконец, замолкают, оркестру, рисующему мучения людей, поставленных в нечеловеческие условия, — беспощадно, но и не без режущего чувства сострадания — поручается центральный — бессловесный! — раздел симфонии. Двухчастная Пятая Симфония (1969 г.) — своего рода перекрёсток в творчестве Локшина, причём, находящийся на буквальном «пересечении» первой и второй частей. Первая часть открывается ставшим уже привычным призывом Смерти: Tired with all these for restful death I cry (Шекспир, Сонет 66), и музыка её, следуя за текстом, полна открытой экспрессии, протеста, мольбы, мучительно напряжена, подобно статуе Лаокоона. ...Античная статуя вспоминается не только в связи с режущей экспрессией, но и — в дополнение к ней — в качестве ассоциации с классической строгостью и ощущением благородных пропорций, связанных, в первую очередь, с монолитной фактурой, единством оркестрового звучания (певца сопровождают в этой симфонии только струнные и арфа). Протестующему жесту противостоит в контрапункте ощущение внутреннего покоя и смирения. Текст подаётся почти отстранённо, в привычной уже, декламационной манере, ритмически и формально следуя рисунку стиха, при том, что русская и английская версии значительно отличаются друг от друга (без последствий для оркестрового уровня). Оркестр полностью определяет и настроение, и дыхание части, то и дело выдвигаясь на передний план со своим материалом, чётко профилированным, но и одновременно текучим, ускользающим, становящимся. Ощущение примирения, венчающего все горестные и горькие искания, неуловимо окрашивающее болезненную первую часть, царит безраздельно во второй, — среди возвышенной элегии, исполненной тепла, тихой печали и мягкого света. Можно сказать, в этой части находят дорогу друг к другу и солист с его певучими, равномерными, просветлёнными репликами, — и оркестр, создающий дифференцированную, богатую деталями, но при этом приглушённую, прозрачную картину осени. Материал обоих уровней оказывается здесь связанным — тонкими нитями, не перерастая в тематизм, — и так же ненавязчиво, легко отражаются отдельные образы текста в партии оркестра. Последний прощальный вздох солиста устанавливает особенное состояние, как после кончины ближнего, — оркестр оплакивает ушедшего мелодической линией, с каждой минутой становящейся всё проще и прозрачнее. Просветлённая линия, идущая от второй части Пятой, находит своё продолжение в Седьмой, Десятой и, отчасти, Одиннадцатой симфониях; другая же линия — экспрессионизм высочайшего напряжения — продолжается и развивается в Шестой, Восьмой и Девятой, которую можно обозначить как кульминацию европейского музыкального экспрессионизма вообще. Сразу же после утончённой и почти интимной Пятой, Локшин сызнова обращается к типу монументальной, грандиозной симфонии. В музыкальном воплощении стихотворений Блока здесь участвуют солист (баритон), смешанный хор и оркестр с двумя арфами и широким составом духовых и ударных. Это замечательное произведение ожидало своей премьеры дольше всех остальных, — до 2014-го года! Локшин впервые (за исключением «Жди меня») обращается здесь к оригинальной русской поэзии, — стихам, знаменитым и любимым для советского читателя. Тем сильнее бросаются в глаза особенности локшинской музыкальной просодии, его отношение к тексту и к языку, резко отличное как от традиционно-ориентированного академического мелодизма (представленного, например, песнями и хоровыми произведениями Свиридова, его последователей и эпигонов), так и от ставшего уже традиционным советского реалистического экспрессионизма, ориентированного на разговорную речь (как в вокальных произведениях Шостаковича, его учеников и подражателей). Вокальные симфонии Шостаковича, очевидно созданные под определённым влияниям локшинских, тем не менее, остаются далеки от них во всём том, что касается вокальной линии, работы с текстом и языком. Особенности звучания русского языка почти не находят отражения в локшинской мелодике, — по сути, она остаётся той же, что и в английских произведениях композитора. Почти никогда вокальная линия не становится здесь центральным событием, держась на почтительном расстоянии от таких жанров как песня, романс, ария, речитатив или оперная сцена. Положенные на музыку тексты становятся у Локшина однозначно симфониями — благодаря не только ведущей роли оркестра, но и вследствие локшинской техники музыкального воплощения стихии становления. Ближайшая параллель здесь — Рихард Вагнер. Шестая симфония вписывается в ряд прежних симфоний не только в этом отношении, но и, можно сказать, возвращается к найденному в них музыкальному материалу. Будьте ж довольны жизнью своей, Для Локшина это, конечно, не политическое высказывание, но очередное указание на Смерть, которой посвящён и последний раздел Шестой симфонии: вновь голос из мира иного. Женский хор поёт унисоном почти песенную мелодию, сопровождаемый сначала только флейтой и арфой (вспоминается флейта Пана из Второй симфонии), озвучивающую просветлённый текст («Похоронят, зароют глубоко...»), чистое воспоминание о чудном замогильном покое. Последнюю строфу исполняет как бы невидимый погребальный хор, и взволнованный, волнующий инструментальный материал врывается, чтобы полностью раскрыться в заключительном разделе. В завершающих мгновениях симфонии слышится отзвук первых тактов: теперь звук удаляется, исчезает. Захватывающе интересно наблюдать, с какой строгой ясностью определённые тенденции, намеченные в ранних произведениях Локшина, развиваются в более поздних. Седьмая симфония (1972 г.) — это, с одной стороны, вершина чисто инструментальной линии, снова цикл вариаций или, можно сказать, сюита из семи частей (Локшин вообще предпочитает циклы из шести вариаций, и здесь тоже — шесть вокальных разделов, поддержанных текстом, следуют за чисто инструментальной темой), в которой единый материал, не оставляющий стихию становления, переживает разнообразные метаморфозы, — с другой же стороны, в Седьмой достигает своей вершины и искусство Локшина музыкально иллюстрировать текст, тонко и почти ювелирно: слово за словом. Для этой симфонии композитор выбрал тексты, дающие особенно богатый материал для музыкального иллюстрирования: краткие и точные, сконцентрированные и ярко выразительные японские танка в переводе С.Глушиной. Перевод, может быть, не всегда находится на должной высоте в художественном отношении, но хорошо сочетает своеобразный экзотический, чуждый аромат с общечеловеческой проблематикой. Локшин находит средства для создания ощущения чуждости и экзотики, — тонкие и ненавязчивые, как лёгкая подсветка типичной для него гармонии и мотивного материала, — прежде всего в оркестровке, дающей впечатление прозрачной перспективы. Игра с пентатоникой сведена к возможному минимуму — в отличие, например, от Малера («Песнь о земле»), Клебанова («Японские силуэты») или Пуччини.
И здесь невольно возникает проблема более общего, теоретического порядка: должна ли литературная основа выдающегося музыкального произведения обладать самодостаточной художественной ценностью? Вопрос стар и предполагает, если ориентироваться на практику, скорее отрицательный ответ (достаточно припомнить прискорбные либретто, написанные Вагнером или Да Понте), — с другой стороны, многие композиторы с увлечением обращались и обращаются именно к шедеврам мировой литературы, и количество произведений, написанных, например, по пушкинским текстам, едва ли намного уступает посвящённым Ильичу. Даже если оставить в стороне бесчисленные романсы, музыку к фильмам и театральным постановкам, пушкинский список получится внушительным: куча опер («Пиковая дама» — Галеви и Чайковский; «Капитанская дочка» — Кюи, Толстой, Коллонтай; «Цыгане» — Леонкавалло, Рахманинов; «Русалочка» — Даргомыжский; «Мазепа» — Чайковский; «Дубровский» — Направник, Кикта; «Станционный смотритель» — Крюков, Смелков; «Царь Салтан», «Золотой петушок», «Моцарт и Сальери» — Римский-Корсаков; «Скупой рыцарь» — Рахманинов, Наполи; «Пир во время чумы» — Кюи, Николаев; «Кавказский пленник» — Кюи; «Мавра», «Домик в Коломне» — Стравинский; «Граф Нулин» — Николаев; «Арап Петра Великого» — Лурье; «Каменный гость» — Малипьеро; «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» — Плешак; «Сказка о попе и работнике его Балде» — Шостакович; «Бахчисарайский фонтан» — Ильинский; «Барышня-крестьянка» — Ларионов, Бирюков; «Царь Никита и его сорок дочерей» — А.Чайковский и так далее до бесконечности), масса балетов (и здесь рядом с Кавосом, Минкусом, Аренским, Глиером, Черепниным и Чулаки особенно отличился Борис Асафьев, написавший шесть балетов по Пушкину), затем следуют произведения ораториально-симфонические (достаточно вспомнить Свиридова, Щедрина, Тищенко, Петрова). Впрочем, сочинений на пушкинские тексты, завоевавших настоящую (отдельную от литературного первоисточника) популярность, неизмеримо меньше... Пожалуй, среди них можно назвать оперы Даргомыжского, Римского-Корсакова, Стравинского и Чайковского, в какой-то мере — «Бахчисарайский фонтан» Асафьева и «Пушкинский венок» Свиридова. Подлинными шедеврами можно считать, наверное, только оперы Чайковского (кстати сказать, весьма далёкие по своим либретто от поэтического первоисточника) но, в первую очередь, конечно — «Борис Годунов» Мусоргского... Не потому ли, что адекватное музыкальное воплощение сложнейшей пушкинской эстетики, соединяющей классическую лёгкость, трезвую проницательность, свободное от любых идеологических догм понимание природы психологии и истории, иронию и остроумие со страстной лирикой, романтической приподнятостью, проникновенностью и просветлённостью, — а на уровне языка и формы виртуозно объединяющей звучание с содержанием, — едва ли возможно: композиторы (за исключением Моцарта и — в случае с пушкинскими текстами — Мусоргского) неизменно склоняются к чему-то одному: либо к романтическому, либо к классицистскому, либо к патетике, либо к иронии. Александр Локшин переступил эту черту в 1973 году, обратившись наконец-то к Пушкину, — в своей Восьмой симфонии... Казалось бы, у Пушкина не так-то легко найти типичный для Локшина мрачный экспрессионистский материал, не сбалансированный лирическим, философским или ироническим элементом, — но вот, как оказалось — нашёлся и такой! Это «Песни западных славян», переложения прозаических отрывков Мериме, дополненные прямыми переводами сербских песен. Пушкин здесь исключительно радикально обращается с ритмом, звучанием, синтаксисом, метафорами и образами, открывая перед читателем экзотический мир, отмеченный чертами старины, фольклорности и фантастики, — жутковатый мир на грани ночного кошмара, режуще-яркий, странный, волнующий, отчасти, родственный Гоголю, но и некоторым мандельшамовским переводам, в которых сквозь ткань русского языка словно бы просвечивает итальянская или старофранцузская речь. В том же году Локшин создает ещё одно произведение в форме вариаций для пения с оркестром, которое по форме и языку не отличается принципиально от его симфоний, однако, оставшееся без номера и соответствующего жанрового обозначения. Вполне вероятно, что в этом пропуске повинны суеверия, связанные с числом девять, — подобно тому, как это имело место в творчестве Малера, — столь высоко ценимого Локшиным. — Впрочем, прямых указаний, будто бы композитор придавал значение какой-то «нумерологии», не находится, — за исключением, разве что, числа одиннадцать (как можно обнаружить в некоторых источниках)... Так или иначе: не ставшее «девятой симфонией» сочинение носит заголовок «Песенки Маргариты» и использует текст из «Фауста» Гёте (в переводе Пастернака). Сын композитора вспоминал об этом времени: ...Как-то раз весной, страдая от бессонницы, мой отец вышел прогуляться. Было раннее утро, и улица была пустынна. Тут он увидел молодую пьяную женщину совершенно исключительной красоты, которая в разорванном платье шла ему навстречу. Его поразило выражение смеси отчаяния и отрешённости на её лице. Когда он вернулся домой, то открыл первую часть «Фауста» в пастернаковском переводе и начал читать. Он так и не смог оторваться, пока не дочитал до конца. А потом сел сочинять свою «Маргариту»...[5] ...«Эта весна» была — весной 1973-года; Восьмая симфония была закончена — в марте. А спустя семь лет, в 1980 году Локшин дописал ещё две части, посвящённых Маргарите, и объединил их с первоначальной «Песенкой» в единый цикл под названием «Три сцены из Фауста Гёте». Как видно, даже сделавшись трёхчастной, песенка не превратилась в симфонию. ...Музыкой почти не занимаюсь. Написал только две сцены из Фауста (комната Гретхен и сцена на Городской стене), за которыми должна следовать третья, Вам хорошо знакомая «Маргарита». Все вместе должно называться: 3 сцены из Фауста, для сопрано и оркестра, а может быть, просто 12-я Симфония. Еще можно было бы назвать: камерная опера для концертного исполнения. Первые две сцены это как бы пьедестал для третьей... Три сцены соответствуют трём главным этапам в истории Маргариты: влюблённость, страх и раскаяние, безумие; две первые сцены служат действительно неким предисловием или введением к третьей. — Кажется, что композитор, высоко ценивший свои «Песенки Маргариты», решил создать для них, как для драгоценности, достойное обрамление. Музыка первых частей существенно прозрачней, утончённей, амбивалентней, чем последней, хотя и в них также царит пугающая, удушающая экспрессионистическая атмосфера. Уже в первой пьесе, целиком посвящённой, собственно говоря, любви, постоянно акцентируются существительные в таких сочетаниях, как «любовная тоска», «любовные муки», «любовная болезнь», сладко-мучительное экстатическое состояние постепенно переходит в просто мучительное, горькое и полубредовое. Эротика в этой музыке отсутствует точно так же, как и любые конкретные атрибуты времени и места. Всё это попросту неуместно... Девятая симфония — своего рода точка фокуса, собравшего воедино почти все черты локшинской эстетики (в их наиболее интенсивном и обнажённом виде). Впервые в симфониях композитор обращается к современной ему советской поэзии, не только злободневной, но и стилистически ярко окрашенной (причём, в традиционно советские тона) и связанной не просто с политической проблематикой, но и (рискну предположить) особенно важной для Локшина, болезненной темой: клеветы, обвинений, мучений, истязаний. — Отобранные Локшиным для симфонии стихотворения Леонида Мартынова (1905-1980) [комм. 8] интересны и своеобразны: это причудливое сочетание академических, архаических и сюрреалистических черт с элементами публицистики, дадаизма, примитивизма, вульгаризма. «...В эту душную ночь я беседовал с Богом. Говорили, казалось, не очень о многом. Я сказал: покажи чудеса!...» — Насколько это серьёзно, а сколько в этих словах пародии и издёвки? — Локшин, впрочем, как обычно создаёт свою, вполне отдельную и своеобразную интерпретацию текста, заставляя его звучать угрожающе и перенапряжённо, композитор создаёт кошмарное пространство на грани безумия... Именно что! — на грани, но не за гранью, как в «Маргарите» с её разъятой, разорванной реальностью. Вернее говоря, мартыновская поэзия вдохновляет Локшина на особенное, истерически-просветлённое состояние, нечто вроде расширенного сознания человека, выдержавшего пытки и завоевавшего через боль своё выстраданное ви́дение (или виде́ние) истины. Экспрессионистские (в духе европейского искусства первой половины XX века), резко остранняющие и отчуждающие черты проявляются уже в отношениях между речью, текстом и музыкой: солист, субъект текста, говорящий от первого лица, остаётся, всё же, немного отдалённым, — как если бы он попросту читал текст, — до лирических, полных муки исповедей в духе советского экспрессионизма (как это случается у Шостаковича или Вайнберга), дело не доходит ни разу. 3. Марш Напряжённость музыки здесь такова, что уже не остаётся места вопросам: что здесь всерьёз и по большому счёту, а что — всего лишь гротескное искажение: в мареве возбуждённого сознания все противоречия сходятся к какому-то единому непротиворечивому целому. В следующей части — жестокой Токкате — композитор выносит за скобки (словно бы игнорируя) аспект текста, связанный с состраданием. Так же амбивалентна и последняя часть: вместо того, чтобы демонстрировать чудеса, Бог находит слабую отговорку, — которая, как кажется, всё-таки удовлетворяет рассказчика. В заключительном разделе музыка, полная муки, постепенно растворяется в прозрачных высотах, хотя отрадного чувства просветления или примирения не возникает: видимо, пути Господни остаются неисповедимыми?.. — И невольно (как реприза) вспоминается возглас невинного мученика из «Песен западных славян»:
П
Показать, а тем более, «доказать» наличие или отсутствие гениальности у художника не так просто... — На мой взгляд, Пятая и Девятая несомненно принадлежат к высшим достижениям симфонической музыки, — наряду с некоторыми другими забытыми и неисполняемыми произведениями, — к примеру, такими, как симфонии Гавриила Попова и Бориса Лятошинского, — и, конечно же, каждая партитура Локшина заслуживает всяческого внимания, исполнения, признания. Все эти партитуры написаны с огромным мастерством, смело и оригинально, волнуют и подчас даже потрясают, — однако, высший эпитет «гениально» я бы всё-таки приберёг для его Десятой симфонии (1976 год). Особенности этого произведения связаны, вероятно, с несравненной поэзией «старого» обэриута (едва не убитого и чудом вернувшегося из лагерей) Николая Заболоцкого, к которой здесь обращается композитор. [комм. 9] Из послевоенных поэтов, наверное, он — единственный, кому удалось оживить звучание русской классической поэзии (именно в поздних стихах, к которым и обратился Локшин).
...Безыскусно-простой (построенный на трезвучиях) и красочный хорал из Десятой — Что ты, осень, наделала с нами? — звучит как примирённое прощание (в драматургии симфонии это производит впечатление не столько окончания, сколько обрамления). Одиннадцатая же симфония (1978 г.), с самого начала, видимо, задуманная как последняя (помимо важного для Локшина числа «11» в пользу этого говорит и то, что здесь он использовал сонет Камоэнса, отобранный много лет назад и только «поджидавший своего часа»; здесь поставлена точка... и симфонические произведения, написанные после Одиннадцатой, Локшин больше не называет — симфониями), звучит не столько как «прощальная», сколько вновь как симфония протеста, имеющая дело не только с невыразимым, но и с неразрешимым. Невольно всплывают из памяти слова Марины Цветаевой: «...на твой безумный мир Ответ один — отказ...» — У Локшина, впрочем, настроение в Одиннадцатой не вызывающее, воинственное, но, скорее, горькое, безнадёжное. Единственное стихотворение, использованное в симфонии (в несколько топорном переводе В.Парнаха), рисует поначалу идиллические картины природы (на этот раз преувеличенно абстрактные, обобщённые, — «...последний топот согнанного стада...», — перечисление, заканчивающееся отказом, отвержением (почти прямой ответ на Музу Заболоцкого); в конце концов, прокламируется в великой радости одно страданье. — Так же, как этот неожиданный поворот-отрицание приберегается к концу сонета, построена и симфония Локшина: слово появляется в конце, словно ключ ко всему прозвучавшему. Сходная драматургия в Десятой была исключительно эффективной, но здесь, в Одиннадцатой, она выглядит несколько дидактичной, прямолинейной, — слово не столько дополняет музыку, сколько лишает её очарования многозначности... Д Каждая строчка – пощёчина. Удивительно у Северянина то, что сам язык протеста, которым он язвительно и презрительно бросает вызов салонной культуре, — целиком и полностью совпадает с языком самой этой культуры, которым он виртуозно владеет. В результате налицо: резкий диссонанс между стилем и содержанием.
...Захотел ли поздний Локшин посмеяться над своей юношеской увлечённостью роскошным декадентством?... (подобный само’отрицающий узел знаком нам по творчеству Шостаковича, создавшего, например, свои Стихотворения капитана Лебядкина непосредственно после окончания работы над абсолютно серьёзными элегическими вокальными циклами, тематизирующими значительность искусства и художника), или же Локшин адресовал свою симфониетту всё-таки не самому себе, а своим современникам, среде, окружению?.. Ответить не так просто, потому что, в отличие от Северянина, Локшин ничуть не пародирует соответствующий претенциозно-вульгарный язык (музыкальные средства для этого не заставили бы себя искать) и не перенимает от поэта тон самозваного салонного пророка, — он остаётся верен своему экспрессионистскому музыкальному языку, пускай и редуцированному — почти до пуантилизма. Также и состав ансамбля (место оркестра здесь занимает смешанный ансамбль с солирующими струнными) типичен для позднего Локшина: три кларнета, звучащие как своеобразный инструмент где-то между органом и аккордеоном, играют центральную роль, а поддерживающие их остальные инструменты присутствуют по одному. Получается, что внутренняя противоречивость текста не разрешается, но скорее — только дополняется музыкой, вносящей как бы ещё один, новый стилистический компонент. Партия тенора написана с большой заботой о внятности, чёткости произнесения текста и приближается, как обычно, к музыкальной декламации. — Впрочем, в отличие от симфоний, инструментальный материал здесь кажется зависимым от вокальной партии, подчинённым ей, так что основной информацией для слушателя становится не течение музыки, а именно — текст, его содержательная и акустическая артикуляция. С другой стороны, если абстрагироваться от текста, то вокальная линия превращается скорее в фон, и тогда можно ощутить движение музыки в больших разделах, проходящее как бы мимо текста и вербального содержания, — то забавное и оживлённое, то меланхоличное или застывшее. В последнем разделе композитор даёт прозвучать позднему стихотворению Северянина, написанному в эстонской эмиграции. Оно серьёзно и совершенно свободно от какого-либо глумления или издёвки. Голос певца оплакивает разрушенный умирающий парк, каждое бессмысленно срубленное дерево, — с одной стороны, просвечивает очевидная метафора с политическим подтекстом, с другой — параллель с собственным умиранием. Контрапунктом к нему три кларнета соединяются в медленно покачивающийся хорал. « ...Впервые я почувствовал отсутствие новых музыкальных идей и состояний души в своей пьесе «Искусство поэзии» (которую, несмотря на это, продолжаю любить). Дальнейшее творчество лишь подтвердило этот факт. По-видимому, я пережил самого себя...»[8] В собственноручно составленный список лучших своих произведений композитор включил, рядом с симфониями и «Сценами из Фауста», Струнный Квинтет (1978), «Mater Dolorosa» (1977), «Тараканище» и «Искусство поэзии»; притом, в него не вошли ни первая Симфониетта, ни «Три стихотворения Ф.Сологуба» (1983), переработанные в 1985-м году во вторую Симфониетту, ни другие вокальные циклы последних лет (Цикл по Маяковскому, 1968; Квинтет по Франсуа Вийону, 1981; Вариации для баса с оркестром на слова Н.Тихонова, 1983). Не знаю, должен ли я разделить строгую самокритику Локшина, но, в любом случае, можно понять любовь автора к небольшому чудесному «Искусству поэзии» (1981). Вновь Локшин обращается к тексту Николая Заболоцкого, и создаёт музыку, поразительно органично сливающуюся с литературным источником. Стихотворение называется «Гроза», и в качестве центральной метафоры для своего произведения Локшин избирает удивительное приравнение звука первых дальных громов к первым словам на родном языке. Поразительное описание грозы у Заболоцкого кажется во всех деталях гармонирующим с излюбленной локшинской экспрессионистической палитрой, включая ранние декадентские произведения: зарница пробегает, содрогаясь от мук, дышать становится всё труднее, травы падают в обморок и гроза на поверку оказывается светлоокой обнажённой девой, поднимающейся из тёмной воды. Посвящённая грозе музыка, рисующая её лёгкими и утончёнными красками, без прямолинейной звукописи, — обладает своим собственным дыханием, течёт независимо от текста, от быстрой и внятной вокальной декламации, которая, по соседству со свободно движущейся музыкой, подчас производит впечатление едва ли не скороговорки. Однако такая «разноголосица» здесь — не случайный диссонанс, а новый своеобразный баланс между текстом, речью и музыкой, находящимися по разные стороны, каждый — в своём отдельном пространстве, — и только со временем, по ходу произведения — пересекающимися, приближающимися друг к другу каким-то чудесным, почти экстатическим образом. Две различные формы материализации одной идеи: «родной язык» — невербален!..
Грубовато-героическая, несколько топорная музыка тихоновского цикла временами кажется прямым отражением использованных в этом произведении стихов, — честно говоря, имеющих мало общего с искусством поэзии. Возникает, как и от первой Симфониетты, ощущение стилизации, маски, — здесь — официально-советской. — Зачем, по каким мотивам? Лёгкий привкус пародии, возможно, на сей раз не обманывает.
В Квинтете на тексты Франсуа Вийона возвращается экспрессионистская атмосфера ночных кошмаров. Так же типично для Локшина и отсутствие в музыке связей с внешними характеристиками текста — время создания, интонация, стиль: всё остаётся сокрытым от глаз и ушей. Строка «глухой меня услышит и поймёт» получает характерное локшинское звучание, становится уже знакомым нам лейтмотивом вечной неуслышанности. Вторая Симфониетта — причём, в обеих версиях: и как пьеса для голоса и фортепиано, и как симфоническое произведение (по отношению к первой версии Локшин изменяет здесь только вступление и коду) — это своего рода гимн Смерти.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— Да. Именно что́... Всерьёз и с выражением полнейшего разговения на лице... Принимаю этот дар на подносе, отлично понимая, какого труда могло стоить (и стоило!) автору это стойло, с позволения сказать. Стойло не-ве-ро-ят-но-го размера и такой же глубины. Страшно подумать, чёрт!.. — Тем более что перевод..., да, я повторяю, — пе-ре-вод столь крупной и много(значительной) главы из ещё более крупной и много(значительной) книги..., — даже в том случае, если это прямой перевод..., он всегда представляет собой проблему не только техническую, но и экзо..., экзи..., прошу прощения, экзе’ стен-циальную. Прежде всего, потому..., по-то-му..., что далеко..., далеко не так просто и легко возвращаться в прошлое (даже когда оно твоё собственное). Возвращаться назад... к языку, времени, среде. Давно её покинув. — И всё же, принуждать себя, снова и снова оборачиваясь, вглядываясь в лицо..., в полуразложившиеся черты лица этой прекрасной мумии, возможно даже Нефертити..., и пытаясь продолжить диалог с глухим..., покойным..., фараоном..., его родственниками и друзьями..., раз за разом, вопреки всему. — Или даже просто переводя некий немой текст с одного (мёртвого) языка на другой (тоже мёртвый) язык нечто выстраданное. Прочувствованное. И даже пережитое. Как десятую симфонию..., страшно представить, чёрт... Или даже два... Обнимитесь, миллионы... — Пауза.
Иначе..., — скажем прямо, — трудно, да..., слишком трудно было бы свести концы с концами..., так сказать, достигнуть желаемого баланса. К примеру: туда-обратно. Нал-безнал. Нетто-брутто. Или даже простейшего, бухгалтерского... Правда сказать, только с некоторыми внутренними поправками (слегка напоминающими северный коэффициент) мне приходится сейчас выдавливать из себя эти слова (изрядно жёваные). Эти... По поводу перевода, переведения и всех прочих прелестей человеческого миропонимания. Потому что между немецким оригиналом (что за нелепое слово!) и русским дагерротипом, помещённым здесь, пролегает (буквально говоря) бездна без дна... Совсем. Или почти без оного. Попросту говоря, поставив рядом (прямо в то течение, из которого она вышла) книгу Бориса Йоффе «Im Fluss des Symphonischen» и опубликованный русский текст «Александр Локшин: не’услышанный композитор» мы увидим разницу между землёю и небом. Или (по крайней мере) между двумя землями. — И вот о чём я веду здесь речь. Можете послушать, если желаете:
...И в самом деле, ничуть не пытаясь преуменьшать героические (а временами стоические) усилия эсквайра Бориса Йоффе в создании (к тому же, на немецкой почве) циклопической картины выстроенных в шеренги батальонов, полков и дивизий композиторов эпохи недоразвитого социализма, — всё же крайне трудно было бы сравнивать всерьёз мутное, временами застойное «русло советского симфонизма» — со стремительными ирригационными каналами только что выстроенной «новой земли» архипелага Хано́граф. — Одно дело, если в жутковатом соседстве с душераздирающими локшинскими опытами оказывается какой-нибудь анекдот в виде застойного фаллика с эффектом мачавариани..., и совсем другое, когда в царстве непримиримого Эрика из-за угла доносится обжигающее дыхание необязательного зла или приглушённое рычание целующихся гиен... И тогда, страшно сказать, im Fluss des Symphonischen (eine Entdeckungsreise durch die sowjetische Symphonie) внезапно приобретает совершенно иной смысл (скажем, слегка относительный — в высшем смысле слова..., или даже на’против).
Примерно таким же образом, как и вся жизнь этого композитора-мученика Александра Локшина..., — её вид, цвет и даже звук мог стать радикально другим — если бы вокруг него плескалось не мутное оно, «Fluss des ... sowjetische...», как всегда состоящее из подлостей и подлогов в рамках гнилостных войн противостоящих и нестоящих кланов, но (удивительно предположить) нечто совсем иное..., имеющее ценность (или полное отсутствие таковой) вне зависимости от своего маленького обстоятельства времени и места действия жизни.
Ком’ ментарии
Ис’ сточники
См. тако же
— Желающие сделать замечание или дополнение,
« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »
| |||||||||||