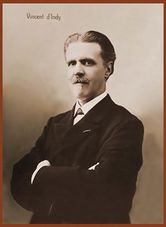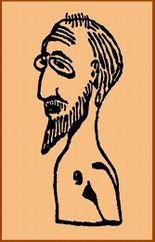Альбер Руссель (Эрик Сати. Лица)
А
Но если всё-таки вернуться в начало этой мыльной оперы и заставить себя находиться в рамках общепринятых норм и традиций, то эта история будет иметь несколько более унылый и непритязательный вид.
Альбе́р Шарль Поль Мари́ Руссе́ль (Albert Charles Paul Marie Roussel, читай: католик... по происхождению) — несомненно, одна из знаковых фигур французской академической музыки (пожалуй, самого бурного и яркого её периода, каким следует считать начало ХХ века). Альбер Руссель, соединивший в своём лице (а также и ниже) любителя и профессионала, последовательно (а временами и параллельно) подхватил все новаторские инфекции и переболел практически всеми болезнями своего времени. — В итоге, шаг за шагом, он сплавил и переплавил в своём наследии буквально всё, что только представляло интерес в 1910-1920-е годы. И прежде всего, с этой точки зрения он может быть более всего интересен так называемым «профессионалам»: музыкантам, музыковедам, критикам и композиторам.
Не профессионал (от Бога), хотя и ставший не только признанным мастером своей профессии (и даже педагогом), тем не менее, Руссель всегда стоял подчёркнуто особняком, никогда не становясь частью музыкального клана вообще, или одного из малых враждующих кланов в частности. Пожалуй, причина его «отдельности» (кроме особенного и, отчасти, болезненного характера) вырастала напрямую из истории (или, если угодно, анамнеза) его жизни. Подобно нашему (не)дорогому боцману русской музыки, Альбер Руссель начал свою жизнь — с военно-морской службы, посвятив этому достаточно солёному предмету — (не)добрый десяток лет. В конце 1880-х и в начале 1890-х годов Руссель — гардемарин на военных кораблях дальнего плавания, вполне соответствующий своему званию и чину. Несмотря на постоянный & пожизненный интерес к музыке..., и даже более того, — к новой музыке, он очень размеренно и постепенно (словно бы никуда не спеша, шаг за шагом) переходил — к новой профессии. Говоря прямыми словами, на этот процесс у него ушла почти вся первая половина жизни... — Но и позже, уже сделавшись профессиональным музыкантом, Руссель ничуть не поменял своего неспешного, сдержанного и подчёркнуто отстранённого способа сообщения с окружающим миром. Хотя по характеру своему — он совсем не был таким. В конце концов, каждый мастер формирует, а затем — и имеет свой образ или личину, под которой его воспринимают коллеги, современники и публика, а затем — ещё и тот, последующий, — под которым он фигурирует в хрониках своего времени... — Как принято говорить об этом предмете, Альбер Руссель — признанный офицер французской музыки в эпоху между двух войн.[комм. 1] В истории искусства найдётся совсем немного художников, чья этика жизни и творчества приближалась бы к настолько жёсткому и беспристрастному кодексу морали и чести, которому всю жизнь неуклонно следовал Руссель. — Так о нём говорили при жизни..., и так говорят..., до сих пор..., как это ни странно слышать...[2] И прежде всего, причиной тому была его (почти эталонная) личная репутация. Человек чести..., а также — честный человек, всегда стоявший в стороне от перманентной конкурренции (склок или дрязг) между артистическими и не-артистическими группировками, Руссель никогда не становился арбитром или судьёй, но скорее — неким равноудалённым эталоном (из пробирной палатки, не иначе). Слава, богатство, связи..., всё это его как-будто не интересовало. — Признание шло к Русселю таким же долгим и неспешным путём (на первый взгляд, флегматическим), каким и он сам следовал по жизни, — тем более, что за годы своей музыкальной «карьеры» он не совершил ни одного роняющего собственное достоинство шага — ради подталкивания или ускорения этого пути.[2] Впрочем, совсем иначе выглядел «творческий путь» Альбера Русселя, — напоминая скорее причудливую кривую, чем выполненную строго по уставу — военно-морскую линию. Его стиль, несмотря на удивительное постоянство характера, претерпевал изменения едва ли не чаще, чем это было бы «прилично» для «эталонного мсье»... Словно бы испытывая неуверенность, и оттого озираясь вокруг себя, Руссель (как во время шторма на палубе корабля) постоянно искал для себя опору или ориентир в причудливом лабиринте музыкальных художественных направлений Франции и Европы начала XX века.[2] Точно так же размеренно и последовательно, шаг за шагом пройдя через территорию Вагнера и Франка, затем — через прямое влияние импрессионизма (прежде всего, в лице Клода Дебюсси) с изрядной примесью экзотического ориентализма, а чуть позднее — попав под пресс жёсткого авангарда (вернее сказать, какофонии) Шёнберга, Стравинского и политональности Мийо, в конце концов, впечатлившись примером «Сократа» и других поздних сочинений Эрика Сати, Руссель завершил свой путь как виднейший французский неоклассицист.
Ребёнок открытый и эмоциональный, почти сразу по приходе в этот мир — он получил довольно жестокую прививку, — прививку смертью..., впрочем, не одну..., и не одной. Пожалуй, именно это обстоятельство более всего сблизило Альбера Русселя с Эриком Сати (причём, за долгие годы до их знакомства, сначала отделённого, а затем и — личного).[комм. 3] Впрочем, не стану забегать слишком далеко в перёд..., как это (не)принято. Несмотря на богатое и основательное положение своей семьи, детство этого Альбер(т)а выдалось крайне тяжким..., — притом, без особенных скидок на возраст (и рост). Для начала..., он очень рано осиротел: ещё в младенчестве потерял отца, затем скончалась и его мать — когда Альберу было семь с небольшим лет. Затем (ещё четыре года) он прожил в большом доме деда, — как раз того, который в те поры занимал должность мэра города Туркуэн (на самой с..ной границе с Бельгией). Впрочем, когда Альберу исполнилось одиннадцать лет, его дед также скончался.[3] Ну что ж..., не так плохо, для начала... Затем ещё четыре года Альбер (уже почти подросток) прожил в семье тётки — сестры своей покойной матери. А затем..., не стану напрасно рассказывать, когда, где и ради чего скончалась и его тётка..., — к сожалению этот вопрос уведёт разговор совсем в другую сторону, чем хотелось бы (моему) руководящему органу. Ограничусь лишь несколькими жёваными замечаниями... — Как у вас это принято..., дорогой друг. Исключительно: как принято. — Несмотря на подчёркнуто заботливое и внимательное отношение родственников к сироте, Альбер чувствовал себя одиноким, вёл себя необычно тихо и замкнуто, едва ли не всё свободное время отдавая чтению и каким-то странным внутренним фантазиям. — Ко всему добавились ещё несколько болезней, которые он сам перенёс в детстве..., — поначалу прошедшие почти без последствий. Тем не менее, именно они — в ранние годы — на всю жизнь сформировали буквально всё, снизу доверху: и психику, и поведение, и организм будущего «странного композитора», спустя три десятилетия вернувшись к нему отдалённым рикошетом.
Ребёнок чувствительный, ранимый и открытый, — под влиянием (не)детских несчастий Альбер стал культивировать в себе некие особые искусственные качества, которые, как ему казалось, помогут выжить одному посреди этого чужого и непредсказуемо опасного мира. Густо окрашенное регулярными утратами близких детство хотя и не искалечило психику Русселя, но всё же наложило строгий отпечаток на всю его последующую жизнь. Каким-то неведомым образом (видимо, отвечая на превратности судьбы) он посчитал необходимым выработать в себе высокие и незыблемые моральные принципы, а также необычайную выдержку, самодисциплину и сдержанность, постоянно выделявшие его из числа современников, тем более — в артистической среде.[комм. 4] Прежде всего, благодаря именно им, этим личным качествам, Руссель заслужил свою безупречную репутацию, — и всюду, где только ни появлялся, он тащил за собой длинный шлейф уважения окружающих, временами сопровождаемого — даже удивлением... Когда Русселю стукнуло пятнадцать, родственники (отвечая настойчивым желаниям) отправили его в Париж, чтобы он завершил среднее образование в лицее Станислава. Среди его учителей — известный в своём роде (консервативно-патриотический) историк французской литературы Рене́ Думи́к, а среди одноклассников — Эдмо́н Роста́н, будущий поэт и драматург.[2] В эти годы Руссель часто и с удовольствием посещал парижские театры и концерты, желая быть в курсе музыкальных новинок..., а также и культурной жизни — вообще.
После окончания лицея и получения аттестата зрелости (в 1887 году) Альбер Руссель, аккуратно следуя своим детским фантазиям, всё же выбрал для себя карьеру моряка, а для дальнейшего обучения, соответственно — Высшую военно-морскую школу. Среди шестисот кандидатов по конкурсу его имя значилось — шестнадцатым. Примерно так же аккуратно (хотя и не с отличием, но в числе первых) он прошёл и курс обучения, — впрочем, в свободное время будущий офицер не забывал и о музыке: как слушатель и (временами) исполнитель. К примеру, во время очередной корабельной практики (которая проходила в Атлантике на парусном фрегате «Мельпомена»), Руссель организовал маленький любительский оркестр и такой же хор из числа гардемаринов, сопровождавший своей музыкой воскресные мессы и другие церковные службы. Впрочем, эта музыка иногда имела немного особенный вид, так сказать, «немного того»... Курьёзный факт: ради внесения некоторого «разнообразия» в непомерно скучные (не по уставу) военно-морские мессы, Руссель не раз вставлял в музыкальное сопровождение кое-что оживляющее или яркое (на его вкус и цвет), широко используя запомнившиеся ему по парижской жизни мелодии (чтобы не приводить примеров): богомерзкое чириканье птиц из оперетты Зуппе или королевский марш из «Прекрасной Елены» Оффенбаха.[2] После окончания военно-морской школы, произведённый в офицеры Альбер Руссель получил назначение сначала на крейсер «Победитель», а затем — на канонерскую лодку «Стикс», на которой участвовал в нешуточном плавании по дальневосточным южным морям. В 1889-90 годах Руссель служил на фрегате «Ифигения» и (вероятно, поневоле) принял участие в очередной кругосветной экспедиции. — Именно к этому времени долгого «корабельного уединения» относятся первые самостоятельные сочинения Русселя: «Фантазия» для скрипки и фортепиано, а затем «Анданте» для скрипки, альта, виолончели и органа. С большим трудом работая над этими пьесами, откровенно плавая в проблемах гармонии и формы, и с мужеством настоящего морского офицера преодолевая возникающие трудности, Руссель убедился в серьёзнейшем недостатке музыкальных знаний. Как оказалось, ему не были известны самые элементарные правила инструментовки и композиции. Несмотря на поминутное заглядывание и постоянное штудирование учебника гармонии Дюрана, — Руссель ощутил себя в музыке абсолютным дилетантом.
Ниже содержится маленькое предупреждение: я предлагаю пропустить целый абзац чтением, поскольку в нём последует некий идиотический анекдот: из числа тех, которые обыкновенно составляют существо человеческих существ. К «профессиональной» музыкантской карьере его подтолкнула чистейшая оказия, чтобы не сказать — необязательный розыгрыш одного коллеги (по морской службе, вестимо). В один из вечеров, когда Руссель потихоньку наигрывал свои пьесы на рояле в кают-компании, некий его сослуживец, брат известного оперного певца, будучи в приятном расположении духа, наговорил начинающему композитору массу комплиментов и (видимо), чтобы подкрепить сказанное крепким аргументом, ещё и вызвался показать его сочинения брату, а также и другим профессионалам из числа друзей дома. Поговорили и забыли (как всегда)... Однако через полгода, когда коллега вернулся из отпуска, Руссель аккуратно задал ему вопрос..., о своих пьесах. С видом равно восторженным и осведомлённым, этот сослуживец поведал Русселю, что его музыка произвела немалое впечатление, и что маститый брат попросил обязательно передать Русселю своё мнение, что теперь ему следовало бы всерьёз посвятить себя карьере профессионального музыканта… — Спустя много лет, когда Альбер Руссель уже стал известным композитором, подкладка этой истории неожиданно раскрылась. При какой-то случайной встрече старый приятель признался, что давеча, находясь в отпуске, попросту — позабыл про своё обещание, так и не показав руссельских пьес своему оперному брату, а затем соврал, не имея сил сознаться в своей невнимательности. Впрочем, на тот момент возвращаться было уже слишком поздно... Корабль уплыл, и давно. — С ним разговаривал Альбер Руссель, профессор полифонии, известный и уважаемый композитор.
Однако даже этот банальный анекдот, более чем бородатого вида (повторяющийся столетиями без малейших изменений и кочующий из биографии в биографию), имел ещё не одно и не два повторения..., примерно с одинаковым эффектом, — в жизни этого Русселя. Например, взглянем на него ещё раз, но немного с другой стороны... — В 1894 году, возвратившись во Францию из очередного дальнего плавания, Руссель взял долгий отпуск, который собирался провести у своих родственников в небольшом городке Рубэ (в том же северном департаменте, но чуть западнее, неподалёку от Па-де-Кале). Едва ли не весь отпуск этот образцово-показательный молодой офицер (двадцати пяти лет от роду) решил посвятить долгожданному занятию, выстраданному едва ли не на всех меридианах, а именно: изучению основ музыкальной теории. Собственно, этим намерением и был вызван выбор Русселя отправиться именно туда, в Рубэ — где у его родственников были кое-какие знакомства, (далеко) не последние для его нужд. Без лишних колебаний, Руссель обратился с просьбой дать ему несколько частных уроков — к некоему Жюлье́ну Косзу́лю, директору консерватории Рубэ, известному органисту из передовой (тогда) школы Нидермейера. Пролистав первые творческие опыты морского офицера, Косзуль признался, что сочинения ему нравятся, но у него не хватает профессионализма для компетентного суждения, а потому посоветовал молодому автору съездить в Париж и показать сочинения его коллеге и приятелю, некоему Эже́ну Жигу́, профессору полифонии и композиции в школе Нидермейера. Без особых сомнений Руссель последовал совету Косзуля и спустя (пардон), через неделю получил благожелательный отзыв и подробные рекомендации парижского профессора. Всерьёз поверив высоким оценкам Косзу́ля и советам Жигу́ серьёзно заняться музыкой, Альбер Руссель, наконец, принял решение — оставить службу на флоте и поменять профессию. В сентябре 1894 года Руссель вышел в отставку. И хотя в этом анекдоте ни один из персонажей не сознался в своём розыгрыше, нет ни малейших оснований сомневаться в их искренности, не так ли?.. — Позднее Эжен Жигу́ вспоминал о Русселе как одном из лучших (своих, вероятно) учеников, и говорил, что «он одарён настоящим гением фуги».[2] Хотя, глядя на эти подозрительно часто повторяющиеся истории (наподобие анекдотов)..., или анекдоты (наподобие историй), невольно напрашивается один маленький, но сильно риторический вопрос, или, точее говоря, вопросик, — несомненно, заключающий в себе не только ответ на самоё себя, но также и на все прочие (так называемые) человеческие вопросы... И в самом деле, до боли знакомая картина: «начинающий копозитор», он не уверен в себе, он ищет поддержки, оценки, признания со стороны — и кого? — профессионалов..., людей, которые (как ему кажется) куда как больше понимают, знают и значат в своём деле... Из века в век, из тысячелетия в тысячелетие повторяется эта навязчивая отрыжка коллективного сознания, исправно вербующая из числа ярких талантов, людей особых и отдельных — всё новых членов клана, старательно обтёсанных, обшкуренных и подчищенных под все стандартные стандарты новой профессиональной «профессии». — ...A-а-аmen...
Кажется, только что я назвал некую дату..., октябрь 1894 года... Именно с этого момента и начинает свой отсчёт — пятнадцатилетний «ученический» период в жизни Альбера Русселя. И это вовсе не оговорка. Именно столько (в общей сложности — 15 лет) занимает у него освоение «профессии: музыканта, композитора и педагога». На первый взгляд, эта цифра ошеломляет, если представить себе офицера двадцати пяти лет от роду, бросившего службу, чтобы затем..., ещё пятнадцать лет учиться совсем другому делу, причём, достаточно сомнительному с бюргерской точки зрения...
По всей видимости, здесь в историю вмешалось то ли провидение, то ли удача, то ли какая-то иная случайность..., потому что мсье Косзюль, сам того не подозревая, направил Русселя — прямо и в точности по его дороге, от станции к станции — на всю жизнь. Любо-дорого было бы взглянуть на путевой лист. Второй на этом маршруте остановкой стал упомянутый выше мэтр Эже́н Жигу́, а третья и, пожалуй, самая существенная (хотя и не конечная) показалась из-за поворота — спустя ещё четыре года. Разумеется, речь здесь идёт о недавно открывшейся в Париже «Schola cantorum», ярко-консервативном учебном заведении, поставившем своей целью (ни много, ни мало) — нарушить постылую монополию Консерватории & Академии, заняв место единственной альтернативы засушенной бюрократической системе музыкального образования.[комм. 6] Поистине, это было настоящее место для Русселя. В 1898 году, прекрасно оснащённый четырьмя годами обучения у мэтра Жигу́, Руссель поступил прямиком в «Школу канторум» — в класс полифонии, оркестровки и свободного сочинения Венсана д’Энди, одного из основателей и бессменного руководителя этого заведения на протяжении почти сорока лет. Пожалуй, более точного попадания было бы трудно и примыслить. Венсан д’Энди (немного позднее по прозвищу «мандарин») в те времена возглавлял активное течение «обновленцев» (или «цукунфистов») в парижской музыкальной жизни. Маститый композитор-цукунфист вагнеровского направления, видный дирижёр и организатор музыкальной жизни Франции, в качестве друга и соратника — он был незаменим. Сходство вкусов, приоритетов и характеров, и главное — личная приязнь между Русселем и его новым учителем завершила дело. Альянс был заключён..., и эта станция оказалась уже — очень надолго. Венсан д’Энди, достаточно скоро убедившись в прекрасном характере и основательных познаниях нового студента (прежде всего, в области полифонии, — спасибо мэтру Жигу́), без особого промедления назначил его своим ассистентом, а затем, по окончании основного курса Schola cantorum, — и вовсе предложил ему руководить классом контрапункта и фуги. Таким образом, менее чем через пять лет, окончив школу по классу полифонии, уже с 1902 года Альбер Руссель и сам начинает преподавать в ней курс полифонии, одновременно продолжая учиться у Венсана д’Энди по другим предметам — вплоть до 1908 года. Одновременно педагог и ученик..., старая-старая-знакомая-знакомая смесь, с которой приходится сталкиваться на своём пути едва ли не каждому студиозусу.[комм. 7]
Schola cantorum (даже если судить по одному названию или замыслу «создателя») была задумана как почти религиозное и почти схоластическое учебное музыкальное заведение, реставрирующее ветхие (возникшие ещё до средневековья) традиции профессиональной музыки, веками существовавшей (прежде всего) как богослужебная или духовная ветвь искусства — сугубо служебного и вспомогательного по своим целям и применению. И здесь нет ни малейшего преувеличения. Прежде всего, Схола канторум находилась под патронатом Католического института. Именно так, под патронатом, — и это вовсе не пустая фраза..., поскольку патронат был вполне настоящим способом организации, включая в себя «даже» программы обучения и финансирования: общего и специального. И тем не менее, ничуть не вписываясь в предложенные своим схоластическим названием рамки, схола представляла собой особенное явление на музыкальной карте Франции начала XX века. С одной стороны, в рядах музыкальных радикалов и молодёжи она неизбежным образом имела репутацию оплота махрового консерватизма и возврата к слишком старым традициям. Само собой, главной виной тому была — программа и пантеон местных авторитетов. Всё обучение в школе крутилось в основном вокруг старой & старинной церковной музыки, амвросианского и грегорианского хорала, техники старой полифонии (превыше всех, конечно же, на примере наследия Палестрины, Шютца, Баха и Генделя, а также некоторых «особо допущенных» французских мастеров, таких как Люлли, Рамо и Куперен). Дальше, впрочем, в дело вмешивался пресловутый «персональный фактор» в лице Венсана д’Энди, многолетнего и бессменного главы школы канторов. Ярый вагнерист и цукунфист, один из вернейших учеников и последователей Цезаря (Франка), разумеется, он не мог обойти вниманием своих кумиров вместе с их пристрастиями и «учениями». Соответствующим образом рекрутировался и преподавательский персонал этой «новой старой» школы, в основном из числа школы Нидермейера и того же Франка, в основном — приятелей и знакомых Венсана д’Энди. Понятно, что и (будущему) профессору полифонии, каковым в скорости сделался Альбер Руссель, отводилась почётная роль верного проводника «идей строгого стиля» и церковных канонов старого письма.
— Казалось бы, можно ли себе представить что́-нибудь более консервативное, ветхое и сухое, чем подобная программа? Нечто среднее между гербарием и анатомическим театром... И всё же, затея выстрелила: уже к началу 1900-х годов строгая и почти церковная Schola cantorum неожиданно становится действительным противовесом почти загнившей бюрократической Академии музыки и омертвелой, ретроградной системе обучения, царившей в стенах парижской консерватории. Пожалуй, последний тезис не требует ни аргументов, ни доказательств, вполне довольно будет назвать всего два имени... (хотя и этого, право слово, делать совсем не хочется). — Уже за первый десяток лет существования Школы канторов, из её недр, получив непригараемую профессиональную базу, вышли такие дерзкие музыканты-экспериментаторы и авангардисты первого ряда, взрывавшие устои современного искусства, как Эрик Сати и Эдгар Варез. И (между прочим говоря) оба только что названных музыканта изучали курс контрапункта и полифонии — именно там, в классе профессора Альбера Русселя, на долгие годы сохранив о нём добрую память и такое же отношение.[3]
И здесь следует торжественный вывод. Понятно, что главным коньком Schola cantorum (вне всякого сравнения с засушенной & надушенной консерваторией) в этом деле самым неожиданным образом оказался — остро-индивидуальный подход к каждому студенту. Ровный, выдержанный и неизменно внимательный характер Альбера Русселя как нельзя более подходил именно для такой: вдумчивой и глубоко-личной преподавательской работы с яркими творческими личностями, которые не смогли вписаться в стандартную систему, производившую музыкальные консервы. Достаточно только намекнуть, что тот же Эрик Сати (между прочим, «ученик» Русселя на протяжении двух лет) был не только старше своего педагога, но и был на тот момент (по сути) его «учителем» или музыкальным «отцом», во многом определившим творческий стиль своего профессора. — В течение двенадцати лет (практически до начала Первой мировой войны) Руссель был ведущим педагогом Schola cantorum по истории и теории полифонического искусства, с завидной регулярностью сталкиваясь с «особыми», сложными и нестандартными «случаями».
Разумеется, нельзя говорить, будто все «школьные ученики» и в самом деле могли себя считать учениками или последователями своего профессора. Однако (при том) нельзя обойти молчанием, что из нестрогого класса строгого контрапункта Альбера Русселя вышли такие (с одной стороны) необычные и (с другой стороны) значительные композиторы, как уже несколько раз упомянутый всуе Эрик Сати, а также Эдгар Варез..., а ещё, не к столу будь помянуты, Поль Ле Флем, Алексис Ролан Манюэль, Ги де Лионкур и Марсель Орбан. Кроме того, у него учились такие известные и маститые (впоследствии) зарубежные музыканты, как чешские композиторы Богуслав Мартину и Юлия Рейсерова, румын Стан Голестан, уругваец Альфонсо Брока, итальянец Чезаре Бреро и..., пожалуй, здесь будет уместно прервать это мало’осмысленное перечисление.[2]
Скажу лишь главное: едва ли не все (в один голос), как во время обучения, так и много позже, поминали своего полифонического профессора исключительно добрым словом. Удивительно, до тошноты. — Даже Эрик Сати..., этот вечно ехидный Эрик Сати (сорокалетний ученик, бывший старше своего педагога на три года) находил в своём нехорошем лексиконе, в основном — добрые слова в адрес прежнего учителя, впрочем, изрядно сдобренные контра’пунктом... Временами он любил приговаривать, имитируя аккуратный тон Русселя, его излюбленную фразу — поворачивая в руках (красный) карандаш во время проверки домашних заданий: «...композитору, как и хирургу, необходимо всегда иметь при себе Инструментарий Точной Гармонии...»[6] Ту же запись (с педантичной подписью русселева авторства) мы находим и в записных книжках «примерного ученика» школы канторов. Впрочем, и спустя десять лет после окончания (очень строгого) курса контрапункта в своих статьях и заметках Эрик Сати не раз находил повод не без удовольствия отметить, что «...в течение трёх лет я работал (над собой) с Альбером Русселем, другом которого, смею заметить, остаюсь и до сих пор...»[7] Безусловно, по манере себя держать, но прежде всего, по своим душевным и волевым качествам Руссель разительно отличался от обычной парижской богемы и артистических кругов. — В конце концов, это стало настолько хорошей маркой..., «быть другом Русселя», что выглядело едва ли не рекомендацией..., — самому себе.
Вне всяких сомнений, отношения Сати и Русселя (точнее говоря, их тонкая, но жёсткая подкладка, скрытая от большинства глаз) — тема для отдельной по́вести, — повести́ которую на этой маленькой странице было бы — слишком шикарным недомыслием..., с моей стороны. — А потому позволю себе только наметить (маленьким пунктиром) основные стежки этой истории, так сказать, белые нитки, видимые с двух сторон (и даже без очков).
Этот странный ученик, уже давно имевший в Париже славу самого эксцентричного и отвязанного чудака, крайне бестолкового и неуживчивого композитора-самоучки, — кажется, дважды за свою жизнь он пытался чему-то научиться в стенах Консерватории — и оба раза с ожесточением бросал это нестоящее дело, сохранив до конца жизни стойкое неприятие ко всякой системе, муштре или школе... Долой казарму! К чёрту гербарий! — И вдруг, в возрасте (почти) сорока лет — он возникает на пороге кабинета Русселя..., преподающего контра’пункт и прочую полу’фонию. Едва ли не самый нестрогий «композитор музыки» в истории последней европейской цивилизации — приходит учиться в школу, едва ли не самую строгую, по своим методам и декларациям... — Великий Парсье и Римский Папа Эрик Сати Первый — в роли смиренного ученика профессии скромного кантора... очень странная картина. Узнав, что Сати собрался в Schola cantorum, его старинный друг-приятель Клод (Де’бюсси) — даже в лице переменился и весь побагровел, очередной бедняга с апоплексическими наклонностями. Казалось бы, он сам потратил немало слов и букв (и недавно, и подавно, и давно), чтобы убедить Эрика сделаться хотя бы чуть-чуть больше «профессионалом», говоря проще — поучиться ремеслу. Но выдумать этакий кульбит..., — в школу канторов?! — в конце концов, надоело, что за очередная идиотская выходка!? Едва не битый час Клод орал (больше по привычке), чтобы Сати не делал этой очевидной глупости. Сорок лет, подумать только! — сорок лет!..., тебе поздно менять кожу!.. — «Тем лучше, — скупо ответил Эрик, — если я сломаюсь, значит, у меня ничего не было внутри».[6]
К тому же, скажем прямо: дело несколько осложнялось тем, что Сати не слишком-то знал своего будущего учителя, но зато будущий учитель — отлично знал этого странного человека, который выдумал поучиться..., — и не чему-нибудь, а «строгому стилю». Практически вся первая встреча Русселя и Сати оказалась посвящена всего одному вопросу..., разумеется, без ответа. С внезапным упорством и даже какой-то горячностью «учитель» постарался отговорить «ученика» — начинать чему-то учиться... Видимо, — слегка усмехнулся Сати, — это был с его стороны типичный контра-пункт, разумеется, выполненный в безупречно строгом стиле. — Да-с, это был несомненный поступок офицера..., и джентльмена, с его стороны. Отчего-то взволнованно прохаживаясь по классу, Руссель прочитал своему визави длинную (отчасти, худощавую и лысоватую), но чрезвычайно прочувствованную лекцию. И прежде всего, он начал с са́мого главного: «...Вы и так уже профессиональный музыкант. Вы сделали себя сами, и результат оказался более чем убедительным. У Вас уже сформировался свой особый стиль и свои средства. Те Ваши опубликованные работы, которые я видел, ясно показывают, что Вам решительно нечему учиться. Я не вижу, чего бы Вы ещё могли достигнуть посредством академических занятий. Я думаю, не следует напрасно рисковать и портить — всё то́ необыкновенное и ни на что не похожее, что Вы уже имеете»...[6] Однако «ученик» был непреклонен и упрям, не без удовольствия глядя на (бесполезные, но такие милые) усилия своего будущего учителя. — Учи, и дело с концом... Но легко сказать: «учи»... Это у Русселя было вполне достаточно «возможностей» (как в ассигнациях, так и в банке), чтобы он мог себе позволить учиться... пять, десять и даже пятнадцать лет. Без особого стеснения. Совсем не то — у Сати. Вечно бедный родственник, временами почти нищий..., не сытый, но пьяный..., или напротив, — да, определённо, он периодически испытывал стеснение. Как минимум — в этом вопросе. Но как раз здесь (как это ни странно предположить) в дело вмешался Господь Бог..., — прошу прощения, я хотел сказать — высокопревосходительный куратор Школы канторов, который (едва ли не впервые в жизни Эрика) помог ему кое-какой мелочью. — ... (Для него..., мелочью, разумеется, не для Эрика). Винсенту д’Энди, заявление Заявление (заранее «обсужде́нное» и «проговоре́нное», с глазу на глаз в кабинете директора) было благосклонно «принято» и «рассмотрено»..., а затем отослано — куда следует (точнее говоря, наверх и вбок, в то благословенное место, где находились патроны и кураторы). — Вот так, в конечном счёте, и случилось, строго говоря, что курс такого же контрапункта в классе Альбера Русселя стал — чисто церковным меро’приятием..., чтобы не сказать: внутри(церковным). — В течение трёх лет этот неизлечимый скептик, киник и атеист Эрик Сати проходил обучение в школе канторов — исключительно за счёт попечительского совета Католического Института Франции вообще и Парижа — в частности...[6] Потому что..., как любил приговаривать господин Альбер(т), «...композитору, как и хирургу, необходимо всегда иметь при себе Инструментарий Точной Гармонии...»[6] Спустя два (с лишним, — как всегда, с лишним) десятка лет, когда ученик уже умер..., а сам Руссель находился на пороге своего шестидесятилетия, — он вспоминал об этих событиях в нескольких словах, скупых и точных. Как это и полагается..., после всего. «...Когда однажды он сообщил мне о своём намерении поступить в Скола, я попытался его отговорить. Сати владел ремеслом. Его произведения, уже опубликованные, доказывали мне, что учить его нечему. Я не видел выгод, которые он мог бы извлечь из теоретических и схоластических занятий. Тем не менее, он настаивал. Он был очень прилежным и усердным учеником. Он аккуратно представлял мне все домашние задания, тщательно переписанные и снабжённые заголовками, сделанными красными чернилами. Он был поразительным музыкантом...» [8] Пожалуй, в этом месте следовало бы (прежде всего) поклониться, сделать нечто вроде небольшого реверанса и — поблагодарить за цитату. Вернее сказать, за эти слова, за спиной которых стоя́ло нечто несравненно большее, чем с передней стороны...
Несмотря на красивый (почти безупречный) тон, как всегда, делающий честь поразительному мсье Русселю, всё-таки скажем прямо: он ошибался в своём ученике — и говорил скорее не о Сати, но о самом себе, слегка приоткрывая главную дверь своих интересов (из которой слегка дуло, старым обычаем). «Прилежный и усердный», сделавший над собой несомненное усилие (ради школы, строгой и точной), Сати если и был «поразительным музыкантом», то исключительно — во вторую или даже третью очередь. Как и для большинства «музыкантов», будь они любители или, тем более, профессионалы, — всегда оставалась глубоко закрытой и непонятной та, самая существенная часть намерений и результатов Эрика, которую (ради краткости) можно было бы назвать «разрывом», громадным разрывом между внешней частью дела и — его внутренней начинкой. Едва ли не всё, что он делал — было «слишком оригинально» и производило впечатление то ли странной выходки, то ли нелепого желания выделиться. Как максимум, нормальное понимание этого факта не шло дальше трафаретного набора слов: юмор, эксцентрика или гротеск. Между тем, называя себя (не без особой тавтологической ехидности) «композитором музыки», Сати — по своему существу — таковым не являлся (в отличие от того же Русселя). Пожалуй, точнее и ярче всего это понял и высказал один из его современников, Луи Лалуа — по иронии судьбы вовсе не друг, но скорее противник, отношения с которым у Сати были буквально — на ножах. Спустя три года после смерти Сати он (музыкальный чиновник и респектабельный востоковед) высказался о том предмете, который представлял собой этот поразительный музыкант. «...Ибо написано в «Книге пути»: [комм. 9] тридцать спиц образуют колесо повозки, но только пустота между ними делает движение возможным. Лепят кувшин из глины, но используют всегда пустоту кувшина..., пробивают двери и окна, но только их пустота даёт комнате жизнь и свет. И так во всём, ибо то, что существует – есть достижение и польза, но только то, что не существует – даёт возможность и пользы, и достижения. Музыка Сати – музыка полезная для всех, кто её не может найти здесь. Она лишена поверхности, в ней насквозь видны мысли...»[6]
Конечно же, Альбер Руссель, невзирая на всю свою исключительную оригинальность, а также — исключительные качества (душевные и моральные), был обитателем совсем другого этажа искусств и идей... Говоря без обиняков, он находился значительно ниже. И, как следствие, значительно устойчивее — своего (сугубо временного) «ученика». Сделаться «настоящим композитором» всегда оставалось для него Высоким Ориентиром и Главной Целью, к достижению которой он шёл терпеливо и упорно. Вечный ученик, он непрерывно совершенствовался в технике вожделенного ремесла, собирая со всех сторон (буквально по крупинкам) собственную (будущую) индивидуальность. И всё же, несмотря на эту заведомую ограниченность, он не мог не ощутить в своём странном «ученике» — родную душу. Сам очень странный (хотя и композитор), внутренним камертоном он откликался на всякую отдельную личность. Тем более, лицом к лицу с таким особенным случаем как — Сати. Два инвалида детства, оставшиеся таковыми до конца своих дней..., — они навсегда были соединены общей группой крови. И как бы велика ни была между ними дистанция целей и уровней, до конца своих дней они сохранили друг к другу особенное отношение. Как могли...
Само собой, вечно колючему, желчному и острому на язык Эрику это дело (на первый взгляд такое несложное) давалось не так-то легко. Хотя особость и «даже» родство Русселя он признавал всегда, и даже более того: принуждал себя не забывать, всякий раз подчёркивая двойной чертой — внутреннюю близость: одну или другую. Но по крайней мере, одно превосходство Русселя над прочими профессионалами Сати признавал всегда. Парадоксальным образом, потратив почти два десятка лет на обучение школьной схоластике..., в конце концов, и сам сделавшись преподавателем (и профессором) той же са́мой схоластики, — каким-то непостижимым образом, Руссель так и не превратился в профессионала, не стал частью клана, не сделался ментором, надзирателем, «пионом»... Поистине, это было странно, а временами даже — ненормально. Как в пыльном зеркале, в полутёмном коридоре — внезапно увидев собственное отражение. Смутное. Бледное. Почти неузнаваемое. Но всё-равно — своё. Собственное. Однако эта совершенная неспособность — с другой стороны обращалась в собственную противоположность. И лицо становилось особенным. И ни на кого не похожим. Словно бы когда-то давно..., ещё в раннем детстве — он получил какую-то особенную прививку, не позволявшую ему сделаться «как все»: винтиком машины, частью учреждения, членом клана... Одним из многих.
— А впрочем, оставим... Было бы о чём говорить. Каких-то жалких три года обучения. Редкие занятия: иногда регулярные, иногда прерывающиеся... На жизнь. На мысль. На другие места... — Два странных человека. Не слишком похожих на остальных... И почти три года. Слишком короткий, слишком краткий срок. Особенно сегодня, глядя с высоты нынешней минуты... Вот они здесь, оба. Говорящие неизвестно о чём. Что они могут открыть, сказать, или, тем более, сделать теперь? Для вас, для него, для неё... — Странный учитель... Ещё более странный ученик. Вот, собственно, и всё, что можно было бы высосать из этого пальца, — далеко не са́мого красивого и длинного на свете. Альберу Русселю, напоминание о себе — О-о-о..., этот пресловутый Инструментарий Точной Гармонии..., — не слишком ли много, в итоге, приходится сделать, выдержать, перетерпеть, чтобы, наконец, иметь его при себе. Как и полагается всякому «настоящему композитору»..., или хирургу.
Впрочем, в итоге..., всё как будто получилось. — 15 июня 1908 года Эрик Сати, этакий «маститый копозитор» в возрасте сорока двух лет — получил свой первый в жизни диплом об окончании учебного заведения: школы канторов.[комм. 10] Пройдя в полном объёме курс достаточно строгого письма, он стал записным контрапунктистом, за которым отныне оффициально было закреплено это «почётное право» — сочинять музыку... Потому что, после всего, этот странный Эрик «...отвечал всем необходимым условиям, чтобы иметь право посвятить себя исключительно занятиям композицией...» — Браво, браво..., спустя двадцать лет после сочинения Гимнопедий и Гноссиенн, наконец-то, Сати получил такое право. В письменном виде.[6]
Ради справедливости всё же следует заметить (в скобках), что всё это время Руссель (далеко) не только учился и учил. С первых дней своего сошествия на берег ..., или переезда в Париж — он сочинял: по-прежнему неуклонно и упорно, как настоящий офицер. Не опасаясь преувеличения, сегодня можно выразиться примерно так: его способ сочинительства (типично любительский и даже графо’меломанский) с са́мого начала отличается неким резко-методическим, квадратно-гнездовым характером, отдалённо напоминающим математическую задачку по заполнению числового ряда.[комм. 11] Желая непременно освоить новую для себя профессию (не то «terra incognito», не то нечто не то), Руссель словно бы пожелал достигнуть поставленной цели во всей возможной полноте, шаг за шагом осваивая все (я повторяю: все!) существующие (а также и воображаемые) жанры, составы, ансамбли, способы письма, форматы и «даже» стили... Впрочем, он не слишком скуп: многие сочинения, говоря к его чести, так и не выходят за рамки внутреннего процесса обучения. Выждав (видимо, ради приличия) некоторое время после их написания, Руссель отправлял их напрямую — к праотцам, прямиком на канонерской лодке «Стикс». А в некоторых (вероятно, исключительных) случаях подобная завидная участь постигала даже часть обнародованных произведений. Чтобы не быть голословным, так случилось с Квинтетом для струнных и валторны, исполненным в 1901 году в зале Национального музыкального общества, а год спустя той же доро́гой (несмотря на вполне благожелательные отзывы критики) пошла и Соната для скрипки и фортепиано. Ещё через два года было исполнено первое оркестровое произведение Русселя — симфоническая прелюдия «Воскресенье» (по роману Толстого писателя, разумеется). Признав эту вещь неудачной, автор закинул рукопись в дальний угол и впредь считал за верное, что среди его опусов такового — никогда не было.[2] Начиная с 1909 года преподавательская (и одновременно ученическая) деятельность Русселя в школе канторов начинает постепенно сокращаться. Он всё чаще отлучается по разным нуждам и на разные сроки, всякий раз испрашивая аккуратного дозволения у господина директора и оставляя на своём месте «замену». Чаще всего это (его же ученик) — Поль Ле Флем, молодой композитор-академист (впрочем, не замедливший вскоре сделаться старым). Пожалуй, самый длинный из таких отпусков — состоялся осенью 1909 года, когда Руссель осуществил свою давнюю и давно откладываемую мечту — путешествие по Индии. Ещё будучи молодым офицером он побывал в нескольких портовых городах — и хорошо понял, что настоящая Индия находится где-то там, в глубине материка... Теперь он решил вернуться, чтобы познать эту древнюю загадочную цивилизацию. Впрочем, и здесь дело не обошлось без некоторых странностей... Начать с того, что путешествие в Индию, эту далеко не стерильную (мягко говоря) страну, Руссель решил некоторым образом совместить... — с неким подобием свадебного путешествия. Если я выразился не вполне ясно, повторю ещё раз... Этот (вполне) сорокалетний господин решил совершить путешествие по внутренним провинциям Индии — не с кем-нибудь, но с молодой женой. Причём, маршрут поездки (со всеми контра’пунктами, подголосками, риспостами и разделами) вполне в духе Schola cantorum был самым тщательным образом составлен, продуман и расписан. Более всего Русселя интересовали древнейшие индийские города, расположенные — в глубине страны, иногда отстоявшие друг от друга на сотни километров. Пожалуй, это был именно тот случай, когда некий автор, посчитав, что «инструментарий точной гармонии» наконец-то освоен — чисто и подробно, а потому отправился за новыми впечатлениями, стилями и открытиями, которые теперь должны были наполнить его искусство живой силой жизни: экзотической и пряной.
К чести автора нужно сказать, что его план вполне удался. Привезённые из Индии записи, эскизы и впечатления (почти сразу по возвращению во Францию) выливаются в несколько сочинений, весьма примечательных для картины обновления европейской музыки XX века. Первое из них — симфонический триптих «Вызов видений» для солистов, хора и оркестра. Впервые исполненный в Париже 18 мая 1912 года, он удивил слушателей и критиков своей непривычно яркой экзотической краской в сочетании с господствовавшим тогда импрессионистическим стилем. В этом триптихе (перечисляя по порядку) Руссель запечатлел в звуке мрачноватую роскошь подземных храмов Эллоры, красоты залитых солнцем беломраморных дворцов в Джайпуре, в качестве финала поставив песнь приветствия небу молодого факира на берегу Ганга в Бенаресе.[2] — Успех премьеры был впечатляющим. Шикарная и пышная экзотическая музыка (вдобавок, ничуть не новаторская на тот момент, скорее — напротив, уже слегка переспевшая, словно праздничная груша) Русселя сразу и бесповоротно поставила его в ряд первых лиц импрессионизма, — закономерно начинавшийся с имён Дебюсси и Равеля. И «даже» критика в один голос признала его одним из лидеров современной французской музыки. Спустя небольшой год — и второй успех, ещё более шумный. На сей раз речь шла о произведении сценическом: разумеется, без балета во Франции начала XX века нельзя было и надеяться на громкую и прочную славу. Все композиторы первого ряда: Дебюсси, Равель, Стравинский и даже Сати — не избежали этой участи, слегка печальной. Для Альбер(т)а Русселя такой точкой отсчёта стал одноактный балет-пантомима «Пир паука», поставленный 3 апреля 1913 года в парижском Театре Искусств. — Успех был единодушным и подавляющим. Вместо запланированных восьми спектаклей, до конца сезона балет прошёл на сцене двадцать два раза. — На волне популярности (сдувая с неё пену) Руссель скомпоновал из партитуры спектакля концертную симфоническую сюиту, которая быстро стала популярной у довоенной публики. И хотя за последующий десяток лет блеск этой музыки слегка потускнел, всё же до сих пор она занимает почётное место в репертуаре оркестров мира наряду с «Фавном» Дебюсси, «Учеником чародея» Дюка и «Вальсом» Равеля. Благодаря «Пиру паука» и «Вызову видений» в два последних предвоенных года Руссель (минуя все положенные стулья на галёрке или приставные табуретки) смог занять, пожалуй, третье почётное место среди виднейших композиторов-импрессионистов, ставших к тому моменту — лицом французской музыки. Крупный парижский музыкальный издатель Жак Дюран (считавшийся записным «специалистом» по этому стилю) приступил к изданию серии его сочинений наряду с музыкой Равеля, д’Энди, Дебюсси и Шмита.[11] Казалось, теперь слава должна была идти только по восходящей линии. И вот, реальное тому подтверждение: в конце 1913 года Руссель получил заказ от парижской Grand Opera (между прочим, в лице уже упомянутого выше месье Луи Лалуа) на большую оперу по любому интересному для него либретто.[комм. 12] Без лишних колебаний Руссель решает продолжать ту тему, которая уже принесла первые плоды. В качестве основы сюжета он снова выбрал экзотическую индийскую тему — легенду XIII века о Падмавати, верной жене Ратан-сена. Однако времени на реализацию этого замысла почти не осталось. Всего только полгода Русселю удалось проработать над своей первой (разумеется, очень красивой и даже роскошной) оперой.
— К моменту убийства эрцгерцога Фердинанда (в захолустном городке Сараево) Русселю уже исполнилось добрых сорок пять, — впрочем, это маленькое обстоятельство ничуть не мешало ему оставаться военнообязанным. Правда, попасть на фронт с первого разу ему не удалось: призывная комиссия не приняла его в действующую армию (по состоянию здоровья). И всё же порыв композиторского патриотизма дерзким обходным манёвром превозмогает все препятствия. Поступив через одного своего знакомого волонтёром в Красный Крест, Руссель воспользовался тем обстоятельством, что водить автомобиль в его-то времена умеют лишь немногие..., — люди, как правило, состоятельные и самостоятельные. Предложив свои услуги, в итоге почти два года он проработал водителем скорой помощи в прифронтовой полосе. Даже и теперь, в этом деле (весьма далёком от музыки), они с Морисом Равелем снова становятся в один ряд или, вернее сказать, шеренгу (вторым и третьим номером, не так ли): уже в конце октября 1914 года и Морис Равель, также забракованный медиками, вступил добровольцем в автомобильный полк и прослужил шофёром грузовика — вплоть до 1918 года.[11] Пожалуй, из всей высшей номенклатуры господ-импрессионистов только херр Дебюсси в полной мере избежал этой участи.[комм. 13]
Впрочем, служба «второго сорта» в Красном Кресте всерьёз тяготила Русселя, а потому он всячески старался найти окольные пути поближе к линии фронта, в действующую армию. Наконец, спустя полтора года и эта цель была достигнута, ему всё же удалось перевестись в действующую артиллерию офицером транспортной службы. В чине лейтенанта Руссель принял участие в военных действиях (1916—1917 года) в Шампани, на Сомме и под Верденом. Но затем, уже в последний год войны (точнее говоря, это случилось в январе 1918-го) Альбера Русселя всё же окончательно комиссовали из армии — точно так же, как и Равеля, по болезни, не на шутку обострившейся в действующей армии. После демобилизации Русселю пришлось лечиться долго и упорно (не менее упорно, чем он добивался попасть на фронт), восстанавливая подорванное войной здоровье. Только спустя долгих полгода, к лету 1918 года Руссель кое-как вернулся из госпитальных путешествий к нормальной жизни, чтобы снова (уже совсем в другой стране и в другие времена) взяться за прерванное сочинение оперы «Падмавати». Теперь он отчётливо понимает: времени жизни осталось не так много, необходимо сосредоточиться на главном, ради чего, собственно говоря, и были все предыдущие годы учения, влияния и накопления. Купив в Нормандии загородный дом, после 1920 года Руссель гораздо меньше и реже бывал в Париже: имя и связи уже позволяли ему сделаться слегка отшельником. Наконец, основным его делом (и в самом деле) становится сочинение музыки, по-прежнему — разнообразной, во всех возможных жанрах и формах. — К преподавательской работе в Schola cantorum Руссель так больше не вернулся, несмотря на настойчивые просьбы мсье Венсана «ещё раз подумать об этом предмете»..., однако полностью с былой педагогикой не порвал. По-прежнему он был отзывчив на любую просьбу, и не отказывал в помощи обращавшимся к нему молодым музыкантам, — в том числе, если требовалось его участие и консультация в вопросах полифонии или композиции. Ещё на фронте Руссель постоянно возвращался мыслями к брошенной им опере «Падмавати». Такая шикарная..., такая экзотическая и насквозь довоенная..., — в самом деле, понадобится ли кому-нибудь после невероятно тяжёлых лет войны эта ветхая восточная сказка о любви и смерти?.. И где? — в той же старой как этот мир парижской Гранд Опера?..
…Всё это наверняка станет «чем-то довоенным», то есть отделённым от нашего сегодня стеной, настоящей стеной… Ведь нужно будет начинать жить заново, с новым отношением к жизни, это не означает, что всё происходящее до войны будет забыто, но всё, что будет делаться после войны, станет другим. <…> Моя Падмавати ещё достаточно сильна, чтобы вынести испытание ещё двух-трёх лет ожидания (и каких лет!), прежде чем она встретится с публикой.[2] Руссель слегка ошибся сроками... «Падмавати» пришлось дожидаться этой встречи не два-три, а ещё — целых семь лет. Впрочем, не последнюю роль в этом терпеливом и успешном ожидании сыграл всё тот же старый знакомец, Луи Лалуа — бывший ученик Русселя по школе канторов, автор либретто оперы «Падмавати» и (по «совместительству») — неплохая административная шишка в Гранд Опера... — Но тем более заслуженным и долгожданным успехом стала премьера..., наконец, состоявшаяся 1 июня 1923 года. Отныне Руссель стал очевидным композитором-тяжеловесом, сделав весомую заявку на вступление в пантеон..., или хотя бы Академию. — Впрочем, среди всеобщего хора восторгов раздавались отдельные критические голоса. Весьма показателен в этом смысле был отзыв Поля Дюка (соратника и коллеги) на премьеру оперы «Падмавати». Отдав должное высоким достоинствам музыки и чрезвычайной (поистине восточной) роскоши постановки, Дюка всё же счёл важным указать на некоторое злоупотребление внешними эффектами при недостаточно рельефной проработке характеров основных действующих лиц спектакля.[3] Значительно злее высказался об этом предмете Эрик Сати, обозвав либретто оперы хламом и макулатурой, недостойной даже скуки... (правда, про милейшего Русселя он не проронил в тот раз — ни слова, молчок).[6] Итак, поначалу я довольно робко наблюдал, что наши критики не всегда настолько разумны и последовательны, как бы им это следовало на своём месте. Недавно я нашёл тому очередной пример в поэме ( ?! ) «Падмавати» г-на Лу-и Ла-луа, знаменитого критика, которым мы с каждым годом восхищаемся всё сильнее и сильнее. — И в самом деле, Сати ничего & ничуть не преувеличил: даже при беглом взгляде, эту китайскую поэму (?!) «Падмавати» так и подмывало подмахнуть и затем подпихнуть — куда-нибудь подальше. Говоря по существу, творение Русселя, каким бы оно ни было замечательным, с самого начала было обречено на жизнь искусства по прозвищу «вторые руки».
Либретто оперы: ходульное, декоративное, условное и в худшем смысле театральное, стало самым слабым местом большого спектакля (хотя мы отлично понимаем..., без него, увы, навряд ли состоялась бы постановка на этой Большой сцене). По своему уровню домашняя поделка благоверного (индийского) китаиста Лалуа скорее напоминала мыльно-развлекательные балеты Пуни, Минкуса, Адана и прочую придворно-экзотическую дребедень, ещё при своём появлении устаревшую на добрую сотню лет. И всё же некая приятная экзотичность, монолитная сила и оригинальность образного строя «Падмавати» побеждала сомнения критики и, в первую очередь — публики. При крайней сложности и дороговизне постановки, эту большую и почти помпезную оперу (не без дружеской направляющей руки Луи Лалуа, разумеется) возобновляли на сцене в сезонах 1925, 1927 и 1931 годов. И она шла с прежним (отчасти, административно-хозяйственным) успехом, постепенно покрываясь патиной бронзы и завоёвывая для стареющего месье Русселя всё большее число поклонников (его) таланта. Хотя, к слову сказать, кроме Большой парижской оперы спектакль этот более нигде не был поставлен. В 1938 году французский музыковед и (даже) копоситор Артюр Оэре в своей книге о Русселе, отметив этот огорчительный факт, одновременно посетовал на крайне малую известность экзотического спектакля за пределами Франции... «...не только потому, что она вместе с «Антигоной» Онеггера и «Христофором Колумбом» Мийо относится к числу наиболее знаменательных творений нашего театра после войны, но главное, ещё и потому, что она обладает в самой высокой степени теми качествами, которые, по какой-то старой и дурной традиции, не признают за французской музыкой: она отличается силой и глубиной»...[13] Однако (приведённая одним абзацем выше) про’странная цитата из статьи Эрика Сати 1923 года («Поговорим тихонечко»), написанной вскоре после премьеры оперы «Падмавати», куда более показательна, пожалуй, совсем с другой точки зрения. И даже — с двух. Во всём этом тексте, как всегда тонком, желчном и полном жёстких «лягновений» по самым разным адресам, — ни единым словом не упоминается о мсье Русселе. Поначалу даже может показаться, что речь (не) идёт о каком-то покойнике (о котором либо хорошо, либо никак), или эту оперу (поэму-!?) чиновник Ла-лу-а сочинил — в полном одиночестве, вовсе не прибегая к «помощи» какого-то постороннего копозитора. И всё же, сразу поставлю жирную точку: дело здесь далеко не только в том (сакраментальном) желании не задеть или не обидеть близкого человека. Прежде всего, в этой «мёртвой» зоне умолчания скрывается мысль, чтобы не сказать «идея»: прямая и точная. Как жердь. — И слегка зашифрованная. Как ребус. Ещё один ребус, из числа тех, которые Сати особенно полюбил загадывать в последние годы своей жизни. Ещё один странный и короткий ребус, ответом на который послужила бы сама эта опера с нелепым названием «Падмавати», которое так и подмывает петь в кровати... Отточенно-острая и одновременно интуитивно-небрежная эскапада Сати словно бы напрямую указывает на удивительный комплекс несовпадения, заложенный внутри крупнейшего сочинения этого странного копозитора. — Поставив перед собой задачу квадратно-гнездовым образом освоить музыку как ремесло, Руссель так и не стал, не смог стать настоящим, неподдельным профессионалом. Частью клана. Ремесленником, уверенным в себе и своём месте. — Всю эту грязную часть, которая его как будто не касалась, он отодвинул от себя, полностью доверив другим людям. Тем, которые (в отличие от него) были профессионалами. Частью клана. Ремесленниками, уверенными в себе и своём месте. — Именно потому он, не подвергая ни малейшему сомнению качество или уровень чужого текста, взял за основу своей главной работы столь слабое либретто, фактически, ещё в зародыше угробившее его оперу (бесспорно, значительно более сильную и глубокую, чем по(д)делка китайца Лалуа). Собственно, этот громадный внутренний разрыв и погубил «Падмавати», сделав её межеумочной и нелепой. Будь Руссель чем-то вроде Минкуса или Адана, у этой оперы (балета) был бы шанс остаться в репертуаре как декоративный (почти этнографический) спектакль для развлечения «интуристов» и скучающих зевак. Таких зрелищ полным-полно в любом крупном театре, особенно если он начинается со слова «Гранд». Однако написанное Русселем фатально оторвалось от первоисточника и, как следствие, от пышного и затратного спектакля, глядя на который был виден один Лалуа. И в начале был виден Лалуа, и в конце был виден Лалуа, а музыка («глубокая и сильная», вроде хорошей начинки в плохом пирожке) только мешалась под ногами у нелепого (как всегда) оперного кордебалета, изображавшего восточные гаремы и базары. Сцена царила и подавляла. Казалось бы, только заткни уши — и нет никакого Русселя. Всюду сплошной Лалуа, разодетый индийский китаец под соусом из старика Дебюсси.
Хотя было здесь (между строк) и ещё кое-что, значительно более тонкое, что напрочь ускользнуло из поля зрения любо́го «исследователя». Сейчас скажу, одну минутку... — Разумеется, не так трудно заметить, что в своей «развёрнутой рецензии» на оперу «Подмывати» Сати не отругал и не выскоблил Русселя за его неуместно шикарный «просроченный» импрессионизм. Именно так. Не отругал и не выскоблил... И здесь нет ни одной ошибки. Хотя не было для Сати в эти годы более презренного слова, чем импрессионист. Читай: «последователь»..., и не просто «последователь», а э́того..., — тухлого и просроченного.
Между прочем, того́ са́мого стиля, который (в своё время) был открыт самим Эриком — на целых сорок (с лишним) лет раньше. Находясь ещё в состоянии неприличной молодости... Именно так: открыт, а затем (с невероятным великодушием молодости) — подарен своему случайному приятелю, знакомому из таверны, который сначала по-хозяйски присвоил его открытие, а затем, спустя ещё два десятка лет (по какому-то нелепому стечению обстоятельств) оказался — «Клодом Французским»... Кстати сказать, именно по его стопам и двинулся Альбер Руссель, постоянно искавший свой «новый» стиль. Странная связка. Учитель и его ученик..., не прямой, даже «внучатый»... — Но тем виднее, на фоне (деликатно и прозорливо) умолчанного Русселя тот главный механизм..., та, по существу, пропасть, которая — разделила этих двух странных копозиторов. Сати и Русселя. — Эта едкая мелочность, эта желчь и прямота... Рассуждая о творчестве своего «двоюродного дядюшки», Альбер Руссель всякий раз не мог избавиться от смутного, а временами даже подспудного осязания личной причастности и общности извилистого пути принятий и отказов, — пройденного им на полтора десятка лет позже своего визави, но очевидным образом — по его следам. Слишком велика была личная & личностная разница между этими людьми, чтобы вызвать ощущение точного и неприкрытого соответствия. И всё же эти неотчётливые ощущения Русселя, — пускай не осознанные и не выведенные на уровень чёткого понимания, — всякий раз просвечивают не только между строк, в глубине текста, но и — наверху, прямо на поверхности слов, произнесённых словно бы «неизвестно о ком»..., — то ли имея в виду странности характера Сати, то ли — свои собственные... «...Не решил ли он искать свой путь в диаметрально противоположном направлении потому, что увидел, как другой реализовал в искусстве всё то, что он сам — лишь предчувствовал? Или, быть может, он уже тогда отдавал себе отчёт в том, что следование примеру Дебюсси и погоня за всё усложняющимися гармоническими комплексами у его подражателей неизбежно приведут лишь к бесплодному топтанию на месте...» [14] — Два инвалида..., два особых человека, два странных композитора..., — один из которых всячески культивировал в себе сдержанность, равновесие, благородство, какой-то воображаемый внутренний аристократизм — в абсурдной попытке вернуться в потерянный мир людей, снова стать одним из них... А другой — напротив — всячески проявлял свой экстремальный экстремизм чуть не ежедневно: систематически и в полный рост, не слишком утруждая себя косметическими правилами общежития... В итоге: два мира, две контрастных картины. И если Первый использовал почти всю свою силу ровно на то, чтобы уравновесить её изнутри, то Второй — напротив — оседлал её, пришпорил, да и — бросился чертовским галопом через поля-кусты терновые, не разбирая дорожки: а ну, родимая, давай-давай, поскакали-поехали, куда-никуда, пускай сама вывезет.
Последнее своё (морское) плавание Руссель совершил уже не на восток, как это не раз случалось с ним в прежние времена, а совсем — в обратную сторону, через Атлантику, когда в США состоялась серия его гастрольных концертов. Они имели неплохие сборы, и успех, временами даже — очень шумный... В 1930 году (по заказу вездесущего Сергея Кусевицкого) Руссель написал Третью Симфонию, — предназначенную специально для празднования юбилея Бостонского оркестра. и первое исполнение состоялось в личном присутствии автора, что особенно приятно... Как (до сих пор) отмечают (профессиональные) исследователи, это — одно из сильнейших его произведений, полное силы, энергии, драматизма и остроты. Именно здесь тот стилевой и формальный сплав, который представляет собой творчество Русселя, наконец, достиг некоего состояния оригинальной монолитности и органичности.
Разве только замечу ( в скобках, глубоко в скобках ), что эту симфонию (безусловно, «самую лучшую» из всех симфоний Русселя) точнее всего можно было бы отнести к стилю ... (нет, не вагнеризма и не импрессионизма) неоклассицизма, в прямом смысле слова открытого полтора десятилетия назад — всё тем же несносным Эриком в его странной..., очень странной (не)симфонической (не)драме «Сократ». Кстати сказать, очередной поворот в творчестве Альбера Русселя к этому новому стилю (а ведь это был последний поворот..., а потому — очень важный поворот) наметился в приснопамятном 1925 году. — Да. В том са́мом году, когда он, наконец, умер ..., он..., этот едва ли не самый странный «ученик» школы канторов за все времена ... её ... существования.
Последние полтора года жизни прошли под знаком наступающей болезни. Руссель чувствовал себя всё хуже, временами теряя способность работать и даже общаться. Весной 1937 года по настойчивой рекомендации врачей он отправился на атлантический курорт Руайян, на юго-западе Франции, чтобы там отдохнуть и подлечиться. Однако, увы..., и на этот раз врачи слегка промахнулись. Ценой этой милой осечки стала — всего лишь жизнь. Ещё одна небольшая, но очень странная жизнь. — Спустя месяц после приезда в Руайян сердечные приступы начали последовательно учащаться и усиливаться. 13 августа Руссель был вынужден прервать сочинение своего последнего Трио для духовых (гобоя, кларнета и фагота). Он окончательно слёг. Сдержанно и предельно спокойно, как и всё в своей уходящей жизни, Руссель переносил учащающихся сердечные приступы. — К сожалению, смерть на этот раз не слишком высоко оценила его потрясающую... пожизненную выдержку.
Альбер Руссель, этот 68-летний странный композитор, — как говорят, его смерть от очередного сердечного приступа наступила около четырёх часов дня 23 августа 1937 года, — в приморском городе Руайян, что на юго-западе Франции. По странному стечению обстоятельств он умер в том же 1937 году, что и его ближайшие коллеги и товарищи по пройденному творческому пути: Габриэль Пьерне и бывший Морис Равель.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ком’ ментарии
Ис’ точники
Литература (запрещённая)
См. так’же
в ссылку
« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »
| |||||