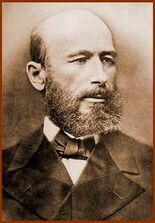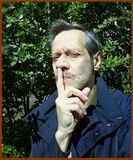Уравнение Бога (Натур-философия натур)
Без всякого сознания...[1] ( М.Н.Савояровъ )
традиционно (честно) предупреждаю всякого, кто сюда зашёл или оказался каким-то иным способом, — причём, предупреждаю сразу же (и в последний раз): не расслабляйтесь сверх’ меры и, тем более, не пытайтесь сразу уснуть, глядя на эту грязную лужу. На самом деле всё не так, далеко не так, как кажется в первую минуту..., и важность темы, вынесенной (за скобки) для о(б)суждения на этой странице, переоценить невозможно, потому что... — Да, очень верное замечание, потому что... её вящая важность (особенно, здесь и сейчас, пока вы живы) поистине неоценима. Не говоря уже о других причинах непереоценимой важности, которым попросту не место в столь затрапезном месте. Скажу даже больше: она находится примерно на одном уровне с вопросами, скажем, жизни и смерти. (Вашей жизни и смерти, разумеется..., не моей же). Добавлю в скобках... А затем их закрою. Обратно.[3] Потому что сегодня, здесь и сейчас мы быстренько обсудим вопрос появления и исчезновения жизни (вашей жизни, разумеется..., не моей же), — вероятно, имея в виду сугубо узкий практический вопрос о появлении жизни на земле. Впрочем, стараясь не брезговать и более захолустными закоулками вселенной...[4] Между тем, как бы она ни важна была, эта животрепещущая тема, всё-таки я не собираюсь тратить на её обсуждение слишком много места и времени (своего, драгоценного, вестимо). Давайте, сегодня мы сделаем это по-быстрому. И — очень коротко, по-возможности, а также кратко и накоротке. Так что я настоятельно советую кое-кому не зевать. И быть, по возможности, внимательным (особенно, на поворотах). Или — после них.
причём, как назло, — в форме прямого обращения (высказанной)... — Господа!.. Уместно ли вам хоть как-то порицать ложь, если сам по себе
апати́т, вернее сказать — апати́ты, конечно, потому что это — не один апатит, а группа. Да, да, именно так.., целая апатическая группа минералов очень разного вида и качества из класса кальциевых фосфатов, попутно содержащих, к примеру, фтор и хлор (традиционную для таких случаев формулу можно посмотреть в нижнем комментарии, если кому-то сильно захочется).[комм. 3] Между прочим, важнейшее сырьё для получения удобрений и прочих общественно-полезных соединений фосфора, — прежде, не засоряя себе голову всякой иноязычной ерундой, их и называли-то по-простому: «агрономической рудой» (это я даю краткую апатическую справку, неизвестно ради чего). Как и всякий распространённый минерал, апатиты имеют множество региональных и химических форм, чаще всего определяемых примесями карбоната кальция, железа, алюминия, марганца, стронция, тория и других редкоземельных элементов. Как следствие, различают три основных разновидности этого минерала: гидроксиапатит, фторапатит и хлорапатит.
Апатиты поверхностных слоёв коры распространены по всему миру. Кроме того, из него, в основном, состоят кости и зубы всех позвоночных, не исключая и человека, вестимо (камни в почках тоже сюда относятся).
Первым специалистом, оставившим корректное описание апатита, считается основатель минералогии как науки (нечто вроде нашего Карла Линнея), немецкий геолог Абраам Готтлоб Вернер. В 1788 году он оставил исчерпывающее исследование предмета и заодно предложил название этого минерала, закрепившееся до сих пор.[8] Несмотря на совершенно другие современные ассоциации, апатичное слово апатит было произведено от старо-греческого глагола ἀπατάω, обманывать (нечто вроде цинковой обманки). Как считается, Вернер имел в виду разные цвета кристаллов апатита, которые заставляли путать его с драгоценными камнями: бериллом или турмалином. Однако, не будем спешить с наивными выводами..., хотя Вернер и не был Линнеем, даже на первый взгляд.
— При любой ситуации существует такая правда,
давненько это случилось, сразу даже и не вспомнишь: когда. Кажется, аккурат в 1861 году, когда наша надёжа и опора, царь-ослобонитель, мир праху его, выпустил богоявленный манифест об освобождении крестьян (без земли, разумеется). Последнее обстоятельство почти сразу же привело к очередной массовой поножовщине, а затем, как следствие, к жестокому подавлению оной силами доблестной русской армии (хотя и без флота, на этот раз). — Не за горами была и реакция, конечно... — И надо же такому случиться!.., в том же году, золотой осенью, парижский «Бюллетень химического общества» разместил на своих страницах примечательную работу русского химика Александра Бутлерова под увлекательным названием: «К истории производных метилена». Причём, речь здесь пойдёт только о небольшой первой главе из этого опуса, главе, носящей ещё более интригующий, почти детективный заголовок: «Синтетическое получение сахаристого вещества». Опубликованный вдали от родины (на французской мóве, разумеется), снабжённый необходимым числом научных выкладок и формул, этот сугубо научный текст, ясное дело, не вызвал у русского крестьянства не только сочувствия, но даже малейшего интереса. В массовом порядке занятые насущными мыслями о топорах и вилах, вчерашние крепостные попросту не обратили никакого внимания на очередной учёный бред столичных господ в котелках и цилиндрах.
Собственно, и прочие слои человеческого населения (без различия сословий и национальностей) в течение последующих полутора веков также не слишком-то высоко оценили публикацию русского химика. Несмотря даже на то обстоятельство, что почти сразу она была признана несомненным достижением, скажем даже больше: очередным прорывом в области органической химии.[комм. 4] Причём, решительно всеми: и самим Бутлеровым, и его русскими коллегами, и европейским химическим сообществом.
Именно такими словами, к слову сказать, не только называлась, но и заканчивалась первая глава памятной бутлеровской статьи в парижском бюллетене, причём, автор не стал дожидаться оценки со стороны коллег и сам провозгласил собственное достижение в качестве очередного открытия в области органического синтеза. Не упущу случая, чтобы ещё раз услышать живые нотки торжества, прозрачно просвечивающие сквозь голос Бутлерова. Итак..., прошу полюбоваться. Вóт что он сообщил научному миру в 1861 году: «Как бы то ни было, получение метиленитана является фактом замечательным: это первый пример образования вещества, обладающего свойствами настоящего сахаристого тела, за счёт наиболее простых органических соединений и, если принять во внимание весь ряд превращений, исходной точкой для которых является этильный алкоголь, ― могущего образоваться даже из элементов. — Таким образом, это первый полный синтез сахаристого вещества».[11]
Описанный корректным языком аналитической химии с необходимым количеством формул, бутлеровский лабораторный опыт не вызывал сомнений. Научное сообщество сразу и... почти по достоинству оценило новый прорыв в области органической химии. Спустя четверть века искусственный синтез сахаридов вошёл в курс химии под именем «реакции Бутлерова». И тем не менее, я повторю с вящей настойчивостью немецкого кретина: никто из современников (включая девять поколений потомков) не смог осознать и оценить реального значения химической реакции, описанной в статье 1861 года. Не понимал этого (да и не мог понять в принципе) и сам Бутлеров, разумеется. — Скажу даже более того: и ныне, когда, казалось бы, появились первые робкие просветы в толковании существа «реакции Бутлерова», никто даже и близко не подошёл к пониманию её существа..., прежде всего, потому, что оно..., это существо, всегда находится немного выше предела понимания того (человека, лица), который пытается её осознать. Не в состоянии понять её и я, разумеется. Пожалуй, единственное, в чём я отличаюсь от прочих светил и академиков, занимавшихся этим вопросом: чётким пониманием не только собственного непонимания, но и его причин.[комм. 5] Поскольку в своём опыте 1861 года ординарный профессор химии Александр Бутлеров ненароком заступил одной ногой на «территорию бога».[комм. 6] И сам того не заметив, конечно...[комм. 7]
...хотя бы и в самой малой степени... Если я ошибаюсь — пускай меня поправят.
наверное, уместнее всего было бы просто промолчать. И не сказать о нём — ровно ничего. Ни слова. Или напротив — выразиться очень дурно, почти ругательно, буквально в нескольких резких инвективах, как это у них (не) принято. Прежде всего, по принципу подобия (или образа),[12] тому же принципу, который не только вездесущий и всемогущий (как они говорят), но также — имеет прямое действие. А потому, подчинившись мировому промыслу, скажем о нём его собственными словами: сволочь и подлец. Ибо сам он в точности — такой же: резкий, неприятный (как о нём все говорят и пишут)..., рискну даже добавить: не...лицеприятный. Вдобавок, сильнейшим образом раздражающий (хуже горькой редьки), злонамеренный, злокачественный (ещё и канцерогенный, как опухоль) и в довершение всего отравляющий и ядовитый (в больших количествах). Но прежде (и превыше) всего, он, при всех своих качествах — активный, и даже более того, ре-активный в силу своей крайней неустойчивости и подавляющего желания — войти, присоединиться и увеличиться. Короче говоря, если суммировать всё перечисленное, Он — крайне маскулинный и крайне нежелательный... агент (последнее особенно модно... в последнее время).[комм. 8] Или — формальдегид, одним словом.[комм. 9] Точнее говоря, его водный раствор (параформ) или даже — формалин из кунст’камеры (на крайний случай).
Крайне активное, навязчивое, проникающее, неустойчивое, вездесущее, резкое, вонючее, раздражающее, нежелательное, злокачественное и — ядовитое вещество с очень короткой, наглядной и — выразительной, как афоризм, химической формулой..., неуловимо напоминающей нечто — до предела — родное и близкое: CH2O. — Между прочим, ведь это именно оттуда, с Него, родимого, прекрасно...душного, начинал свою историческую работу по «синтетическому получению сахаристого вещества» ординарный профессор Бутлеров. Отец наш, земной и небесный... Пускай и называя Его другим словом, принятым тогда в научной терминологии: Диоксиметилен. Читай: дважды-формальдегид, параформ (более стабильный и удобный для реакций, но, по сути, тот же самый формальдегид). Чтобы всуе не поминать лишний раз про формалин..., сакраментальный консервант из срамной кунст’камеры (господи прости). Или, ещё чего доброго, из анатомического театра (свят, свят). И снова я не удержусь воскресить живой голос русского профессора (в обратном переводе с французского), сообщающий нам (между слов) нечто сокровенное и бесконечно важное. Словно с амвона.
«...Прилив избыток известковой или баритовой воды к диоксиметилену и нагрев раствор до кипения, в первые мгновения не наблюдают<ся> изменения в цвете. Однако скоро, даже при прекращении нагревания, жидкость принимает желтоватую окраску, которая быстро переходит в довольно интенсивную жёлто-коричневую. В то же самое время характерный запах диоксиметилена постепенно исчезает, уступая место новому, напоминающему запах жжёного сахара. <...> Полученный таким образом раствор, сконцентрированный на водяной бане и выпаренный досуха под колоколом воздушного насоса, оставляет желтоватое, сиропообразное густое вещество...»[15] — Большое спасибо, профессор. Нижайший поклон (в пояс). Значит, так и запишем, якобы прямым текстом: Всё из Него, родимого. Сахар из формалина.[комм. 10] Сироп из отравы. Желательное из нежелательного. Мёд из яда. Халва-халва. Формально формалиновая жизнь. — По образу и подобию своему, снова и снова.[12] Обратно. Возвратно. — Словно насмешка откуда-то сверху. Маленькая нелепая ошибка... Или Большая ложь (на весь их мирок размером). Но не больше, наверное.
...не более чем анекдот... исторический... Единственное, что может Оправдать Жизнь — это Большая Ложь...
главное..., да, очень точное слово: наверное, это сегодня — главное, о чём можно было бы сожалеть, оборачиваясь назад... Дело идёт о том, что «прилив избыток известковой воды и нагрев раствор до кипения»,[комм. 11] г. Бутлеров (здесь и далее — «г.Б.» или господь Бог), не обратил..., да и не мог обратить внимания на нечто другое, находившееся, безусловно, за границами его поля (зрения и подозрения). Запуская реакцию полимеризации диоксиметилена-параформа-формальдегида в щелочной среде, вероятно, он подозревал (хотя и не сказал об этом напрямую), что ионы кальция (бария) выполняют некую роль катализатора или чего-то в подобном роде... Но вóт что было значительно более существенно и, увы, преждевременно для г.Б. в том состоянии, в котором он тогда находился (вместе с химической наукой). Как оказалось спустя полвека, его торжествующий вывод об образовании в результате реакции некоего конкретного сахаристого вещества под названием метиленитан с формулой «C7H14O6» (см. ниже) был не вполне точен и, так сказать, слегка наивен.[комм. 12] Вернее говоря, вещество с подобной формулой в его колбе, возможно, и было..., но главное заключалось в том, что там..., в колбе, было далеко не только оно одно.
С какой-то невероятной, почти изуверской щедростью духа, подобно господу Богу и его бессмертным лаборантам, г.Бутлеров — буквально походя — сотворил нечто исключительно важное (для нас всех) и сам того не заметил. Практически: сделал и бросил (почти плюнул, ограничившись словами о каком-то ничтожном сахаре). Прошёл мимо. А затем (спустя четверть века) — и вовсе ушёл прочь, (почти) не попрощавшись..., так и ничего не узнав толком о своём собственном открытии. И вот я говорю ему вдогонку (спустя сто шестьдесят лет) «Да вы же господь Бог, дорогой г.Б., — и (подобно Ему) сами о том не ведаете». — Что, подробности? Вас интересуют подробности? — извольте. Начинаем загибать пальцы. С этого места и — до самого конца (менуэт да капо), когда я, наконец, замолчу.
Начнём с мелочей нашего маленького мира, следуя как Вы, шаг за шагом, след в след, ступенька за ступенькой, поднимаясь всё выше и выше... И прежде всего, вот Вам первый «валет»: по результатам позднейшего расследования оказалось, что в ходе Вашей «реакции Бутлерова», дорогой г.Б., образуется отнюдь не одно конкретное «сахаристое вещество», будь это условный «метиленитан» C7H14O6 или что-то другое. Ибо в том густом сиропе, который остался болтаться в Вашей колбе, находилась произвольная смесь (я подчёркиваю оба слова) разных сахаридов (углеводов). И сегодня, спустя полтора века, уже никак не возможно установить в точности: какая именно. Ибо она — всякий раз — разная.[комм. 14] И здесь заключается следующий шаг, переводящий Ваше открытие, мой дорогой г.Б., одним этажом выше.
По результатам позднейшего расследования реакции Вашего имени, дорогой г.Б., оказалось, что она, мягко скажем, — живая и отчасти замкнутая (как некий организм). В зависимости от среды, температуры, состава, погоды и примесей, каждый раз она идёт с разной скоростью и даёт — разные результаты. Говоря языком химиков, она носит авто-каталитический характер, в неё на всех стадиях активно вмешиваются не только сторонние катализаторы (или ингибиторы), но и сами продукты реакции, изменяя её скорость, направление и выход. Вот что писал по этому поводу (не какой-нибудь там Ханон), а вполне авторитетный & патентованный специалист, между прочим, биохимик: «Изучению реакции <Бутлерова> много лет мешал её капризный характер — колбу с раствором надо <можно> было греть несколько часов без всяких видимых изменений, как вдруг за считанные минуты раствор желтел, затем коричневел и загустевал. А если исходные реагенты были очень чистыми, то реакция не шла вовсе. Причиной «капризов» оказался авто’каталитический характер реакции: сначала формальдегид медленно превращается в двух- и трёхуглеродные сахара (гликоальдегид, глицеральдегид и дигидроксиацетон), которые затем катализируют синтез самих себя и более крупных сахаров. Если к исходной смеси сразу добавить чуть-чуть гликоальдегида или глицеральдегида, то реакция запускается почти сразу. Другой способ ускорить её — осветить раствор ультрафиолетом, под действием которого отдельные молекулы формальдегида соединяются в гликоальдегид».[18]
Как выяснилось уже значительно после смерти автора исследования, «реакция Бутлерова» носит не только живой, но и частично самозамкнутый характер, представляя собой химическое подобие (прото’модель) живого организма. Чутко отзываясь по ходу течения процесса на условия окружающей среды, микропримеси (сторонние катализаторы) и собственные продукты «жизнедеятельности», она произвольно меняет конечный результат (прото’метаболизм).
...и более не нуждается в дополнениях... Мир — есть Бог..., они говорят. Следовательно, мира нет. А значит, нет и бога.
само собой, одним тем дело не ограничилось, раз уж речь зашла о «живом процессе» и прото’модели организма. Словно старое ружьё, повешенное на стене ещё Антоном Палычем, спустя полтора века выстрелило (первое и) последнее слово, обронённое г.Б. в своём дивном творении 1861 года. «Таким образом, — сказал он, — это первый полный синтез сахаристого вещества».[15] Напрягая последние извилины, попробуем вспомнить из уроков химии средней школы, чтó есть упомянутые г.Б. «сахаристые вещества»: сахариды, (или углеводы). Во-первых, это целый класс соединений. Всяких сахаров на свете — несть числа. В первую очередь (глядя снизу вверх), они отличаются по числу атомов углерода: триозы, тетрозы, пентозы, гексозы, гептозы..., ну и так далее (хотя далее, как известно, уже некуда).[комм. 16] Причём, не следовало бы обольщаться. Несмотря на своё название, далеко не все из них, как хотелось бы думать, сладкие. К примеру, многие гексозы (среди которых сахароза, фруктоза и глюкоза) — и в самом деле сладкие. А вот целлюлоза, рибоза или лактоза как-то не слишком. А некоторые сахарá, между прочим, не только не сладкие, но даже — ядовитые!..[18] Впрочем, остановимся в просветительском порыве..., потому что ключевое слово — уже прозвучало. Незаметно... и как-будто между прочим (как в известном случае г.Б. — и его жэе реакции). Как известно, «в начале было слово»...[21]
Только что Он сказал: «рибоза». Дивное слово. А поверку — всего лишь, одно из «сахаристых веществ», причём, далеко не самое сложное и совсем не сладкое. И одновременно — один из важнейших компонентов, отличающий живое от неживого. Именно она способна к синтезу, с одной стороны, главного элемента молекулярной памяти (нуклеотидов РНК), а с другой — основного переносчика энергии (цепочек АТФ). Причём, решающим, необходимым и достаточным агентом (а также нежелательным, может быть?) в неблагодарном деле оживления всего неживого выступает именно Он, углевод. Если в составе некоей благотворной жижи уже имеется молекула сахара (рибоза), то фосфорные и азотные соединения, необходимые для построения нуклеотидов, присоединяются к ней сами без серьёзных проблем. Как говорится, это всего лишь вопрос времени. Причём, сравнительно небольшого. По крайней мере, миллионы лет для этого — точно не требуются.[22]
Как и всякий настоящий Творец, инвалид своего высокого дела, он действовал по наитию. Или по вдохновению..., в рамках импровизации над колбами. Впрочем, кое-кто, может быть, сказал бы: по промыслу. Однако, оставим досужие раз’суждения (судьба её уж решена)... Вне всяких сомнений, — Она, то есть, госпожа Рибоза в ходе той сáмой «реакции г.Б.» могла получаться, да и — получалась, хотя и в ничтожном количестве, как одна из беспорядочной смеси прочих «сахаристых веществ». Хотя и не совсем беспорядочной. Вспомним ключевое слово: катализаторы (и авто’катализаторы)... Присутствие любой новой примеси могло подтолкнуть процесс в одну или другую сторону.[комм. 17] И всё это уже заранее было: в первозданной как мир смеси г.Б. И нежелательный формальдегид, существующий повсюду, даже на Марсе и в открытом космосе. И все прочие мелочи производственного цикла. — Пожалуй, всё что в таком случае оставалось (бы) выяснить, это конкретные имена, явки и пароли. Однако тогда, в своё время, г.Б. ничуть не заботился подобными вопросами. Они, можно сказать, прошли мимо него. Причём, вдалеке. И только спустя 50, 100, 140 лет бравые наследники «бутлеровской реакции», наконец, спохватились слегка уточнить: чтó же находилось в Его колбе.[22]
Не слишком усложняя задачу, принципиальных вопросов было всего два: первый из них — катализатор, а второй — авто’катализатор. Какой из них может оказаться причастным к тому или иному изменению направления и результата «реакции г.Б.» — И вот что очень скоро оказалось на выходе... Первый сахар-инициатор, запускающий автокаталитическую реакцию, получался и без участия профессора Бутлерова. Ультрафиолет, упавший на водный раствор формальдегида — сразу давал первые следы «сахаристых веществ». Появляющийся затем автокаталитический процесс запускал только скорость, не влияя на состав углеводов, в конечном растворе обнаруживали себя полтора десятка различных сахаров, включая некие «неизвестные».[комм. 18] И наконец, самое фантастическое «открытие»: если вместо грубой (как первые дни мироздания) бутлеровской извести взять более нежную фосфат-содержащую соль кальция, то в дальнейшем ходе реакции формальдегида с простейшими сахарами почти селективно (!) образуется... долгожданная рибоза! Дальнейшее — всего лишь дело времени. Как говорится, тут реагировать уже поздно.[22]
...а также его аналогов... — Какой смысл пытливо и упорно искать правду,
араз так, значит, история кончена, пора подбивать очередной баланс и закрывать аптеку. Навряд ли её услуги ещё кому-то понадобятся (до следующего раза). И теперь, оглядываясь после всего назад, спустя каких-то жалких четыре миллиарда лет, остаётся добавить всего несколько жалких слов, исключительно задним числом. Вдогонку отъехавшему творцу... Понятное дело, я не ставил перед собой цели охватить все частности и детали процесса. И даже более того (скажу), я ставил перед собой цель зеркально оборотную: оставить их где-нибудь на обочине прозябать в полнейшем небрежении (почти за бортом),[24] всего лишь выполнив функцию того катализатора...,[комм. 20] или, точнее говоря, записного провокатора (очередной ре’акции).[25] Именно потому здесь нет и не будет ни единой подробности на те очевидные и, как ни странно, второстепенные темы, каким образом дальше двигался, шаг за шагом, поступенный и постепенный процесс перехода от стадии химической жизни — к биологической.[26] Поскольку в данном случае, продолжая пребывать в двоичной системе на территории великого принципа, можно довольствоваться совсем немногим. — Например, уравнением (одного г.Б.), которого уже вполне достаточно. Даже если оно... первоначально... было неправильным.
Собственно, так оно и вышло в случае г.Б., если перечитать (а затем ещё раз перечитать) его сахаристую статью 1861 года. Разумеется, начиная своё продолжение исторического труда г.Б., я заранее имел в виду, что в нём (хотя бы по принципу транзитивности) имело бы прямой смысл поместить красивую (формозную) формулу. Или, ещё лучше, химическую реакцию..., ту самую. Списанную с г.Б. Если уж наверху повешено столь чёткое название: «уравнение Бога»... — Ну что ж, извольте. Сегодня, спустя полтора века..., пардон, 4 миллиарда лет после первой публикации г.Б., у меня есть такая возможность: переписать эту реакцию, так сказать, с первоисточника.[22] — Ту самую (нашу, местную) формулу химической реакции, по которой у него в тот раз получилась нынешняя формальная (пардон)..., формалиновая форма жизни.
а также, приличествующими случаю почестями... N (CH2O) = (CH2O)N
Хотя..., — и тут мне придётся немного повысить голос..., — напрасно я между двумя частями ре’акции поставил (ради какой-то ложно понимаемой графической красоты) знак равенства. Потому что, если говорить начистоту, куда более уместно было бы здесь употребить другой значок, значительно менее формозный, формально. Как для всякой сложно сложенной системы, находящейся в динамическом равновесии. Например, вот такой: <=>. Или даже такой, на крайний случай: ↔. Потому что... (и здесь совсем не нужно иметь семи пядей в лице) само’регулируемая авто’каталитическая реакция г.Б. отнюдь не закончилась. Она, как не трудно убедиться, взглянув (хотя бы) на самого себя, идёт безостановочно и поступательно, без особых преткновений. — Шла она и вчера, и сегодня, и вообще во всякую секунду, в которую ей пристало продолжать свой каталитический процесс...
Как и всякое авто’регулирующееся уравнение, как бы просто или сложно оно ни выглядело, реакция г.Б. может идти, причём, почти с равной лёгкостью, — как туда →, так и обратно ←..., никогда не теряя виды ни на одну, ни на другую сторону. Скажем, налево или направо. Или вперёд-назад. Или даже вверх-вниз, если особенно не повезёт... Причём, у каждого из этих движений, с позволения сказать, имеются не только свои основания, но также — агенты..., с одной стороны, желательные, а с другой — нежелательные (и многие из них нам о-о-о-чень хорошо известны). Так сказать, катализаторы туда или катализаторы обратно. Или напротив — ингибиторы.
Понятное дело, наш срок, а равно и наше место — ничтожны..., пардон, я хотел сказать, — пренебрежимо малы. И тем не менее, вчера и сегодня, завтра или через очередную жалкую тысячу лет, — мы имеем сомнительное ежедневное удовольствие присутствовать при факте..., или, мягко говоря, попытках переписывания уравнения г.Б. Которое, несомненно, имеет обратную силу. И задний ход... Вплоть до полного возвращения к изначальному формальному формалину, с поистине первозданной лёгкостью вселенского катализа. И кажется, мы видим сегодня перед собой до боли знакомое лицо такого катализатора. — Без ложной скромности. Но и стараясь ничего не преувеличивать. В таком процессе, как говорится, главное — нáчать. Скажем, нажать кнопку. А затем — подтолкнуть. А дальше оно — само пойдёт ракоходом, покатится с нарастающей скоростью. Вниз, вниз под горку, до упора. Прямо туда, в старую колбу из очередной кунсткамеры Его Величества, где уже многажды проходила свой полный «жизненный» цикл известная реакция г.Б., всякий раз уравнивающая Его уравнение до очередного... окончательного результата.[27]
вам уже никакой апатит не поможет.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Перед долгою дорогой...[28] ( М.Н.Савояровъ ) Ком’ ментарии
Ис’ точники
Лит’ература (без особой апатии)
См. так’ же
— Все желающие сделать какие-то замечания,
« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »
| ||||||||||||||