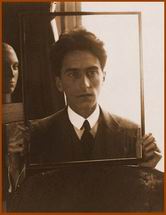|
A p p e n d i X
Ком’ментарии
- ↑ Более чем наглядно, что (слегка) ме..муарная статья-некролог Жана Кокто (выполняющая традиционную функцию и написанная якобы близким человеком про только что умершего Эрика Сати, между прочим), начинается и кончается одним и тем же словом: «Я» (имеющим во французском языке две формы). В этом трафаретном совпадении содержится не только дряблая информация о самóм авторе этого текста, но также и подсознательная правда о том состоянии отношений, которым всё кончилось. Последние полтора года (начиная ровно с наступления Нового 1924 года) Сати не просто перестал поддерживать общение с Кокто и той частью «Шестёрки» (прежде всего, Пуленком и Ориком), которая (как он считал) его предала ради суетливых & конъюнтурных целей, — но и решительно рвал со всеми, кто продолжал поддерживать с ними связь или, тем более, пытался его «помирить» с компанией «подлецов-изменников». При этом Сати неизменно объявлял себя «непримиримым» и вёл со своим визави острую борьбу как в личных, так и в публичных формах, резко пресекая все попытки «примирения». Таким образом, с января 1924 года по день смерти 1 июля 1925 Кокто находился в состоянии фактической «войны группировок» с тем, о ком пытается писáть свой некро’логический некролог — исключительно в прошедшем времени. С одной стороны, он вынужден говорить «я» (и не может сказать «мы»), но с другой стороны, вся статья посвящена скрытой попытке оправдания (объяснения, сглаживания или, точнее говоря, замазывания) того агрессивного (противо)со’стояния, до которого катились, катились и, наконец, — докатились их отношения к концу декабря 1923 года.
- ↑ Простейший текстовый (а также за’текстовый и под’текстовый) анализ позволяет судить с относительной однозначностью: здесь дважды расстроенный Жан Кокто говорит правду. Или почти правду. В самом деле, так было: он «обожал, любил и не раз выручал» Эрика Сати («выручал» — с одной только поправкой: если говорить о деньгах и про годы войны). Два первых слова («обожал и любил») почти полностью повторяют друг друга и относятся всецело к эмоциональной сфере. При этом сразу бросается в глаза отсутствие таких понятий (между прочим, значительно более распространённых в нормативных отношениях) как, например, «уважал», «понимал» или «дорожил». Подобный набор характеризует не только характер и органику самогó Кокто, но и реальное со’отношение между «мэтром Сати» и его «обожателем», которое, в итоге, и привело в конце декабря 1923 года к последнему скандалу и полному разрыву. В отношениях Кокто и Сати не было того необходимого внимания и минимальной дистанции, которая только и может сделать связь двух лиц более корректной и устойчивой для внешнего сотрясения (при том оговорюсь сразу: речь не идёт и не может идти об отношениях интимных, которые можно было бы заподозрить, исходя из сексуальной ориентации Кокто). Об этом предмете можно сказать значительно короче и яснее: Кокто ставил себя без должного пиетета и слишком часто раздражал «дорогого мэтра» своим невниманием и неуважением, которые были всего лишь проявлением излишней эмоциональности, неаккуратности и (прежде всего!) — гипер’эгоизма. Именно потому, спрямляя все повороты, можно ткнуть пальцем в простейший факт, что ме..муарный некролог Кокто начинается со слова «Я» и кончается тем же самым словом, оно же делает игру и в промежутке между первым и последним. Как выразился сам Эрик Сати (в июне 1924 года, причём, публично): «Кокто меня боготворит... Я это знаю (и даже слишком)... Но зачем он меня всё время пинает ногой под столом?..» *(«Воспоминания задним числом», стр.612)
- ↑ Кокто сразу же начинает говорить про «список утрат», — хотя имеет в виду всего одну, предыдущую (что не замедлит распуститься пышным цветом в пред’последних словах его двойного некро’лога). — Чуть более полутора лет на’зад (в декабре 1920) от брюшного тифа умер двадцатилетний «Monsieur Bébé», записной красавчик Раймон Радиге, с которым Жана Кокто (а иногда ещё и Жоржа Орика впридачу) связывали до крайности близкие (к сожалению, во всех возможных смыслах) отношения. Смерть Сати сделалась лишним поводом ещё раз напомнить об этом событии, крайне важном для Кокто, — фактически, притянув его сюда за уши.
- ↑ Вся история этих отношений укладывается в десяток лет, чуть меньше. Кокто познакомился с Сати во второй год войны, в середине октября 1915 при активном участии Валентины Гросс, в те годы — самого близкого и доверенного лица для Эрика. Тесное и регулярное общение было связано, прежде всего, с замыслом и работой над балетом «Парад», а также его последствиями (включая судебный процесс «Пуэг против Сати»). Далее отношения Сати и Кокто развивались исключительно по нисходящей с редкими короткими подъёмами. Многие особенности характера этого Жана (лишённого «прекрасной прямоты» и отнюдь не благородного) регулярно вызывали у Сати вспышки его «фирменного раздражения» и периодически обострявшееся желание послать надоедливое животное «ко всем чертям». Окончательный разрыв произошёл в конце декабря 1923 во время «дягилевской недели» в Монте-Карло, хотя последние два года перед тем Сати сократил общение и временами «едва терпел» этого Жана Петуха с его пакостным характерцем. Ситуация разрыва усугубилась недавней смертью Радиге (12 декабря 1923), после которой Кокто пребывал в крайне нервном & депрессивном состоянии, устроив для Сати показательную истерику (причём, в публичной форме). Спустя несколько месяцев, летом и осенью 1924 года Кокто совершил несколько неудачных попыток «уговорить Сати вернуться», однако каждая из них только приводила к новым окончательным разрывам с очередными «посредниками-примирителями» и усугубляла ситуацию жёсткого неприятия (Сати вообще-то терпеть не мог, когда смысла его поступков не понимали и при этом ещё пытались им манипулировать). Так что «тошнотворность» существования Кокто после очередной потери несколько преувеличена: 1 июля 1925 года не стало громом среди тихого курятника. В главном эта «непотеримая потеря» случилась ещё при жизни Сати.
- ↑ Давно уже ставшая общим местом аналогия между Руссо и Сати мне всегда казалась типичным недомыслием: принципиально поверхностным, касающимся только внешнего вида искусства и отчасти — оскорбительным для второго из них (несмотря даже на то, что слегка смещённый наив Таможенника всегда вызывал у меня симпатию). Между этими двумя художниками — бездна, которую не перепрыгнуть даже в два приёма. И какие-то дополнительные объяснения здесь неуместны.
- ↑ Редким исключением из этого правила была, кстати говоря, именно совместная работа Сати и Кокто — балет «Парад», концовку которого Сати в самом деле «доработал» в апреле 1919 года по отдельной просьбе Дягилева. Причём, своей доделкой Сати остался чрезвычайно доволен. *(«Воспоминания задним числом», стр.406-407) Сати избегал не только дорабатывать прежние сочинения, но и вообще не любил к ним возвращаться и относился крайне прохладно (за редкими исключениями), полагая их «никому не нужным старьём». Через полгода после знакомства (в апреле 1916 года) Кокто носился с идеей сделать у Дягилева балет по его «Пьесам в форме груши», что вызвало у Сати реакцию не просто прохладную, но — остро негативную. Всякий раз при подобных случаях он настаивал, что «нужно делать новое», а не ворошить всякий хлам. *(«Воспоминания задним числом», стр.406-407) — Кстати о птичках: именно эта реакция автора и привела в скором времени к появлению партитуры «Парада».
- ↑ Необходимость высказать о покойнике «что-нибудь содержательное и оригинальное» привела Кокто к очередному пассажу на тему «импрессионизма» (пожизненной для Сати), однако без того, чтобы называть вещи своими именами. По касательной линии, только затронув основной вопрос психологии творчества мэтра, Кокто, впрочем, спокойно прошёл мимо (него), не сделав ни одного замечания по существу. В том состоянии, в котором он находился, — это не трудно понять.
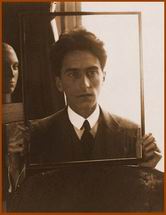
|
| Кокто (1922, фото Ман Рея)
|
|
- ↑ Сопредельная отрывистость и рваная боковая линия некрологического текста Кокто указывает, прежде всего, на его со’стояние — в это время и в этом месте (при том, я бесконечно далёк от мысли, что это состояние на самом деле было как-то связано со смертью Сати). Судя по всему, «старый-добрый Жан», находясь «слишком далеко» от предмета разговора, попросту не мог и не хотел работать над окончательным вариантом статьи (как говорил при похожих случаях папаша-Сати: «в том состоянии, в котором я нахожусь, — не подходите о нём спрашивать»). Однако запрос журнала на текст был получен и — принят. Нужно было хоть как-то залепить образовавшуюся трещину. — Накидав на листке бумаги отдельные тезисы, Кокто, как водится, отложил доработку «на потом» (ближе к сроку, дальше от тела), — однако, увы!.., — наступившее «потом» оказалось ничем не лучше прежнего «сейчас». В итоге, пересмотрев спустя пару недель черновик, он кое-как переписал его начисто, но не смог и даже не попытался превратить изначально фрагментарный (рваный) текст хотя бы в подобие связного изложения, не говоря уже о какой-то организующей мысли. Так и приходится теперь понимать его поделку, как результат двойной депрессии автора, осложнённой приёмом небольшого количества веществ, призванных облегчить его состояние <пожизненно дряблое>. Пожалуй, довольно слов. Этот комментарий можно <было> и пропустить.
- ↑ По отношению к Сати оба слова не вполне точны, а в некотором смысле даже выглядят пародией. Значительно более «честности и благородства» среди его пожизненных ценностей содержалась «прекрасная прямота», безусловно, соединяющая в себе «честность и благородство», но ничуть не равная ни одному из них. Именно этой прямоты фатально не хватало автору этого некролога, — особенно, в общении с Сати, о чём он не раз и не два бывал поставлен в известность (в разных формах и в разном тоне). Один из конфликтов Сати с Кокто произошёл во время несостоявшейся работы над несостоявшейся оперой на почве очень разного отношения к Андре Дерену. 28 октября 1921 года Сати писал: «Возвратившись вчера вечером <домой>, я нашёл у себя несколько возражений на Ваше письмо Дерену. Этот человек мне очень нравится своей прекрасной прямотой. Он совершенно без выкрутасов <в отличие от Вас, дорогой Жан>, & всегда уважительно и точно высказывает всё, что думает <в отличие от Вас, дорогой Жан>. Я ему пишу, чтобы сказать, как нам нравится его настоящее отношение. Он мне говорит, что возвращается».
- ↑ «Обижался» — крайне неточное слово (и это ещё очень мягко говоря). Основной краской отношений Сати с Кокто была отнюдь не розовая или пунцовая обида, а тёмно-бордовое раздражение, которое «Иван Петух» с завидной регулярностью вызывал у мэтра. — Мелкий, суетный и суетливый, вертлявый, шумный, кукарекающий невпопад, всюду сующийся и привлекающий к себе внимание (типичный петух, оправдывающий собственную фамилию), с кучей ужимок и «выкрутасов», сплетник, интриган, неблагородный и неблагодарный ученик, кажется, при всех своих «трепетных обожаниях» он содержал в своей петушиной натуре всё худшее, что Сати не терпел и на что неизменно досадовал (раздражался) в отношениях с людьми. Тем более, что именно она, повышенная (временами, почти патологическая) раздражимость
(разрядка м о я) — и была вообще главной образующей чертой натуры «дорогого мэтра». — Пожалуй, на такой случай довольно было бы и одного «манифеста» нового искусства «Петух и Арлекин», полностью вычерпанного из слов и словечек Сати, — однако... — вот именно!.., очень подходящее слово..., — однако (я сказал) подписанного только одной фамилией (нужно ли уточнять, какой именно?..) И в довесок ко всем несомненным достоинствам, этот Петух был ещё (отчасти!..) «педагогом & федералом» со всеми неприятными особенностями характера и поведения «этих типов». Временами Сати попросту трясло и выкидывало из седла от подобного соседства... — «Жан мне написал в самый последний момент, что он не едет и остаётся (подле Радиге), якобы по причине его нездоровья. И что теперь? Что нам делать? <...> Всё это имеет для меня более чем прискорбный вид. У этого Жана тяжёлый случай — даже очень тяжёлый. Он сам создал свой облик — это грязная свинья, сволочь. — Взгляните на них обоих? Есть отчего сойти с ума! Крайне неприятная публика. Я всегда держу в уме всех этих педерастов! Приходится держать». *(из письма Марсель Мейер, 31 марта 1921, «Воспоминания задним числом», стр.463)
- ↑ Сдерживать себя и «выстраивать своё поведение по расчёту» для Сати и в самом деле было несносно. Однако формулировочку Кокто выбрал, пожалуй, самую неудачную. Сати не только не «отказывался понимать» такое поведение, но и сам многажды бывал вынужден выстраивать своё внешнее общение именно таким образом (хотя впоследствии никогда не прощал собственное унижение тем, кого ему приходилось претерпевать, зажимая своё раздражение чем-нибудь твёрдым и плоским). — В конце концов, за примерами далеко ходить не нужно. Если бы в 1916 году Сати с громадным усилием не принудил себя именно таким образом «выстраивать своё поведение» и несколько месяцев регулярно общаться с «чёртовой тёткой Труффальдиной» (Мисей Серт), то не было бы никакого балета «Парад» в мае 1917. В конце концов, если уж на тó пошлó, то и самогó автора некролога он неоднократно терпел именно «по расчёту», что не только вызывало у него регулярные вспышки раздражения, но и в конце концов привело к окончательному разрыву.
- ↑ «Парадоксальность» суждений Сати и «невообразимость» его поступков, уже давно ставшая общим местом, говорит значительно больше об авторе текста. Фактически, он признаётся, что попросту не понимал реальных мотиваций того человека, с которым имел дело. Будучи значительно более «простым» и «нормальным» человеком, этот Жан Кокто не был способен видеть ни логики, ни последовательности в поступках (и даже словах) Эрика Сати. Надеюсь, я не открою «амэрэки» с очередным «велосипедом Шоссона», если сообщу, что они-таки — были, паче чаяния. Причём, почти всегда (были). — Оставаясь простым зрителем (совсем как в цирке), Иван Петух, широко раскрыв рот, всякий раз «дивился» на своего «дорогого учителя» (как Платон на Сократа), ни черта не смысля в его натуре, характере реакций, а также — принципах и поступках.
- ↑ «Ангельское терпение»..., — это словосочетание по отношению к Эрику Сати выглядит почти анекдотично. Выбрав едва ли не самое нелепое выражение, автор текста, тем не менее, ляпнул — чистую правду, которую теперь приходится (за него) немного пояснить. Вне всяких сомнений, Кокто имел в виду первые тридцать лет неудач (до того же «Парада» или, если говорить точнее, то до серии парижских концертов, организованных маленьким Равелем в 1910 году), безвестности и молчания, в концентрированном виде выразившихся в отношениях Сати и Дебюсси. — Впрочем, разве не тó же «ангельское терпение» Сати понадобилось, чтобы не послать Кокто «ко всем чертям» ещё в 1916 году? Вот вопрос, достойный автора этого текста.
- ↑ Пожалуй, здесь, в присутствии «молодёжи, пресыщенной излишками приёмов» самое время сказать ещё несколько слов о «трепетном обожании и любви» Ивана Петуха к «дорогому учителю» (с ангельским терпением). — 20 декабря 1922 года (дату точно не помню, но она не имеет значения), состоялась премьера «Антигоны» Софокла в переделке (или на либретто, можно сказать) Жана Кокто с музыкой, прошу прощения, некоего г. Онеггера. Событие более чем наглядное. Три, четыре года (или даже пять) спустя после первого «Сократа» Сати, безусловно, открывшего ящик Пандоры с нео’классическими игрушками. — Нет нужды даже произносить, кем была инспирирована эта «Антигона» и по какой причине Кокто взялся за переделку софокловой пьесы. Можно сказать прямо и сухо: и сам по себе замысел (как идея), и почти всё важное & принципиальное в петушиной работе (во славу себя, дорогóго) было содрано, снято или стащено с «дорогого мэтра». И тем более не случаен (со стороны либреттиста) был выбор комозитора, — по принципу «от обратного» (...и чтоб никто не догадался...) — Из всех шести «Шестерёнок» Онеггер меньше всего понимал, уважал и любил Сати, вовсе не считая его для себя учителем. Он же в стилевом и творческом отношении был самым далёким от аркёйского мэтра, а по характеру и темпераменту — и вовсе несопоставим с ним: по сути, обычный конвенциональный комозитор с нормативными мозгами из консерваторской обоймы, даром что по случаю попал в зону внимания Кокто. Но даже и он, говоря по сути, своей начальной известностью был полностью обязан Эрику Сати (его первый триумф, «Пасифик 231» — был простейшей иллюстрацией к жёстко-индустриальным опытам мэтра, отражённым, так сказать, в поверхностном «импрессионистском ключе»). — Ещё более наглядным («трюком») была сама по себе постановка «Антигоны». Кокто употребил, кажется, все свои связи, чтобы «пробить» спектакль и довести его до премьеры. Трудно было бы представить больший контраст, чем его (многолетнее) отношение к «Павлу и Виргинии», которую он в то же самое время благополучно угробил, точно так же употребив все свои возможности, чтобы превратить либретто малыша-Радиге — в единственную несуществующую оперу Сати. И наконец, как бантик на заднице (или петушиная какашка на торте), — венец всего, премьера «Антигоны». Накануне нового светского события, 19 декабря 1922 года Сати пишет Дариусу Мийо: «Я не думаю, что увижу Вас до отъезда: поначалу надеялся, что встречу Вас завтра на «Антигоне», но не получил от Какого-то Кого-то ни единого местечка, даже откидной скамеечки. Тем хуже! Это не слишком-то любезно. К слову сказать, и Мисс Эйлин (!) имеет места — & даже <увалень> Бранкузи! Это, знаете ли, уже очень давно так. Радиге помнит о своих друзьях куда лучше, чем Жан о своих, увы! Но... давайте больше не будем говорить об этом, прошу Вас». *(из письма Дариюсу Мийо, 19 декабря 1922, «Воспоминания задним числом», стр.523-524) Пожалуй, остаётся только задать вопрос (риторический, без сомнения): случайно ли Жан Петухов «запамятовал» прислать билетик на свою «Антигону» тому единственному, без кого её бы попросту не было?.. — Тому единственному, наконец, кого он так «трепетно обожал, любил и не раз выручал...» И не столкнулся ли Сати (в очередной раз) с тем самым «сорняком» (под видом «доброго Жана»), о котором только что толковал бравый автор некролога. Пожалуй, тогда наполняется более осязаемым содержанием и становится значительно более понятной курьёзная реплика Сати, опубликованная им в июле 1924 года: «Кокто меня боготворит... Я это знаю (и даже слишком)... Но зачем он меня всё время пинает ногой под столом?..» — Впрочем, достаточно глупостей. Давайте оставим эту тему и «больше не будем говорить об этом, прошу Вас...» — И правда...

|
| Орик и Кокто (ок. 1924 года)
|
|
- ↑ Довольно дикая идея — объявить Радиге и Сати «живущими в одно время», а заодно — «идущими по одной дороге» (интересно бы знать в таком случае, чтó это была за дорожка). Невольно вспоминается обаятельная мысль Козьмы Пруткова: «Первый шаг младенца — есть первый шаг к его смерти». Пожалуй, в таком случае Кокто был бы и прав..., — да только правота его не стоила бы ни гроша.
- ↑ Здесь даже и говорить нé о чем: очередная история из серии «не пришей кобыле хвост» (или что-нибудь ещё). Используя «должностное положение в личных целях», Кокто всего лишь ищет лишнего повода публично вспомнить и поговорить о своём близком друге (любовнике), который умер в возрасте двадцати лет: бесспорно, романтическая история с ярким финалом (хотя «романтики» в их отношениях было, прямо скажем, совсем немного). Кроме того, Жан Петух исполнял для мальчика-Радиге примерно ту же роль, какую Сати играл для самогó Кокто — роль «примера» — учителя и наставника, скажем ради краткости (два одинаково неточных слова). Однако всерьёз ставить рядом два этих имени (Сати и Радиге) — чистейшая нелепость и натяжка, если не более того: очередное свинство «доброго Жана», словно бы выполненное в технике старого-доброго фумизма. С самого начала этот малыш-Радиге не вызывал у папаши-Сати никаких положительных эмоций. Скорее, пустое место, — чем человек. Возвращаясь на один шаг назад, можно сказать, что он «терпел его» как не слишком-то приятное приложение к петуху-Кокто (который и сам был отнюдь «не подарок»), отлично понимая, что в случае чего «посылать к чорту» придётся их обоих в комплекте (но никак не по отдельности). В общем, старина-Жан в очередной раз высосал тему из пальца (как говорил Сати, «раздул свой мочевой пузырь до размеров автобуса»): смазливый мальчик («мсье Малыш»), типичный парижский денди, нарцисс и щёголь (лишнее напоминание о Равеле) — был как проходящая вещь, не более того. Оставшись с мэтром взаимно корректными друг к другу (благо, что встреч было очень мало), они попросту не вступали в какие-то отдельные отношения. Даже если принять во внимание тщедушное либретто к несостоявшейся опере, Раймон Радиге был и остался для Сати креатурой Жана & безнадёжно «третьим (чужим) лицом», не слишком-то приятным и самостоятельным. «Нолик с палочкой»... — И это, в целом, всё, что можно сказать об этих двоих, несомненно, «живших в одно время» (и в одном месте), а также — ходивших «по одной дороге». Вот только ботинки у них были — разные.
- ↑ Как и полагается в некрологах, Кокто «кончил совсем за’упокой», — попросту говоря, соврал ради своей ностальгии по «умершему мальчику» (как заправский пускатель дыма, наученный годами стажировки у последнего мэтра парижского фумизма). Даром, что главный герой мелодрамы не читал его (дважды) прочувствованного некролога: вот уж в самом деле, гдé на..стоящий «Пример Эрика Сати». Да такой ещё «пример», что всем примерам — перемер! — Ах, видал бы «папаша-Сати» этот по..смертный петушиный шедевр с пространным «чтением сказок Андерсена и Радиге» в финале оперетты!.. Какая роскошная порка!.. — у меня заранее зализываются глаза! — Ну и скотинка же ты стое-рó-сова-я, Ваня Петухов!..
- ↑ Восклицание патетическое, высокопарное и, прямо скажем, — не вполне к месту. Жан Кокто никогда не отличался сродством к смерти или, говоря шире, склонностью поскорее покинуть этот мир (скорее Нарцисс, чем Сократ). Или даже два нарцисса: один поверх другого. Летом 1925 года, в момент написания некролога мсье Петуху едва исполнилось 36 лет (меньше половины срока), а «к своим друзьям» он присоединился только в октябре 1963-го, будучи 74-летним красавцем и пережив их обоих, вместе взятых. — Навряд ли бедные «друзья» его узнали «там, где они его (так долго) ждали». Не стану лишний раз говорить о «мсье Малыше», но «дорогой мэтр» сказал всё — о своём ожидании второго «пришествия Петуха» — за полтора года до своей смерти, за десять дней до смерти Радиге и за месяц до полного разрыва с Иваном Петухом. Очень простыми словами (сказал), словно бы для ребёнка. И без обиняков, совсем как в собственном некрологе, до предела прямо, честно и благородно: «Кокто продолжает меня ужасно утомлять своими приевшимися интригами. <...> Он, как всегда, приписывает себе якобы сделанные им находки (& на самом деле потихоньку «шныряет» по чужим карманам). Но — не будем больше о нём говорить. Он слишком лжив..., я очень не люблю такие кривые лица». *(из письма Жану Герену, 2 декабря 1923, «Воспоминания задним числом», стр.576)
Ис’точники
- ↑ М.Н.Савояров, «Переход» (1919). «Подмётки» к сборнику «Вариации Диабелли» (1903-1929 гг.) — «Внук Короля» (двух...томная сказка в п’розе). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2016 г.
- ↑ Иллюстрация — портрет Жана Кокто работы Жака-Эмиля Бланша (фрагмент). Картина довоенных времён или первого года войны ( ~ 1912-1915, до знакомства с Сати).
- ↑ Статья впервые опубликована в посмертном номере «Музыкального оборзения», полностью посвящённом Сати. — Paris: «La Revue Musicale». Août 1925. №10. Un numéro posthume du magazine entièrement consacré à Erik Satie
- ↑ Иллюстрация — стоп-кадр похорон из кинофильма Рене Клера «Антракт» (фильм-антракт из балета «Спектакль отменяется», 1924). Очередной катафалк, запряжённый верблюдом.
Лит’ература (слегка примерной)
- Д.Губин, Юр.Ханон. «Музей Вождей». — Лени’град: программа «Монитор» от 8 апреля 1990 г.
- Д.Губин «Игра в дни затмения» (Юрий Ханон: интер...вью). — Мосва: журнал «Огонёк», №26 за 1990 г. — стр.26-28
- Юр.Ханон «Музыка эмбрионов» (интервью с Максимом Максимовым). — Лениград: газета «Смена» от 9 мая 1991 г., стр.2
- Юр.Ханон. «Лобзанья пантер и гиен». — Мосва: журнал «Огонёк» №50 за декабрь 1991 г. — стр.21-23
- Юр.Ханон, «Скрябин умер, но дело его живёт» (интервью с Кириллом Шевченко). — Лениград: газета «С...мена» от 13 ноября 1991 г., стр.7
- С.Кочетова. «Юрий Ханон: я занимаюсь провокаторством и обманом» (интервью). — Сан-Перебург: газета «Час пик» от 2 декабря 1991 г., стр.11
- Юр.Ханон. «Александр Николаевич (январские тезисы)...» (к 120 годовщине со дня рождения А.Н.Скрябина). — Сан-Перебург: газета «Смена» от 7 января 1992 г. – стр.6 (и последняя)
- Юр.Ханон. «Моя маленькая ханинская скрябиниана». — Мосва: журнал «Место Печати» №2 за 1992 г. — Приложение: к 120-летию со дня рождения А.Н.Скрябина, стр.102-135.
- Юр.Ханон: «Эрик-Альфред-Лесли, совершенно новая глава» (во всех смыслах). — Сан-Перебург: «Ле журналь де Санкт-Петербург», № 4 за 1992 г., стр.7
- Юр.Ханон. «Несколько маленьких грустных слов по поводу годовщины усов» — Сан-Перебург: газета «Смена» от 6 января 1993 г. – стр.7
- Юр.Ханон, «Разговор с психиатром в присутствии увеличенного изображения Скрябина», — Москва: журнал «Место печати», №4 за 1993 г.
- Юр.Ханон. «Скрябин как лицо» (первый обрывок). — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки», 1993 г.
- Юр.Ханон. «Скрябин как лицо». — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки» & изд.«Лики России», 1995 г. — том 1. — 680 с. — 3000 экз.
- Юр.Ханон. «Скрябин как лицо» (издание второе, до- и пере’работанное). — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки» 2009 г. — том 1. — 680 с.
- Юр.Ханон. «Скрябин как лицо» (часть вторая), издание уничтоженное. — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки & те же Лики России, 2002 г. — 840 стр.
- «Ницше contra Ханон» или книга, которая-ни-на-что-не-похожа. — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки», 2010 г. — 836 стр.
- Эр.Сати, Юр.Ханон «Воспоминания задним числом» (яко’бы без под’заголовка). — Санкта-Перебурга: Центр Средней Музыки & Лики России, 2011 г.
- Юр.Ханон «Русский Шумахер» (роман’с без слова). — Центр Средней Музыки, Сана-Перебур (no publier, en un an).
- Alphonse Allais «Cher Monsieur vous-même». — Paris: Librairie Arthème Fayard, 1999.(зачем это?)
- Alphonse Allais «Album Primo-Avrilesque». — Paris, Ollendorf, 1897.
- P.Collaer. «Correspondanse avec ses amis musicians». — Mardaga: presentee par Robert Wangermee, Sprimont, 1996.
- Cocteau J. «Еrik Satie». — Liège, 1957.
- Жан Кокто. «Петух и Арлекин». — Мосва: Прест, 2000 г.
- Combarieu J., Dumesnil R. «Histoire de la Musique», t.IV, V. — Paris, 1958, 1960.
- Landormy P. «La musique francaise après Debussy». — Paris, 1943.
- Encyclopedie de la musique. — Paris: Fasquelle, 1961.
- Rey, Anne. «Satie». — Paris: Seuil, 1995.
- Satie, Erik. «Correspondance presque complete» (réunie et présentée par Ornella Volta). — Рaris: Fayard; Institut mémoires de l'édition contemporaine (Imec), 2000.
- Satie, Erik. «Ecrits» (par Ornella Volta). — Paris: Champ libre, 1977.
- Ornella Volta. «L’Imagier d’Erik Satie». — Paris: Edition Francis Van de Velde, 1979.
- Templier P.-D. «Erik Satie». — Paris: Les éditions Rieder, 1932. — 102 p.
- Элен Журдан-Моранж. «Мои друзья музыканты». — Мосва: Музыка, 1966 г.
- Франсис Пуленк. «Я и мои друзья». — Лениград: Музыка (Ленинградское отделение), 1977 г.
- Г.М.Шнеерсон. «Французская музыка XX века». — Мосва: Музыка, 1964 г., 2-е изд. 1970 г.
- Филенко Г. «Французская музыка ХХ века». — Санта-Лениграда: Музыка, 1983 г.
- Мэри Дэвис. Эрик Сати (пер.Е.Мирошниковой). — Мосва: Ад маргинем, 2017 г.
- Юр.Ханон «Савояры царя Авгия» (третий конденсат). — Сана-Перебур, Центр Средней Музыки, (no publier, en un an).
- Юр.Ханон «Альфонс, которого не было» (или книга в пред’последнем смысле слова). — Сан-Перебург: (ЦСМ. 2011 г.) Центр Средней Музыки & Лики России, 2013 г. — 544 стр.
- Юр.Ханон. «Вялые записки» (бес купюр). — Сана-Перебур: Центр Средней Музыки, 191-202 гг. (сугубо внутреннее издание). — 121 стр.
- Юр.Ханон, «Мусорная книга» (в трёх томах). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 191-202-221 гг. (внутреннее издание)
- Юр.Ханон. «Не современная не музыка» (интервью). — Мосва: жернал «Современная музыка», №1 за 2011 г. — стр.2-12
- «Ханон Парад Алле» (или малое приложение к большому прибору). — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2011 г.
- Юр.Ханон, Аль Алле. «Мы не свинина» (малая ботаническая энциклопедия). — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2012 г.
- Юр.Ханон, Аль.Алле, Фр.Кафка, Аль.Дрейфус «Два Процесса» (или книга без права переписки). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2012 г. — 624 стр.
- Юр.Ханон «Чёрные Аллеи» (или книга, которой-не-было-и-не-будет). — Сана-Перебур: Центр Средней Музыки, 2013 г. — 648 стр.
- Юр.Ханон, Аль Алле. «Не бейтесь в истерике» (или бейтесь в припадке). Третий сборник (второго мусора). — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2013 г.
- Юр.Ханон «Три Инвалида» или попытка с(о)крыть то, чего и так никто не видит. — Сант-Перебург: Центр Средней Музыки, 2013-2014 г.
- Л.А.Латынин, Юр.Ханон. «Два Гримёра» (роман’с пятью приложениями). — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки», 2014 г.
- Юр.Ханон «Книга без листьев» (или первая попытка сказать несказуемое). — Сан-Перебург, Центр Средней Музыки, 2014 г.
- Юр.Ханон, «ПАР» (роман-автограф). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2015 г.
- Юр.Ханон «Неизданное и сожжённое» (на’всегда потерянная книга о на’всегда потерянном). — Сана-Перебур: Центр Средней Музыки, 2015 г.
- Юр.Ханон «Животное. Человек. Инвалид» (или три последних гвоздя). — Санта-Перебура: Центр Средней Музыки, 2016-bis.
- Юр.Ханон, Мх.Савояров. «Внук Короля» (двух...томная сказка в п’розе). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2016 г.
- Мх.Савояров, Юр.Ханон. «Избранное Из’бранного» (худшее из лучшего). — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2017 г.
- Юр.Ханон, Аль.Алле. «Последний рассказ» (или надгробие гения). — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки», 2017 г.
- Юр.Ханон, Мх.Савояров. «Через Трубачей» (или опыт сквозного пре...следования). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2019 г.
- Юр.Ханон. «Уходящая книга» (вид со спины). — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2020 г.
- Юр.Ханон, Эр.Сати. «Малая аркёйская книга» (или скрытый каталог школы иезуитов). — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2021 г.
- Савояровы
: после слов ie. — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2023 г.
- Эр.Сати, Юр.Ханон «Воспоминания задним числом» (издание второе, углýбленное и ухýдшенное). — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2025 г.
См. также
см. д’альше →
 Автор : Юр.Ханон. Все права сохранены. Автор : Юр.Ханон. Все права сохранены. 
Auteur : Yr.Khanon.  All rights p..reserved. All rights p..reserved.
- * * * эту статью может редактировать или исправлять
только один автор, (не)известно какой.
- * * * публикуется в...первые :
текст, редактура и оф’ормление — Юр.Ханóн.
— Желающие сделать некое замечание или заметку,
могут передать её напрямую или через какого-нибудь педагога,
если, конечно, поняли, о чём речь...
« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »
|