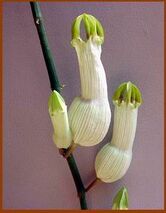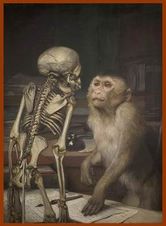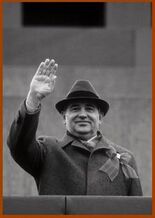Трескунчик, ос.43 (Юр.Ханон)
( арьергардный балет № 1 ) слово авангард с словом арьергард?[1] ( Вл.Ленин )
в’место в’ведения эй
...пожалуй, кое-кто меня ещё и спросил бы, а почему, собственно говоря, оно приспело-то? Откудова всё внезапно взялося? Вроде, ничего особенного не случилось-то... Десять лет шло себе потихоньку, потом ещё десять (считай, уже двадцать), и даже тридцать — и всё тихо было. Значит, не приспевало. А тут вдруг — р-р-раз! и приспело, в один прекрасный день. И чтó такое стряслось, вот хотелось бы знать (въ послѣднее-то врѣмя)... — Ну что тут скажешь: вопрос хороший, конечно. Пожалуй, я бы ещё и ответил (на него), сегодня, пока рот ещё открывается..., — благо, это совсем не трудно, ответить-то. Как говорится всё прямо здесь валяется, на поверхности. Бери, да лепи, отвечай. Всё верно. Всё так. Но впрочем, сейчас не стану это делать. Чтобы, как говорится, не рыть яму тут же..., с сáмого начáла. Вернее всего, отложу немного..., и оставлю, так сказать, напоследок. На сладкое. После всего...[3] Переместив туда, глубоко вниз, на то приятное местечко, до которого ещё и не всякий сможет как следует опуститься. Точнее говоря, дотянуться. А ещё точнее — при..подняться, конечно. Привстав на цыпочки. — впервые за всю жизнь —
в’место по’веденияУслышишь, что шум шагов слабеет,встрепенёшься... идёт арьергард.[4] ( Иван Лажечников )
« ТрескунчикЪ »
...Я пишу десятки своих сочинений, заранее не рассчитывая на исполнение или постановку. У меня огромное количество неисполненных произведений. <...> Задуман большой балет «Каменный гость» и ещё ряд маленьких балетов крайне тёмного содержания. К примеру, это триптих одноактных балетов провокационного характера, первый из них — «Трескунчик», где <предельно> сжато воспроизводится фабула чайковского «Щелкунчика».[комм. 4] Затем следует «Окоп» — первый в мире балет на пересечённой местности...[5] Пожалуй, к тому можно было бы прибавить (сильно понизив голос), что с той поры, — именно, с весны 1990 года, — кажется, уже прошло кое-какое время (это если мягко выражаться). И так же мягко стелить. Очень мягко. Но ежели уже тогда автор счёл возможным столь щедрыми мазками нарисовать картину для читателей театрального журнала, согласно которой у него «огромное количество неисполненных произведений», — то спустя три десятка лет, нужно полагать, «огромное» положение как минимум усугубилось. Потому что на бумаге они появлялись десятками (буквально как куриные яйца), да там и оставались сидеть сиднями, подобно печально известному балету невылупившихся птенцов М.П.[6] Вот и вся история, вкратце.
— Хотя, нет. Ещё не вся. Напоследок ещё следовало бы, пожалуй, задать вопрос ребром, да и не просто ребром, но с интонацией: а чтó это, мол, за «Трескунчик» такой?.. — его вообще кто-нибудь видал? Или слыхал, хотя бы? Не говоря уже об этом странном авторе, которого с той поры, кажется, так никто не видал и не слыхал...
Именно потому, собственно говоря, и появилась на свет эта бледная страница, что с тех пор очень мало кому (чтобы не сказать более крепкого словца) удалось услышать эту странную штуковину. А уж увидеть... — и того пуще, — видимо, совсем никому. Не удалось. Таким образом, в который раз вырисовывается старая, давно навязшая в зубах картина. — Трескунчик, значит, есть. На бумаге. Сидит тихо. Не высовывается. Даже не щёлкает. А как итог: звука с изображением — нет, пусто, zéro. Типичная картина в жанре: «много треску из ничего».[8] При том, что как минимум пять ведущих лениградских балетмейстеров в течение года после окончания партитуры слышали этот «провокационный балет» целиком или фрагментарно, получив, таким образом (из первой руки, надо думать), представление о его стиле и главном намерении, очевидным образом, ни на что не похожем. Среди таковых во первых строках можно назвать хотя бы такие фамилии: Виноградов, Боярчиков, Эйфман и Долгушин.[комм. 5] Таким образом, адресаты вопроса как минимум — известны.
При том, что все они (а равно и каждый из них), при очевидной разнице темперамента и умственных способностей, сошлись в одном: эта вещь оригинальная. Нестандартная. Эксцентричная. Ни на что не похожая. Трудно толкуемая. И как следствие, требующая точно таких же качеств от постановщика (если он один, что мало...вероятно). Само собой, всё перечисленное было крайне неприятно..., для каждого из них. Потому что... главным резюме, идеально выраженным вторым (малым) человеком из приведённого списка, было следующее: «...но я не знаю, как это поставить..., и я не знаю человека, который смог бы это у меня поставить...» [комм. 6] Сократив, как полагается, получим краткое и голое, как в бане: «nescio, ergo non est» (не знаю, следовательно, не существует...) — Какой дивный контраст с дядюшкой Декартом!..
в’место про’ведения...бегство неприятеля стало очевидно,[9]и наш арьергард, сделавшись уже авангардом, устремился преследовать его. ( Ф. Глинка )
« ТрескунчикЪ »
Подобные вопросы мне задают часто, и я всегда пытаюсь, как могу, объяснить, что моё дело — работать, писать партитуры, а не заниматься обычной человеческой суетой, налаживанием связей «с кем надо» и прочими человеческими «проставками». Есть, правда, один нюанс, слегка зловредный: у меня есть несколько готовых и до мельчайших деталей продуманных балетов, которые не записаны. Тут простой расчёт: время, что уйдёт на работу с партитурой, я могу с куда бо́льшим смыслом потратить на создание нового симфонического сочинения. Конечно, его тоже, скорее всего, услышат не скоро, но ведь в отличие от какой-нибудь симфонии собак любой непоставленный балет ложится «на полку» дважды: как отдельное произведение и как театральный спектакль.[комм. 8] И даже если музыка когда-нибудь будет использована, замысел всё равно останется нереализованным даже на треть...[11] Главная черта «Трескунчика» — формульная афористичность и яркость. По сути, он представляет собой идеальный жмых, сухой остаток после выжимки своего однофамильца (руки́ Петра Ильича). В том числе, и в прямом смысле слова. — Собственно, именно такая концептуальная цель и была поставлена ради попытки превратить первоначального щелкунчика в — окончательный трескунчик.[комм. 9]
— Ещё с самого начала, в процессе подготовки к работе над партитурой, автор попытался взять за основу старое либретто «Щелкунчика», усердно приспособленное к театру Мариусом Ивановичем. Казалось бы, чего проще: взять двухактный балет и сделать из него — одноактный, выжав всё главное. Однако, не тут-то было! По рассмотрении оказалось, что либретто «Щелкунчика» трижды разбавленное и полупустое, оно полно розовой воды и прочих видов мариинской театральной смазки, так что фактически его не может хватить даже на один «нормальный» акт.[10] Кроме того, большинство «событий» в нём попросту притянуты за уши (причём, ослиные, как показалось) и не имеют под собой реальных оснований, несмотря даже на их изначальную гофмановскую сказочность. В результате, отжав сухой остаток «Щелкунчика», автору пришлось добавить к нему обаятельную французскую народную сказку «Как осёл проглотил Луну», после чего фабула бывшего чайковского балета приняла более-менее приемлемый вид.[комм. 10]
Что и случилось в последний год существования той страны (августе 190), в полном соответствии с первоначальным намерением. В полное отсутствие Мариуса Петипа и прочих театральных надзирателей «Трескунчик» был сделан как территория полной свободы. И прежде всего, по своим размерам и статям: он (может быть) заявлен как «одноактный балет в двух актах». Его хронометраж составляет 40 минут с копейками (или час с мелочью).[комм. 11] При том, «Трескунчик» состоит из 40 балетных номеров с увертюрой и эпилогом (итого: 42 музыкальных номера). Одно это обстоятельство уже достаточно говорит о нём. Сорок минут звука. Сорок два номера. За вычетом достаточно длинной увертюры и флегматического эпилога легко понять, что каждый номер балета (за редкими исключениями) длится менее минуты. Вот почему я и позволил себе сказать: главная черта «Трескунчика» — формульная афористичность и яркость. По сути, он представляет собой жмых, сухой остаток после выжимки своего однофамильца. Как было сказано в «Тусклых записках» от 191 года, «Трескунчик» — тезисный балет, деловая хроника позднеромантического театра. Отсюда вырастает сухость, краткость фраз (в полном соответствии с названием балета), словно бы сказанных сквозь зубы. Жёсткие темы-тезисы, мелкие реплики, маленькие номера. При постановке не следует сглаживать сухость и скупость языка. Следует молиться на неё.[13] А если кое-кто пожелает выдать «Трескунчика» за ехидную пародию на романтический балет — это не более чем следствие его испорченности и простоты.[комм. 12]
Итак, я повторяю ещё раз.., перед тем как захлопнуть дверь (перед носом). «Трескунчик» сделан при помощи маленькой бензопилы. Это вековой (не годовой!) срез с позднеромантического балета. Сорок очень коротких балетных номеров (каждый — меньше минуты). Афористичность и навязчивая яркость музыки. Территория балетных штампов и трафаретов.[комм. 13] Предельная сжатость и хроническая хроникальность либретто. Хореография в полном соответствии с принципами Мариуса Ивановича. Минимум мимических или аффективных движений. Ни грамма гротеска или кривляния. Предельная чистота выдержки: от декораций до оркестровой ямы.[13] — Ну..., и какая тебе тут ещё пародия? Разве только..., единственный факт пародийности «Трескунчика» заключается в том, что он — до сих пор — не поставлен. Сегодня, спустя треть века после окончания партитуры. Пожалуй, это... последнее обстоятельство и позволяет определить его как сюрреалистический балет. Причём, сюрреалистический до предела. С мертвецкой серьёзностью. К примеру, в хореографии (несуществующей) Луиса Бунюэля. И с декорациями (такими же) Рене Магритта. Кто выступает постановщиком — мы уже слышали.
в’место при’веденияСамая трудная роль доставаласьобыкновенно арьергарду, а самая лёгкая — авангарду...[14] ( П. Висковатов )
« ТрескунчикЪ »
К сожалению, замысел балета может воплотиться только в балете. И когда я пишу музыку, то представляю себе балет целиком, весь его образ, иногда даже до отдельных деталей хореографии и сценического оформления. В принципе, я очень сожалею, что у меня нет своего хореографа, и функции балетного драматурга я тоже беру на себя поневоле, но зато и результат получается неожиданным и интересным: во всяком случае, редко, когда композитор, хореограф, либреттист и сценограф работают в столь тесной завязке и на одну общую идею...[11] Полная раскадровка и желаемый хронометраж номеров балета «Трескунчик» был полностью свёрстан за две последние недели до начала работы над партитурой. Напротив того, либретто балета (как чистовой текст) оказалось в арьергарде и последовало непосредственно за окончанием музыки. Так же, как это было в случае «Шагреневой кости» (вместе с одноимённой оперой-антрактом), либретто существовало отдельно от партитуры, не имея задачи намертво прилепить спектакль к музыкальной части.
Как уже было сказано (выше), основанием для либретто стал, прежде всего, одноимённый балет Чайковского, а также две сказки: «Щелкунчик или Мышиный Король» Гофмана и французская народная сказка «Как осёл проглотил луну», переведённая на русский язык в 1959 году.[17] Минимальная длительность балета ~ 40 минут (40 номеров, большинство из которых звучит меньше минуты).
— Маша Штальбаум; Примечание от автора: балет написан в жанре по’длинного романтического (классического) балета последней четверти XIX века. Все подробности постановки, декораций и хореографии должны быть выдержаны именно в этом стиле, как если бы его ставил Петипа или Легат. Никакого присутствия гротеска, «современного» балетного языка и, даже более того, ярко выраженного отношения не допускается. Чистота стиля прежде всего.[комм. 14] Иной подход приведёт к профанации балета. Образцами для постановки следует считать в первую очередь музейные балеты Минкуса («Дон Кихот» — особо), а также «Щелкунчик» Чайковского.[18] ( одноактный балет в двух актах ) Оувертюра. Действие происходит якобы во Франции, на лужайке у белой Монтастрюкской церкви, подле небольшого пруда. Тёплый летний вечер. Ярко светит луна, отражаясь в чёрной воде пруда.
в’место до’веденияАрьергард добровольцев кидалсяв контратаки, жертвуя собой.[19] ( П. Краснов )
« ТрескунчикЪ »
— Вы допускаете сейчас одну принципиальную ошибку <...>. Она заключается в том, что вы при прочих равных (в силу своего жизнерадостного характера) склоняетесь видеть во внешнем ряде всего лишь — шутку, анекдот, развлечение. Понимаете, в том внешнем ряде, который представляет собой не что иное как провокацию, ту самую систему стрéлок, указывающих в неверном направлении. <...> Вам смешно, вы склонны видеть во внешних проявлениях, в абсурде — юмор или шутку. Но я никогда не шучу! Вот, к примеру, обратите внимание: партитура моего последнего балета называется «Трескунчик». (Здесь я засмеялся. — К.Ш.) — Вот-вот, пожалуйте: ваша реакция опять однозначна. Однако я задаю вам простой вопрос: чего же тут смешного? Ну да, налицо очевидная рифма с известным балетом Чайковского. Рифма или даже гримаса. Но ваша трафаретная ошибка в том и заключается, что вы одним движением сбрасываете всё внутреннее напряжение, которое содержится в самом факте внешнего сопоставления..., при том, что ещё неизвестно, каково же оно, это сопоставление, может быть, оно, напротив того, — трагическое. Или драматическое. Но вы скидываете одним своим смешком поставленную проблему и плавно модулируете, съезжаете вниз от абсурда (с некоторым содержанием эксцентрики) — к шутке! Понимаете, просто к шутке. Всего лишь — шутке, анекдоту, этакому «капустнику»... Не слишком ли мало для целого балета? Представьте себе: сначала композитор, очередной онанист, как вы любите, это старый и лысый человек, вероятно, у него жена больна подагрой, он долго и уныло корпеет над партитурой, грызёт карандаши, страдает, возможно, это его лебединая песня... Затем оркестр, балетная труппа, постановочная часть и бухгалтерия театра, все много работают, потеют на репетициях, интригуют: кто будет исполнять ведущие партии, а кого пошлют на пенсию; впрочем, о театре вы куда лучше меня всё знаете <...>. — Наконец, вроде бы, всё закончено..., долгожданная премьера (если повезёт), на спектакль приходят люди, много людей. Они едут на общественном транспорте, давятся в автобусах, возможно, некоторые из них даже погибают в дорожно-транспортных происшествиях. Уцелевшие раздеваются в гардеробе, едят в антракте бутерброды с колбасой, в общем, полная картина социального ужаса. Страх и кошмар... Ну и теперь судите сами: во всём этом не больше шутки, чем, скажем, в съезде народных депутатов СССР. ...и теперь, после всего, меня ещё и спрашивают, в который раз: а в чём тут, собственно говоря, соль. Шутка это или не шутка, трескунчик или щелкунчик, малый театр или большой, — есть ли здесь хотя бы одна хлебная крошка смысла? Или ущерба? Каждый год по миру ставятся десятки, даже сотни современных балетов. — Одним больше, одним меньше, даже пьяному ребёнку ясно, что «присутствие» или «отсутствие» вообще никакого спектакля на профессиональной сцене не может поменять общей картины. Или содержимое окружающих её череп(к)ов, тем более. О чём тут вообще можно разсуждать, когда даже такие, казалось бы, сильные нетеатральные события как новая война, бомбардировка театра или массовое убийство в зрительном зале — и тó ничего не меняют.
И ничего не могут ... поменять. Находясь глубоко внутри их совокупной жизни, ровно на том же обыденном уровне тех черепов и черепков, среди которых и происходят.[22] Равно как и все прочие. — Ни на волосок выше. Они, сделанные и устроенные такими же людьми. И для таких же людей. Без малейшей попытки движения за границу нормы.[23] Скажем, вниз или вверх. Влево или вправо. В точности terre-à-terre, не выше и не ниже, — как говорил в таких случаях Шура Скрябин. Тем не менее, добавлю (понизив голос): всякий раз оставляя открытым для внешнего вмешательства, кажется, только одно место. Маленькое. Очень маленькое, вроде ахиллесовой пятки. Но всё же — уязвимое. Существующее и существенное. Через которое хоть и маловероятен, но всё же возможен внезапный прорыв. — Именно здесь, в этой точке слабости и находится, прошу прощения, последняя возможность и единственный смысл странных (и вечно отсутствующих среди них) событий, словно пришедших из другого мира, — таких, как, скажем, «Веселящая симфония», «Закрытый реквием», «Карманная Мистерия», «Перелистывая людей» или даже этот «Трескунчик», такой внешне простенький и безобидный.
Не случайно же этот автор с настойчивостью, достойной лучшего применения, называл свои арьергардные партитуры — «балетами-провокациями».[24] — Что именно они должны были провоцировать? Была ли в них заложена программа-максимум? Или автор ограничил себя только минимальным эпатажем?.. — мне кажется, здесь даже и спрашивать глупо. Потому что и так всё ясно. Заранее. И после всего.[3]
А меня после этого ещё и спрашивают: а почему, собственно говоря, именно сейчас, спустя треть века после окончания партитуры «Трескунчика», он появился снова? Как призрак с того света. Не было, не было, и вдруг — свалился как с неба. Или с дуба. Откуда всё взялось, внезапно? Разве случилось что-то особенное, в последнее время? Ну, лежала и лежала себе партитура в ящике, не выпрыгивала, не кричала, есть не просила. Тихо себе лежала, даже, может быть, лицом вниз. И так десять лет прошло потихоньку, а потом ещё десять (считай, уже двадцать), и даже тридцать — и всё было тихо. Значит, в ней не было нужды? А тут вдруг — р-р-раз! и нужда появилась, в один прекрасный день. Выпрыгнула. Как чёртик из табакерки.[25] Вот и хотелось бы узнать у этого автора: чтó же такое стряслось (въ послѣднее-то врѣмя)... Подавляющее большинство людей рождается, живёт и умирает — ...я сожалею..., но у меня не получится говорить об этом без краски стыда. И даже более того — позора. — Здесь и сейчас. В этом времени и месте. Во времена всеобщего засилия обывателя и мещанина. Среди десятков миллионов нынешнего населения, опустившегося до состояния подножного корма, истерики низкого потребительства и тотального безмыслия. Среди тысяч ресторанов, миллионов тачек, тёлок, пляжей и одуревших «турций с эмиратами». Когда всяк божий день жрут «как во время войны», блюют «как перед смертью» (не своей), а зрелищ требуют — «как на тараканьих бегах». Когда всяк божий день не видят того, что нельзя не видеть, — и забывают то, что нельзя забывать. Когда у каждого уважающего себя «гражданина» во рту — кляп из эклера, а в заднице — сало в шоколаде. Когда красивый и пустой «Щелкунчик», поставленный в начале 1890-х, менее чем за год до смерти своего несчастного автора, совокупными усилиями выжившей из ума армии московских плебеев, — за несколько лет сделался триумфальным символом всеобщего скудоумия. На билеты которого в убогом «Большом театре» записываются за полгода до очередных «декабрьских». Когда готовы, высунув язык, толкаться в очередях по ночам и в мороз, отмечая на руках номерки. Когда продают и перепродают по сотне тысяч рублей за одно место в партере, не говоря уже о «ложах». Когда вводят «строжайшие» запреты, продают билеты «с официальной регистрацией» и нанимают сотни мордастых охранников для контрольного контроля над контролёрами. Когда громко ловят одних мошенников и тихо выпускают на пастбище других. Когда пускают в театр только по паспорту и тщательно обыскивают на входе. А затем ещё и обсуждают с пеной у рта последние события «около искусства»...
| |||||||||||||||||||||||||
|
сторожевым полком, а мы зовём арьергардом.[28] ( М. Загоскин ) Ком’ментарии
Ис’точники
Литтера’турра ( с треском )
См. так’ же
Auteurs : Yur.Khanon & Yur.Savoiarov.
— Все же...лающие дополнить или продолжить, —
« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »
| |||||||||||||||||