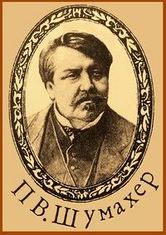Родня (Пётр Шумахер)
( вос’поминание о пр’ошлой правде )Шумахер мой, куда ж ты запропал?..[1]
Родня́ (1850-1920)..., — можно (с явным недо’умением) прочитать вверху этой страницы. Однако..., очень странное слово..., почти неприличное (тем более, сегодня, после всего). — И чтó за родня, какая родня, чья родня, наконец?.., хотелось бы уяснить. — Не торопитесь, господа..., минутку терпения, и я очень скоро кое-что скажу, исключительно в качестве дополнения... « Родня́ »... — конечно же, это не просто слово, а — название. Точнее говоря, название стихотворения... Конечно же, это — стихотворение Петра Шумахера, несмотря на якобы отсутствие автографа и не вполне корректную атрибуцию. И конечно же, это — не просто стихотворение Петра Шумахера, но весьма значительная, почти знаковая вещь (хотя и сделанная в ярко выраженном обсценном жанре).[3] Можно сказать даже — поэма (по масштабу заложенных в ней проблем... и по числу вложенных в неё идей)..., несмотря на весьма (не)скромный размер (всего-то 32 строки) и такой же вид. И всё же, согласитесь, диковатая идея: сделать отдельную страницу, большое эссе (почти книжку) — истратив свой невиданный ко(с)мический запал на какое-то дважды выеденное яйцо, всего лишь маленький срамной стишок. — Ну..., пускай даже и «поэма» (в о-о-очень «больших кавычках», говоря глубоко в скобках). Но ктó же об ней знает, об этой, с позволения сказать, поэме?.. Кому вообще она известна?.. — В конце-то концов, кризис жанра, что ли? Или делать совсем нечего стало?.. — Ну, предположим, захотелось призаняться всяким срамом и похабщиной... Так добро пожаловать в библиотеку, есть на свете вещи куда более значительные и богатые: к примеру, «Тень Баркова», «Гаврилиада» — ещё куда ни шло..., на худой конец, даже «Лука Мудищев» или «Ода нужнику»... Но брать в качестве основной темы обсуждения какие-то пяти’степенные тридцать две строки, — совсем маленькую & (не)скромную «Родню» забытого Шумахера... Чушь на постном масле. Сраму не оберёшься... — Наверное, всего лишь эпатаж автора эссе, и ничего больше.
— Нет, конечно, нельзя было бы утверждать, что это шумахеровское стихотворение — самое известное (хотя бы только в срамном жанре или только его авторства). Или — самое нашумевшее. Или, на худой конец, такое (показательное или модельное), по которому можно было бы судить о нём самом или о его творчестве. — Нет, не так... Всё не так. А местами, грустно сказать, даже совсем напротив. — Начать (и кончить) хотя бы с того, что даже по теме своей (к слову сказать, глубоко любовной и, отчасти, словно семейно-сословной) это стихотворение не вполне характерное и, тем более, не знаковое для Петра Шумахера. Говоря без ложной скромности..., ктó как не он сам (лично и пуб’лично) сформулировал свою сверх’цель в мировой литературе: «Хочу я новым быть поэтом: впервые воспою — говно»...[4] И ведь воспел.[комм. 1] И ведь стал. — Совсем не то дело — «родня», вещь хотя и яркая, но вполне лирическая и маргинальная для обсценного творчества Шумахера. Без единой капли краеугольного говна или смежных с ним предметов или аксессуаров. Просто — ещё одно удачное (а местами даже — очень удачное) стихотворение из числа его подпольных и секретных выходок «для всякого употребления»...[комм. 2] — И всё же, в семидесятилетней истории этих тридцати двух строк пересеклось так много силовых линий, что пренебречь ими... попросту не поднялась рука.
П Е Р Д У П Е Р Ж Д Е Н И Е ...к Кладбище – это самое замечательное место на свете.
Но далеко не только семья (в узком смысле слова), само собой. В любые времена любого кланово-родового общества..., каковым оставалась империя при благоверном Николае Палкине, и шагу нельзя было ступить без шуринов, кумов, своячеников, «крёстных отцов» и прочих повелителей всесильного мира искомых насекомых. В противном случае, о карьере даже и думать не моги!.. Особливо, если речь шла о власти. Или при ней. Тем более, «господа-херры» немцы..., в особенности — пруссаки, конечно. Как и сам право, славный русский царь. Без тевтонских рыцарей при дворе и в правительстве — ни шиша, ни гроша, ни маленькой штучки... Впрочем, с этой точки зрения у Шумахера всё было (как будто) в полном порядке. Начать хотя бы с крёстного отца... Ещё в августе 1817 года (спустя несколько дней после рождения дяди Пети) в этой роли выступил непосредственный начальник его драгоценного батюшки, некий Егор Францевич Канкрин (из своих, вестимо), проще говоря, прекрасный генерал, граф и будущий бессменный & незаменимый министр финансов при Николае Первом.
А впрочем, не стану дотошно & тошно (как немец) перечислять все родственные и прочие связи Шумахера-сына, уже давно описанные здесь (буквально за углом, в тёмном уголке у подворотни) в соседнем эссе «Трубадур царя Авгия». Ограничусь простой и холодной констатацией факта: всё что надо у Петра Шумахера (поначалу) было. И родня была. И семейственность. И клан — тоже был. И крёстные отцы, и связи, и даже свои люди..., все были, по-первости. И вообще, сам он был — из немцев (чтобы не сказать: ост-зейских). А потому: оставим эту тему. Поскольку с самого начала Пётр Шумахер заявил о себе как очевидный и несомненный отщепенец. — И это несмотря на весь шоколад в виде крёстного отца, золотых приисков и прочего металлического комплекта, при котором он был в качестве — смотрителя, «своего человека» от питерского генерала, министра финансов. — Почти государево око, можно сказать.
Протестант во всём, он буквально ни с кем не готов был согласиться. А если и соглашался (внешне), заставляя себя стерпеть, — то реванш затем получался оглушительный. Для начала..., закончив оршанский конквит (религиозное училище, где готовили доблих ксёндзов), Шумахер вынес оттуда исключительный заряд воинствующего безбожия. — Впрочем, на фоне всего остального роскошества антицерковный цинизм показался бы ещё мелочью, скромной деталью быта. Кажется, ни с чем на свете этот верзила не готов был примириться просто так. И даже — с самим собой. Всем своим обликом и поведением (демонстративным и девиантным) тех времён — он (человек Канкрина) — словно бы собрался опровергнуть поговорку: «что русскому хорошо, то немцу — смерть»... Высокий и крупный мужчина, с буйной шевелюрой (не поредевшей и не поседевшей до старости), он вёл жизнь разгульную и раскатистую, понимая толк в еде, питье и прочих удовольствиях, не говоря уже об их чудовищном количестве. [4] Не говоря уже о пьянстве и мотовстве («типично немецком», разумеется), — кажется, своей разбитной «рурской» физиономией Шумахер не затруднился бы затмить даже сибирских купцов. Некая светская дама, знавшая Шумахера по временам его иркутской жизни, оставила о нём воспоминания, говорящие о его облике (скорее, даже образе), почти театральном по своей яркости: ...Водку иначе он не пил, как большими чайными стаканами. Со своими друзьями, фотографом Брюэн-де-Сент-Ипполитом и доктором Персиным, за один присест обыкновенно выпивали четверть ведра. Несмотря на невероятное количество выпиваемых им спиртных напитков, я пьяным его никогда не видела. Это была сильная и закалённая натура. Выходя на улицу, он не надевал ни шубы, ни пальто и в самые сильные морозы щеголял в одном сюртуке. Домашний костюм его был — длинная женская рубашка, и больше ничего. <...> Впрочем, Шумахер отнюдь не стоял на месте... — Очень скоро (шаг за шагом) враньё стало приобретать всё более отчётливые черты стиля (впрочем, не меняя содержания) и трансформироваться — в такие свои формы, которые у людей чаще принято называть «искусством». Непрерывный поток (застольного) балагурства с годами стал всё чаще рифмоваться и расцвечиваться до состояния — высокой поэзии. Для начала, не-под-цензурной, а затем и паче того — не-цензурной или бес-цензурной..., говоря во всех смыслах. От поэтического до пол...литического... или попросту — полу’этического. Иной раз стихи шлифовались и оттачивались от пьянки до пьянки, существуя только в изустном варианте, а на бумагу попадали — спустя годы, да и то всё больше по нужде (вероятно, малой). Нередко случалось, что роль внештатной «секретарши» поэта выполняли собутыльники или случайные приятели, записывая (как придётся) самые полюбившиеся (а потому и чаще повторяемые) оды, спичи или поэмы.
Так, между делом, слово за слово — из спиртовых паров & влиятельных возлияний рождался новаторский «кислобздёшный жанр» (во главе с легендарным сборником «Кислобздей»). А также и целая масса примыкавших к нему цинических срамных стихов — к тому же сказать, очень часто сатир’ических — во всех смыслах этого слова. При этом особое положение управляющего золотыми приисками и личного представителя министра финансов (по деликатным поручениям) Шумахеру как-будто не слишком-то мешало вести подобный образ жизни (чисто немецкий, само собой, как у всей его родни)... — Благо, до Петербурга (от Иркутска) было далековато: иной раз вести доходили за год, чтобы не сказать более грубого слова...
— Впрочем, «особое положение» крестника министра продлилось не слишком-то долго. Старость, брат... В 1844 году «благодетель» и крёстный отец Шумахера, окончательно разболевшись, в очередной раз подал в отставку (при подобном раскладе товарищ царь уже не смог ему отказать), — а спустя год и «вовсе помре» (где-то там, за границей, совсем по другую сторону Урала).
Впрочем, сколотив на приисках неплохой капитал, Шумахер не слишком долго раздумывал: как ему поступить дальше. Даже для него прелести тогдашней сибирской жизни имели, пожалуй, слишком уж брутальный вид. На сборы ушло не много времени... — Последнее десятилетие царствия Николая Первого прошло для Шумахера в разъездах (между Нижним и Питером), путешествиях (по Европе с женой и без неё), шикарном пьянстве и таком же мотовстве.
— Когда из года в год идёт такой банкет, а золотых приисков под рукой больше не наблюдается, — результат заранее известен. Не прошло и десяти лет, как сибирские денежки иссякли. Банк из золотого стал красным. Кажется, и вся родня иссякла почти одновременно. — С той поры вся вторая половина жизни Шумахера прошла в нужде (более или менее острой), в конце концов, закончившейся богадельней (которую ещё можно считать за благо). Последние четыре года жизни старый поэт провёл в странноприимном доме графа Шереметева, где и умер — в мае 1891 года. Нижегородская родня Шумахера (даром что русские!), едва он оказался беден, очень быстро превратилась в натуральных супостатов. После 1855 года ему пришлось жить в доме деда жены, — всё чаще выслушивая чёрт знает какую пошлятину относительно своей никчёмности или грешного образа жизни. Об этих годах даже спустя два десятка лет Шумахер не мог вспоминать без особенного содрогания. Кажется, нижегородские времена он считал самыми отвратным из всей своей жизни (не исключая даже время выморочного следствия над его первой книгой). Позднее, в одном из его писем внезапно прорвалась столь нехарактерная для него по-настоящему трагическая нотка: «О Нижнем я вспоминать не могу: в нём я выстрадал самое тяжёлое, самое ужасное время своей жизни. От горя, грубых оскорблений, унижений я доходил до отчаяния, и ещё голова крепка была, что с ума не спятил». — Разумеется, меньше пить и куролесить в такой обстановочке он не стал... Скорее, напротив.
Пожалуй, нижегородская родня только прибавила очередного шарму и смыслу старому стихотворению («цинично осмеивавшему ту национальность, представители которой осели в высших сферах власти»). — «Благодаря» беспробудной мещанской пошлости своих временных сожителей, Шумахер получил дивную возможность взглянуть на действующих лиц, так сказать, по-новому: слегка сверху и даже изнутри. — Думаю, мало кто из пьяных собутыльников, в голос ржавших над идиотом-немцем, видел в «родне» хоть что-то вразумительное, кроме хлёсткой скабрезности или нецензурного анекдота. Однако именно в эти годы п(р)ошлая шутка постепенно приобрела неожиданную глубину и сложность истинного произведения искусства, приняв, переняв или попросту прицепив на себя внутренний нерв личной драмы. ...в конце 1860-х и в следующие десять лет столичной жизни главным (а временами и единственным) доходом Шумахера стали его «литературные концерты». Ещё одно новое дельце, в котором он всерьёз сделался «новым поэтом», одним из первых (впрочем, не без участия того же «говна»... человеческого). Правда сказать, нашумевшее уголовное дело с книгой «для всякого употребления» прибавило Шумахеру славы — в кругах либералов и прочих любителей фронды. Но зато публиковаться стало почти невозможно. И хотя срамной цензор Лонгинов вскоре покинул своё место (причём, ракоходом, вследствие естественного издыхания), цензура продолжала держать каждое слово Шумахера под особым прицелом. Изредка маленькие «трижды оскоплённые» стишки Шумахера засвечивались в журналах и газетах (почти всегда — под псевдонимом или вовсе без указания автора), но заметных средств для жизни это не давало. Так и вышло (благодаря одутловатой государственной машинке), что центр «легальной» деятельности Петра Шумахера сызнова сместился с печатного слова — на непечатное..., имея в виду: изустное. И поневоле поэту пришлось переехать с бумаги — на подмостки (разумея не приговор суда, но концертную сцену). В живом авторском исполнении (почти как в застолье) и в относительном отдалении от цензурных чиновников, его слишком-то свободная поэзия хоть как-то могла перебиваться с воды на хлеб (и вино, само собой). — В те времена поэту под шестьдесят, впрочем, это чистейшая формальность. Почти ничего он не утерял от прежнего образа, скорее приобрёл (особенно, если глядеть издалека, из зала). — Рослый, крупный, матёрый человечище с зычным голосом и буйной шевелюрой, настоящий красавец-сапожник на сцене, он по-прежнему производил эффект, и далеко не только «дешёвый».[комм. 3] Спустя годы один из шумахерских поклонников вспоминал громкие успехи его артистически раскованных, временами, смачных декламаций, когда колоритный кинический поэт «под гром аплодисментов читал со сцены собственные злободневные куплеты, всегда свежие и остроумные»...[4] И тем злобнее, и тем жёстче были его «газетные куплеты», что временами превращались почти в импровизацию..., на горячие события дня, часа, минуты. Такие-вот получались пирожки: с пылу, с жару... — Эх, брат, да ведь всё одно: говно. И всё горлом, горлом идёт!.. Тошно.
— Кстати сказать, не только «под гром аплодисментов...» поэту приходилось читать свои желчные куплеты (и вовсе не зря здесь выскочило это слово: куплеты), потому что вскоре к стихам присоединился и «гроб с музыкой». Частенько (когда позволял бюджет) Шумахер выступал в паре с цитристом по фамилии Бауэр, — пускай и не «родня», конечно, но всё же, ещё один артист известной национальности. Постепенно у них сыгрался эксцентричный дуэт, в котором музыкант (то и дело как следует вдаряя по струнам) подчёркивал живую интонацию авторского исполнения стихов, а поэт регулярно съезжал от мелодекламации — до пения, подвывания или переходил на ритмованный говорок. Именно в таком антураже (когда позволяла обстановка и публика, в особенности — студенческая) Шумахер постепенно разгорячался до того, чтобы исполнить «даже» некоторые обсценные стихи. Иной раз — замалчивая или подменяя ключевые слова, — мол, у меня с дикцией проблемы (знамо дело: немец, даром что сапожник). Да ещё (в плюс к тому) изрядно наигрывая лицом, руками и всякими выражениями из числа мимики на лице. Или ниже...
А затем, уже оставив концерты и отъехав до Москвы, уставший, больной и постаревший Шумахер по случаю узнал о выходе «в Царьграде» анонимного сборника «Между друзей», — львиная доля которого была «цельно’тянутой» из его стихов, од, апологов и «поем» — пердёжных, дерьмовых и (даже) генитальных. Между которых (на почётном пятнадцатом месте) красовалась и родня. Запоздалая слава поэта, под старость совсем обедневшего и ведущего грустную жизнь приживалы — в домах своих московских друзей и поклонников.
Иной раз, бывало, и бросишь в сердцах: ах, да чёрт бы его побрал! Не слишком ли много он себе тут думает, этот немец... Бог весть, но из многих стихов: срамных и не очень (Шумахер вообще мало для себя делал разницы между поэзией непечатной и печатной, эка важность: пряники) эта старая-недобрая «Родня» ему полюбилась более других и частенько выпрыгивала изо рта в повседневной речи, сделавшись чем-то вроде присказки или поговорки. Иной раз (для тех, кто знает), очень хлёстко и к стати между слов выскакивала эта ехидная строчка, не без интонации: «а немец думает: родня».
После «очередного» (на сей раз — окончательного) убийства Александра II обстановочка в стране сделалась окончательно зловонючей. Вроде бы и раньше-то свободы совсем немного было, чуть-чуть только подышать дали (даром что «царь-освободитель»), а теперь-то и вовсе гайки позакручивали, да шнурки позатянули. У кого — на руках, а кому — и на горле. Темно стало, мрачно, как в нужнике, да ещё и дырку наверху прикрыли..., чем-то массивным (похожим на громадную задницу). — Всякая дрянь да нечисть из углов повылезала на поверхность. — Что поделаешь, вздыхал Шумахер: говно в стоячей воде завсегда всплывает. Видимо, так и вовсе помирать придётся, при чортовых «патриотах».
Последние годы Шумахер ощутимо слабел, терял интерес к жизни и чувствовал себя всё хуже. Годы..., количество выпитого да съеденного (дерьма) неумолимо возвращалось и давило: каждый день и всякую ночь. Осенью 1890 года усталый поэт последний раз вернулся из шереметевской усадьбы Кусково — в шереметевский же странноприимный дом на Сухаревке, где у него была отдельная комната. Просторная, светлая, своя..., — не всякому такая дадена... Знать, кое-что всё ж заслужил за годы посильного труда литераторского. И вид из окна тоже ничего, вполне приемлемый. Не то что в Питере...
— Последние годы Шумахер всё больше работал с наследиями да архивами. Во первую голову, так получилось — с графскими, конечно (в тёплые времена года), составляя эпическую «опись дел» (ох, и пришлось пострадать на старости-то лет) и приводя в порядок исторические залежи кусковской библиотеки. Как раз в эти годы Шереметев принялся приводить в порядок застарелые фамильные дела, имея в виду подготовить для издания «Архив села Кусково». Часть этой крысячей работы с готовностью взял на себя Шумахер (с весны до осени проводивший в кусковском голландском домике). Книги он любил..., руками и всей душой. А к архивной работе ему вообще было не привыкать. В последний год Шумахер в разные руки раздал (друзьям да приятелям) небольшую стопку своих тетрадей, от руки списанных, да ещё и отдельно кое-кому со значением да со словечком, в конвертах — особые свои записочки, тайные... Каждому со своим винтом да с подковыркой. Что-то вроде бутылки, кинутой в море, с посланием в будущее. — Авось, подберёт кто, авось, что и получится...[3] — Таков, пожалуй, и был безрадостный итог этой жизни, во все годы сдавленной со всех сторон, да ещё и заткнутой пробкой. ...один из таких конвертов (явно из графской канцелярии)..., большой (в полный лист), пухлый, старательно заклеенный... На плотной сероватой бумаге было выведено нарочито внятным почерком, почти печатными буквами: ...моему драгому Мишке Саваяру,
...н
Как говорится, не спотыкайся лишний раз — о наружность. У этого предмета, противу всех ожиданий, есть ещё и содержание. Не во всяком же конверте можно отыскать только ассигнации государственного банка. В иных, что случается огорчительно редко, удаётся обнаружить и кое-что более содержательное...
Потому что, вскрыв пухлый конверт старого друга (в тот день, когда бы это ни случилось), кроме всего прочего — там обнаружилась и «родня», та самая (на отдельном листочке, аккуратно переписанная явно чужой рукой, не Шумахера). — Не просто так, конечно..., а с пометкой внизу (рукой автора)... ...наконец, возьми себе это в толк, юла... ...не знаю, многое ли успели обсудить меж собой (при жизни) два этих странных поэта (немец да савояр, старый да малый), но главное Шумахер определённо знал: счётов да счето́в со всякою роднёю (вбок и вниз, вплоть до «вениаминова» колена) у Мишки тогда уже накопилось предостаточно. Как говорится, выше крыши, только успевай разгребать.[3] По всему миру собирать можно было... эти родственные плевелы в зёрнах...
Начиная от приснопамятного коротышки-Наполеона (фактически, убийцы родного прадеда) или, не приведи господь, ещё и его внучатого племянничка номер-III, из-за которого, собственно, и привелось родиться здесь, в холодной да мокрой Москве, а не в каких-нибудь прозрачно-призрачных Альпах савойских; и кончая собственными родителями, — особенно отцом (кончая), конечно, Николаем (почти) Палкиным. Со свистячими (как соловей) шпицрутенами, розгами или ремнём в руках. Это с ним, «сморщенным идиотом», вечно царили злобоносные ругательства, тёрки да порки до посинения, — за вечное кривляние, неслушание да небрежение: что дома, что в учёбе, что на людях. В конце концов, от него, постылого (п)русака и сбежать пришлось спустя пять лет — к чёрту, в Питер.[9] Je retire. Лишь бы прочь отсюда. Обратными стопами — по старому пути Шумахера. Не говоря уже о дедушке-Радищеве...[12]
Не стану напрасно врать в датах и числах, однако верно одно: начиная с 1905 года в репертуаре сепаратного артиста Савоярова появились какие-то странные (буквально неуловимые, почти немые) летучие куплеты, докопаться до которых даже мне удалось далеко... не сразу, — я хотел бы сказать. И прежде всего — текст. Очень странный. Совсем не похожий на Савоярова тех времён. Три-четыре-пять куплетов в два столбика, сплошь «засиженные», подтёртые, сбоку и поверх испещрённые какими-то «птичьими» пометками (как воробьиные следы на снегу), вариантами, римфами... «Нехорошие» слова подчёркнуты, а в конце строки — поставлены «приличные» замены. Одна другой дурнее, как в старом анекдоте про репейник и задницу. Порой кажется, вроде гимназистка, комкая платочек, сидела над этой тетрадкой, вся пунцовая от стыда, — и пыталась любовное письмо переписать наново. Чтобы пристойно получилось, как у Тургенева...[13] И красиво. Ну, хотя бы — немножко. И ещё, поверх всего (очень крупными буквами) название: «Немец». А ниже размашисто, словно в крайней степени досады: «сам ты родня!» — Очень страшное зрелище (не для слабых умом).
К сожалению, любая эстрада имеет свою неминуемую специфику, не говоря уже об аро’мате (таком же, специфическом). И называется она, эта специфика, одним не слишком красивым словом: «публика». Вспомнить хотя бы классическое (по своему скудоумию) «воспоминание современника», который врал как свидетель, будто Шумахер «под гром аплодисментов читал со сцены собственные злободневные куплеты, всегда свежие и остроумные»... — «Куплеты», вот именно, куплеты!.. Отличное слово! — Тем и отличается артист от поэта, что умеет (ради публики) сделать из любой строфы — куплет, из поэмы — сатиру, а из баллады — частушки. Всего-то: вопрос интонации (для настоящего поэта, да ещё и эксцентрика — не проблема). Поскольку поставлена задача, цель. И всё только ради того, чтобы (по окончании) был он — «гром аплодисментов». Точнее говоря, он — «звон монет». Не будем забывать: токмо ради нужды (малой да большой) бедный Пётр Василич заставил себя вылезти (спуститься) на ихние подмостки. Почти как на эшафот. Примерно то же можно сказать и про его внучатого ученика, спустя десять лет после смерти дедушки-сапожника — двинувшего прямиком по его стопам. В концерты.[9] Вместе со своей наскрозь срамной, протестантской начинкой. — Внимательно поглядев на шумахеровскую «Родню»... (даже слегка прищурившись)... С целью анализа... Ну и (спрашивается) где ж тут куплеты?.. — вопрос для студента-двоечника. Нимало не сомневаюсь, что и сам Шумахер (на своих концертах с немецкою цитрой) приводил в исполнение свою «Родню» — именно в качестве таковых. Куплетов. — Только средства у него были немного другие (чем у внучка). Видимо, более тонкие. Поэтические. А также актёрские, застольные. Чисто: пьянь куплетная (один из вариантов). — Что же касается Савоярова, то у него наследие было совсем другое. Вместо графа — принц(ип), вместо полтинника — двадцать пять, вместо купеческой жены — такой же шиш от папы, вместо Нижнего — Питер болотный, вместо Сибири — оперетта (у Михайловского дворца). Вполне подстать разнице получились и — куплеты. Всамделе, уткнувшись носом в родню, при некотором умственном напряжении вполне можно узреть — потенциальный припев. Всего четыре строчки, они же и последние. В которых весь шарм, весь смак увесистого отпечатка шумахеровского кулака.
Ну а дальше... ничего особенного — вопрос техники. Для начала пришлось, конечно, слега причесать первоисточник (ох, тяжка ты, волосатая длань цензуры). — Не навсегда, конечно. Но с прицелом на тот случай, чтобы всегда иметь под рукой «легальный» вариант текста, «дозволенного» (или хотя бы возможного) к публичному исполнению. Конечно, не всё можно было одинаково «легко поправить» (случались, брат, и «неисправимые» потери), но простейшая замена слов (интонаций) всегда давалась не слишком-то трудно: вместо «сука» вполне годилась «бука», вместо «ебит» кое-как умещалось «не спит»..., ну, и так далее. Примерно полчаса-час работы и нечёсаный бродяга-Шумахер превращался во вполне прилично одетого Кукольника. Однако — то было лишь начало марлезонского балета. Потому что запев в двадцать восемь строк — хотя и длинноват, конечно, но всего один. А с таким шикарным припевом — хотелось бы успеть рассказать обо всём на свете, не только про какого-то мелкого шурина. Как говорится, кандидатур (для жены немца) пре’достаточно: и батюшка (поп), и дядька (исправник), и дедушка-министр (из кабинета), и кум (королю), и даже кузина (из дворян). Пожалуй, на этом тернистом пути (сатиры) приходилось особенно себя смирять, чтобы излишний стук копыт (по сцене) не доносился до стен цензурного комитета. — Но самое главное в таких случаях, конечно, интуиция. Только на неё надежда. Иначе-то как не ошибиться: при какой публике можно исполнять всего «на единичку», а при какой — позволительно и «совсем разойтись». Потому что далеко не в каждом зале были уши и глаза, готовые на донос. И даже более того, после 1905 года — таких стало совсем немного. Чаще всего — из присланных, сексотов или прочих подонков, которым делать было нечего, как только дозирать артистов.[комм. 7] — А немец, знай себе, всё подумывает...
Короче говоря, со словами получилось, пожалуй, если и не скорее, то — проще всего. Вместо стихотворения в тридцать две строки образовались куплеты (числом три-пять на разные случаи) с ярким четырёх’строчным припевом. Разумеется, литературно-философские потери здесь были ощутимые, чтобы не сказать, чувствительные. И прежде всего, форма стала традиционной (плоской), а главный смысл — ушёл куда-то на задний план, в кусты. И в этом пункте, пожалуй, савояровское вмешательство не сделало хорошей погоды...
И всё же, если посмотреть на шумахеровский текст по большому счёту, так сказать, «пур ле гран», то эта «безобидная шутка» окажется вовсе не столь проста, глупа и безыскусна, как обычно кажется (по принципу соответствия) всем тем, кто — и сам таков. Пожалуй, «родня» относится к числу тех текстов Петра Шумахера, глядя на которые вполне можно воспользоваться аналогией-Альфонса. В своих самых наглых фумистических выходках, замаскированных под «всего-лишь-юморески», он очевидным образом сделал заявку на (не)тёплое местечко предтечи дадаизма, сюрреализма, концептуализма и «даже» — минимализма. Примерно такие же «нумера» в своих эскападах откалывал и Шумахер, с тою только поправкой, что он имел несчастье родиться и жить при Николае Палкине, «ещё более невовремя, в стране ещё более старой», в которой не то что поиграть «оттенком смысла», но даже и просто пальцем указать — было уголовным преступлением. Но как раз по этой-то части «родня» явила собой образчик богатый (не хуже золотых приисков), да ещё и сундучок с двойным дном. Описанная в нём ситуация (анекдот, история) доведена до той степени психологического гротеска (абсурда), когда воспринимать персонажей иначе как сюр’реальных (по своей беспримерной тупости) невозможно. Однако, сдобрив лубочную сказку крокодиловой порцией мата и скабрезности, Шумахер, таким образом, (почти) восстановил утраченное равновесие. Ни один человек в здравом уме не готов воспринимать жёсткий «физиологический юмор» в качестве высокой философии.[3]
Как я уже намекнул выше, савояровские исполнения куплетной «родни» прослеживаются «вниз» — примерно до 1905 года. Вполне возможно, что события «первой революции» и послужили решающим толчком, когда опереточный артист «решился» вынести на сцену тексты столь раскованные & рискованные. Тогда же (осенью 1905) он жестоко поплатился за свои антицерковные выходки. Вероятно, в числе «зачтённых грехов» был и коитальный куплет про «духовного отца».[комм. 9] — Нечего и говорить о том, до какой степени такие удары формируют характер и жизнь артиста (тем более, когда ему ещё нет и тридцати). Словно после пластической операции, избитое жандармскими бандитами лицо Савоярова-артиста, поэта, музыканта..., с той поры изменилось до неузнаваемости. И навсегда...[3] — Конечно, здесь не место..., и не здесь место для подробного разбора новых его черт. Одно можно сказать наверное: экстремальный артист Савояров, рвотный шансонье, натуралистический дэнди и цинический «король эксцентрики» не существовал бы без шумахеровской прививки отборным (человеческим) говном, — прививки, в которой «родня» заняла отнюдь не последнее место. — И прежде всего, как пример внутренней (а затем и внешней) ничем не ограниченной (отвязанной!) свободы, почти нап(б)левательства на нелепые условности и подлости мира людей. Той взрывной анархической свободы, которая затем, в ежовые годы тотальных репрессий заставила замолчать о Савоярове — буквально всех, кто только его помнил, видел (или знал). — И всё же, поневоле придётся признать обратное: нападение черносотенцев его ничему не научило (кроме, разве что, одной специальной дисциплины: мимикрии или скрытности на местности). Едва поправившись и залечив раны, неугомонный Савояров сызнова принялся за прежнее, хотя и с некоторыми предосторожностями (косметического характера). И снова на обочине репертуара засветилась кое-как отретушированная «родня» — постепенно выковывая фирменный (грубый и натуралистический до предела) савояровский стиль, вполне проявившийся только спустя десять лет. Видимо, передразнивая расхожее чеховское определение,[18] в лексиконе Савоярова очень скоро появилось особое (слегка шумахеровское) понятие: «давить немца». Правда, смысл у этого занятия был едва ли не противоположный. Даже самое слово «давить» означало не «изживать» (выдавливать, чтобы удалить вон), а «нажимать» (выдавливать наружу из-под кожи, чтоб всем видать было), буквально — педалировать, акцентировать, играть на немецкой струне. И здесь тоже было далеко не всё так просто. Как говорится, «беда (и свобода) не приходит одна». — Слово за слово, струна за струну, иной раз только диву даёшься: как далеко можно оказаться от исходного места...
Иной раз, глядя на пресловутую шумахерскую «родню», только диву даёшься: какой непостижимо-новаторский заряд принёс за собой его, на первый взгляд, простенький текст, заряженный цинической энергией отрицания. Кажется, попадая на «родственную» территорию, Савояров (словно типичный подросток) буквально плевал на все правила (в том числе — приличия) и начинал позволять себе «всё что нельзя»..., и даже более того: «чёрт знает что». И каков же был, с позволения сказать, результат?.. — А результат был таков: диковатые куплеты с очень длинным запевом превратились в настоящий полигон по дальнейшему отвязыванию отвязанной свободы... или своеобразную «творческую лабораторию» (говоря жёваным языком искусствоведения), в которой артист (отрываясь «по полной») опробовал один за другим все приёмы, которыми спустя десять лет прессовал свою неотёсанную публику. Почти всё, начиная от новых приёмов «дурного аккомпанемента» (фортепиано, скрипка, свистульки и прочий мусор) и кончая изысканной «поэтической рвотой», прошло обкатку на швабских полях «немца»... (словно бы по дьявольской иронии здесь выскочило именно это слово!.., — казалось бы, менее всего пригодное для любой анархии, свободы или жёсткого эксперимента).[комм. 10] Не рискуя ударяться в подробный анализ (мочи и кала), попробую хотя бы перечислить савояровские «открытки», сделанные (для себя и будущей публики) на каменистой ост-зейской почве.
...помнится, первым пунктом там значилось «давить (или давать) немца», имея в виду особенную манеру тупого продавливания всех приёмов исполнения куплетов. Фактически, узаконенный «дурной вкус», возведённый в ранг везде’ссущей эксцентрики. Ещё толком не отыскав своего собственного сценического стиля (манеры, образа), Михаил Савояров постепенно нащупывал эффективные пределы возможного (или потребного) через пограничный материал Шумахера (фактически говоря, находившийся далеко за границей). Именно этот пример и привёл спустя десять лет к тому, что едва ли не всё савояровское творчество (за исключением цензурного чистописания и легальной «пыли в глаза») переместилось — именно туда: в заграничную область недозволенного или недопустимого. Передразнивая модные в те времена «-измы», выраставшие на литературной поляне не хуже поганок, Михаил Савояров обозвал новый стиль фонфоризмом (или фонфористикой). Нужно ли и говорить, что единственным представителем и главой этого течения стал сам «король эксцентрики» (если не считать, конечно, блаженной памяти учителя, дядю-Петю Шумахера). — Хотя..., как кажется на просвет, здесь не обошлось и без небольшой подтасовки. Не раз в савояровских записках проскальзывают отсылки к дымным тезисам парижского фумизма, в те времена уже угасшего (как вчерашняя сигарета), но успевшего изрядно затуманить атмосферу.
...так, среди прочего, возник и ещё один специфический музыкальный термин: «давать соплей». Обнаружив, что «плохая» (фальшивая, невпопад) игра на скрипке иной раз конвоирует куплеты куда ярче «хорошей», Савояров не только поставил это дело на поток, но и постарался всячески углубить открытую terra incognita. Публика катилась со смеху, когда «немец давил» всё «мимо» на своей дурацкой скрипке, не согласуясь ни с ритмом, ни с тоном аккомпанемента. И здесь, как оказалось, не было никаких пределов в следовании по пути непринятого или недозволенного (проще говоря, дурного вкуса или тона). «Чёртову клоуну» всё списывалось на «скудоумие», не говоря уже о беспробудном «пьянстве». Именно таким путём, истово изображая «плохого» или глухого скрипача (очередного «давлёного немца», которому слон на ухо наступил), Савояров натолкнулся на будущую политональность, имевшую превосходный публичный эффект. И случилось это скабрезное событие, между прочим, почти за десять лет до аналогичных (хотя и не таких «скрипуче-скрипичных») открытий Эрика Сати. Чтобы не вспоминать ещё про Дариуса Мийо. Альбера Русселя. Или даже «немца» Пауля Хиндемита, не приведи господь... — Впрочем, для Савоярова все эти фамилии и имена не имели ровно никакого значения. Главное, чтобы имело эффект!..., а значит, звучало (или выглядело) дёшево и сердито. Пыль в глаза. Дым в лицо. Лапшу на нос... — Раз за разом срывая восторг публики, забавный скрипучий приёмчик постепенно «легализовался» и так закрепился в репертуаре на правах «узаконенной» эксцентрической выходки. В итоге придурковатый «немец» принялся врать, бунчать и фальшивить на регулярной основе, когда скрипичный ритурнель, отделявший куплеты один от другого — следовал в некоем подобии (упавшего с дуба) соль-минора, в то время как педантичный аккомпаниатор-болван продолжал давить на клавиши в прежнем ре-мажоре. И здесь тем более не было пределов импровизациям (или границ безобразиям): музыкальным, мимическим и комическим, так что приведённый (выше) нотный пример следовало бы посчитать только за примерный скелет или канву (ниже пояса), начиная с которой можно было снова и снова запускать разговор — «по большому счёту».
К слову сказать, означенный в черновиках «Д-дур» (причём, выведенный и обведённый русскими буквами), по-видимому, чем-то очень привлекал или забавлял: сначала Савоярова, а вслед за ним — и его пьяного скрипачика. Во всяком случае, это «экзотическое» слово было написано повсюду, на полях и посреди страницы, раз десять, аккуратно выделено, а местами даже перечёркнуто красным цветом (в знаменитом стиле цензорского карандаша). Видимо, чтобы пресловутый «немец давил» на свой «Д-дур» с неослабной силой, ни на минуту не забывая о предначертанном курсе. И всё же, не всё здесь лежит прямо на поверхности (точно так же, как и в шумахерской простенькой «поэме», с позволения сказать). Учитывая, что в первую половину своей жизни «король эксцентрики» был почти голым (с точки зрения традиционного музыкального «образования»), — трудно предположить, чтó именно так привлекло его величество к этой тональности (или здесь имелась в виду уже не тональность?) Казалось бы, и чего здесь такого..., — было бы о чём разговаривать!.. Банальный (школьный) ре-мажор, всем знакомый и никому не слышный... — Ни ухом, ни рылом. Не более того.
Вполне возможно, здесь опять скрывалась какая-то особая (био-графическая) «рифма»... или воспоминания о старинном разговоре, какие-то маленькие слова, уходящие далеко назад, в усадьбу Кусково и предпоследний шумахеровский год, числом 1890... Не стану гадать, пока не разыщу наверное (эту чёрную жемчужине в куче известного материала, как всегда)... Где-нибудь в закоулках шереметевского парка, под берёзой со старым скворечником... — А вот, ещё в одном месте черновой тетради остался брошенным, вероятно, и кое-какой ключ к разгадке, где Савояров в очередной раз с важным видом вывел своё каллиграфически-жирное Д-дур, а ниже в скобках скромно прибавил, словно из-за угла: (дойчь).
И
...Потому что..., потому что... — ведь только тем и отличается большой художник от плебея, обывателя, банального человека нормы своего времени и места, что умеет, способен он видеть и делать из пустого хлама Вещь... — там, где обычный потребитель способен только увидеть в сделанной Вещи — пустой хлам, мусор, чушь и ерунду...[24]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ис’ сточники
Лит’ература ( и безо всякой «родни» )
См. тако же
— Все желающие сделать замечания или дополнения,
« s t y l e d & d e s i g n e d b y A n n a t’ H a r o n »
| ||||||||||||||