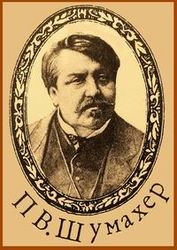Дмитрий Богемский (Михаил Савояров. Лица)
( или ещё одно бревно поперёк дороги ) Дима наш, не-об-хо-Димый,
В
А значит, мы можем косвенно понять и сделать такой превратный вывод, что даже в том месте..., и в те (несомненно, святые и возвышенные) времена регулярно происходили нарушения не только общественного правопорядка, но и упомянутых заповедей, когда всякий смертный (или, по крайней мере, многие из таковых) вполне могли произвести одно или несколько действий из предложенного выше списка, совершив своё «убий, укради, нарушь, произнеси, возжелай, вырой и проч, и проч...» Но с другой стороны, ведь и современная жизнь представителей вида Homos apiens едва ли не каждый (божий) день даёт нам тысячи и миллионы примеров подобного рода (довольно только ознакомиться с ежедневными новостями), когда начинает казаться, что и по сей день элементарные заповеди из старого списка так и не возымели своего благотворного действия. А перечисленные в скрижалях «не убий, не укради, не нарушь, не произнеси, не возжелай, не вырой и проч, и проч...» так и не принесли нужного результата, несмотря на вполне достаточное, как казалось, время и примерно такую же проделанную работу. И по сей день едва ли не каждый семейный шкаф скрывает в своих сокровищницах по нескольку родных или даже единокровных скелетов, а время, несмотря на благотворные качества по массовому укрыванию и стиранию, нет-нет — да выкидывает на поверхность почвы очередную зарытую собаку.
— Вот так и аз, грешный... Едва ли не четыре десятка лет посвятив тяжкому недоум(ен)ию и попыткам постичь некую почти сюрреальную по своей странности картину тотального умолчания персоны и наследия Михаила Савоярова, я всякий раз выделял из неё отдельно стоящий вопрос о полном отсутствии — здесь и сейчас — его живого голоса. Именно так: живого голоса. И не напрасно я повторил это сочетание слов, понимая его во полном наборе доступных (и части недостумных) смыслов. Во всех видах и ракурсах. А также — в любой форме и любых формах. Пускай даже и в состоянии самых жалких остатков: заезженных рудиментов на скорости 74 оборота в минуту. И в самом деле, немой вопрос напрашивался сам собой: кáк же тáк могло получиться, братцы мои, что самый популярный (и скандальный) «рвотный шансонье» последних лет Империи (песенки которого распевал весь Петроград),[4] знаменитый «король эксцентрики» и единственный «русский фумист» не оставил по себе ни одной граммофонной записи? Да-да, я ничуть не оговорился, именно так: ни одной, словно бы и в самом деле, приняв основной тезис фумизма в качестве прямого действия, — все они, до единой, изошли дымом в трубу...[комм. 1] И вот, разгадка пришла сама..., буквально говорю: сама, спустя годы..., когда я был занят уже совсем другими делами и вовсе не глядел в ту сторону. И вдруг, ответ обнаружился сам собой: и где!.., едва ли не под собственным носом или между пальцами рук. Точнее говоря, опять — там же, в искомом шкафу, среди листков савояровской записной книжки, тысячу раз открытой-закрытой и читанной-перечитанной. Когда три слова..., всего три забавных слова (ничуть не сложнее тех, что обычно оставляют на заборе!) — как оказалось, скрывали под собой и ключ, и замóк, и петли, и даже самую дверь..., короче говоря, всё досье, необхо...димое и достаточное для разгадки, а также прилагаемые к ней «три источника и три составных части» о(б)суждаемого (ниже) явления.[5] Пожалуй, эту брутальную фразочку, повторённую едва не с десяток раз, я оставлю (пока) при себе, чтобы зря не портить шкурку..., — миль пардон, я хотел сказать, — песенку и оставить на конец хотя бы малый остаток того ржавого гвоздя. сходу взявшись двумя руками за одно место...
Звезда первой величины русской сцены Фёдор Шаляпин впервые записался на пластинку в 1902 году. Присутствовавшая при этом комиссия, созданная граммофонными фабрикантами, вручила артисту за каждый исполненный номер по 2000 рублей. д
Дми́трий Они́симович Берко́вич родился ранней осенью 23 марта 1878 года в стольном граде Херсо́не (Южная Малороссия, дальше нрзб.); старший сын в еврейской (совсем не бедной) семье выкрестов из большого влиятельного клана Берковичей-Берковицев,[комм. 4] распространившегося на две империи, от Херсона и Одессы — до Вены и восточно-приграничных волостей Австро-Венгрии. Эта славная фамилия за последние сто лет империи, без преувеличения, сотворила чудеса активности, предприимчивости и ассимиляции,[комм. 5] в которых г-н Дмитрий Богемский если и не стал высшей точкой достижений, то (вне всяких сомнений) мог бы послужить превосходным примером..., чем-то вроде индикатора или поплавка, показавшего всю глубину игры — на поверхности воды. О последнем, впрочем, очень коротко, в пределах следования главной теме... и ничуть не претен’дуя на полное разследование.
Через три года после рождения сына-Дмитрия семья вернулась в Одессу (один из гнездовых центров малороссийской ветви Берковичей). Окончив местную гимназию, в 1895 году Дима Беркович поступил в Киевский университет св. Владимира, причём, сразу на два факультета: медицинский и юридический (и в самом деле, какие же ещё науки можно было себе выбрать... после Одессы). Впрочем, не будем попусту сомневаться: обе науки интересовали его довольно слабо (чтобы не произносить более определённого слова). Человек живой, обаятельный, общительный, темпераментный и легко сходившийся с людьми, он воспринимал любое обучение как ещё один удобный повод наладить связи и расширить знакомства. Разговорчивый, остроумный, яркий и даже эксцентричный молодой человек, прекрасно владевший собой и языком, он быстро располагал к себе и как-то незаметно (сам собой) оказывался в центре всеобщего внимания: настоящий лидер, душа <местечкового> общества. Несомненно, мастер слова: сначала устного, а затем и бумажного. Причём, самого широкого профиля. — Впрочем, узковатый киевский мир очень скоро приелся...
Спустя три года киевской тоски Дмитрий Беркович бросил свои университеты и подался в Москву, где пустил в ход все кондиции, вскорости обеспечив себе неплохое место на ниве печатного слова. Родственные связи кое-какие имелись..., плюс рекоммендации, необходимые письма (кому надо), завёл нужные знакомства, само собой... Затем принялся писать множество разных текстов и отсылать в разные редакции. Поначалу, впрочем, не удавалось выбрать нечто главное и сосредоточиться на чём-то одном, — плодовитый, темпераментный и работоспособный сотрудник, он стал типичным газетчиком, писал всё, что пойдёт в печать: текущие хроники, заметки, сатирические стихи, фельетоны, бытовые рассказы, характерные сценки... На регулярной основе сотрудничал в юмористических журналах «Будильник», «Шут» и даже «Осколки» (где в своё время отметился Антоша Чехонте). В основном, конечно, напирал на то, что имело спрос: лёгкие жанры, актуальные и модные темы, бытовые и юмористические фельетоны, рассказы, повести и «даже» романы, ради смеху. Первый из них, «Понедельник» (пародия на толстовское «Воскресение») имел успех и вскоре был опубликован отдельной брошюрой (о пятидесяти шести страницах).[9] А затем, когда весь тираж разошёлся среди непритязательных любителей литературных гримас, последовали ещё и два «продолжения» того же самого.[10] Уже в первом своём романе бравый херсоносец Беркович показал (выставил наружу) типический характер пересмешника, не претендующего на особую глубину (во всех смыслах этого слова).
Уже в первые времена наметилась курьёзная особенность характера: нигде не публикуясь под своим настоящим именем, молодой беллетрист широкого профиля выбирал себе по всякому случаю разные псевдонимы (главное, чтобы они имели броский и забавный вид, в той или иной степени), словно бы импровизировал, не в состоянии остановиться и выбрать что-то окончательное. Его газетные заметки чаще всего выходили вовсе без подписи. А первые значительные издания появились под псевдонимом «Майор Поленов». Затем один за другим последовали пересмешные имена, часто напоминающие детские дразнилки: Максим Сладкий, ДАБ, Маркиз из Суук-Су, Граф Худой, Олег Северный и так далее (всего около двух десятков псевдо’имён).
Отдельным образом от прочих (да-да, именно так, это я произнёс: «отдельным образом»), среди десятка литературных призраков появился ещё и «Дмитрий Богемский». Далеко не сразу последний псевдоним стал первым & основным (едва ли не до последних лет оставались в ходу и прежние варианты) и, тем более, не сразу превратился в паспортную фамилию..., — вместо старорежимного Димы Берковича (чтоб о нём все позабыли). И ведь в самом деле позабыли!.., в 1920-е годы «зрелый мастер» эстрады, сорокалетний Дмитрий Богемский почти полностью вытеснил своего однофамильца..., прошу прощения, тотемного прототипа из Херсона и Одессы. А до тотальной сталинской паспортизации (и, тем более, до пламенного 1937-го) пламенный мастер слова, слава богу, не дожил, так и упокоившись на литераторских мостках (Волковского православного кладбища), — а на гранитной глыбе была выбита та же вымышленная фамилия («не богемная, а богемская»), что и на большинстве его грамм...пластинок.[12]
И правда (оно как будто рядом)... Оглядываясь на зад, даже и поневоле впечатляет (вполне обычный для того времени) путь духовного у...совершенствования, пройденный молодым беллетристом: от одесского выдвиженца берковича до настоящего столичного богемского. А если говорить ещё точнее, то — почти от эсера до типичного кадета (чтобы не вспоминать всуе о Пуришкевиче).[13] Подобно легендарному герою аверченковского рассказа «левею!..»,[14] — буквально в те же годы (1905-1910) негорькому г-ну «Максиму Сладкому» удалось пройти ту же дорожку, но только, прошу прощения — «ракоходом» (слева направо)..., так что где-то в 1907 году (по моим скромным прикидкам) они очевидно должны были встретиться — чтобы тут же распрощаться. Иванов и Беркович: одному налево (до вологодской губернии), другому — направо (в Питер, вестимо). Обычный путь «разочаровавшегося интеллигента» (миль пардон) во времена «победившей реакции». Собственно, в этом месте я мог бы и помолчать: не так уж и трудно обойтись без обычного, трижды жёваного набора слов, когда вполне довольно двух-трёх выразительных названий — из репертуара главного героя. Особенно если учесть, что всё это время он был вполне «в своём репертуаре» (чтобы не вспоминать ещё и о «праве»).[15] Итак, прошу откушать: хроника текущих событий.
— Да..., «время», брат, оно никого не (по)щадит. Даже если и неземной кто попадётся...,[21] ненароком. Хотя, как раз этим-то добром Дмитрий Анисимович никогда не грешил. — Журналист, беллетрист, юморист, пародист, писатель, поэт, мелодекламатор, главный редактор... Весь этот джентльменский набор удивительным образом совпадает с послужным списком громадного числа мастеров на все руки, цеховых «многостаночников» пера и опахала, число которым — тьма (или «легион», на худой конец). Благо..., за примерами далеко ходить не нужно: во́т же один из них, здесь, буквально за соседним углом. Ведь (если слегка приглядеться) в точности таким же набором пожизненных добродетелей, в своё время, отличался и почётный фармацевт парижских фумистов, г-н Альфонс Алле, старший нормандский современник их всех сразу же, оптом: и Олега Северного, и Максима Сладкого, и даже Его Сиятельства Маркиза де Суук-Су.[22] Пожалуй, одна только малая разность была между ними, чтобы слишком долго не говорить: примерно та же, как между объёмом и плоскостью. Или искусством и — просто так, нормальным занятием (или профессией) ради заработка и славы. Ну ведь надо же, в концов концов, чем-то заниматься и на что-то жить! — Ну, вот он и занимался, милый человек.
Пожалуй, ненадолго переведу дыхание и остановлю своё пламенное кайло, чтобы кое в чём сознаться (как на духу)... Всё же, в своей (бес)пристрастной строгости я (был) не совсем прав к дяде-Диме Берковичу, с первого же шага отказав ему в исключительности дарований и талантов. Потому что именно здесь, глубоко между наваленной кучи отдельных слов и скрывается мрачная правда... про его громадный & не...постижимый гений, ту удивительную & щáсливую способность, которой (опять же, говоря к примеру) был напрочь лишён и дядюшка-Альфонс, и Эрик, и сен-Мишель, и (наконец) — податель сего (не путать с предателем сего). Именно так. И здесь, не сходя с этого места, мне было бы особенно у’местно сделать веский шаг назад, чтобы в очередной раз, не боясь повторить и повториться, дать слово герру Фридриху..., нашему трижды скорбному профессору, во времена последних лет жизни которого (не слишком ли?) успешный студент Беркович начинал учиться в Киевском университете: будущий доктор, не иначе. Или доктор права, на худой конец... Короче говоря: врач, божией милостию.
— И в самом деле, уж не является ли «безрукий Рафаэль» или «умерший в детстве Моцарт» (если понимать это расхожее выражение в самом общем смысле) не каким-то редчайшим исключением, а кошмарным правилом в случае всякого гения? Не слишком ли груб и жесток этот мир для тех, кто пришёл в него один, а не целой толпой? — Говоря иными словами, вполне возможно, что большинство гениев исчезает в безвестности, и даже самые следы их очень скоро растворяются в мутном потоке жизни без малейшего остатка. — Ведь гений, возможно, он вовсе не так редок и исключителен, как об этом принято думать, и люди исключительных способностей появляются на свет в сотни и даже тысячи раз чаще, чем мы об этом узнаём. Но у них слишком нечасто имеются в запасе те необходимые шестьсот когтистых рук, чтобы в нужную минуту успеть прижать к ногтю «счастливый момент», схватить за волосы фортуну, оттаскать судьбу за бороду и зажать в кулаке удачный случай! Увы..., так случается слишком редко — и все эти случаи мы можем буквально пересчитать по пальцам, при том постоянно путая исключительного человека и громкий успех... Именно поэтому мы снова и снова восклицаем с восторгом, показывая пальцем на счастливчика: смотрите, вон гений! — при этом одновременно продолжая отталкивать, теснить и топтать ногами десятки ему подобных...[23] И правда... Как оказалось, эти странные два господина (настоящая знать, в своём роде), не имевшие (при жизни) чести знать Диму Берко́вича, описали его тип с удивительной точностию попадания (прямо, пальцем в нёбо). Его удивительный и непостижимый (для нашего брата) гений состоял именно в том, чтобы в нужное время и в нужном месте иметь в запасе те необходимые шестьсот когтистых рук, чтобы успеть прижать к ногтю «счастливый момент», схватить за волосы фортуну, оттаскать судьбу за бороду и зажать в (левом) кулаке удачный случай...[23] С одною только поправкой, пожалуй.
Поскольку упомянутый мною всуе «гений» всё же касался не его одного (единого и неделимого, как империя нового Рима), а целого клана, большой и сплочённой группы Берко́вичей (сразу скажу, далеко не всегда выступавших под одною фамилией), к которой молодой, плодовитый и энергичный беллетрист сумел присовокупить ещё и изрядную долю личных связей. Как говорится, ниточка к ни...точке, нищему пальто...[13] А затем — второе, третье... Пятое, девятое... Потому что польт никогда много не бывает. Старым как мир путём, пальчик к пальчику, коготок за коготком: вот так понемногу и получилась необходимая для удачной жизни коллекция — из шестисот когтистых рук.[23] — Браво, Дима (с позволения сказать). Невольные слёзы умиления наворачиваются на брови и глаза, созерцая этот прекрасный путь художника, усыпанный лазурными розами (и пурпурными незабудками), когда едва отметивший своё тридцатилетие певец (не имевший ни своего голоса, ни музыки, ни чего-либо ещё такого, что было бы полезно иметь ради такого случая), оказался... на первом месте среди блестящей плеяды артистов, выпускавших граммофонные записи, почти с двойным отрывом опередив не только жалкого Шаляпина пополам с Фигнер, но «даже», страшно вымолвить, (значительно более популярных) Сарматова и сам’огó Вавича...[6] Во всяком случае, примерно такая (сотрясающая душу) картина открывается умственному взору, если поверить авторитетному «журналу» Граммофонный мир, в первый же год своего существования вывалившему на свои страницы всю накопившуюся у него на тот момент гору пластинок... — Впрочем, прошу прощения..., мадам, мадмуазель. Мой глубокий реверанс... и напоследок.
И правда, хотелось бы хотя немного рассмотреть окрестности железной дороги (немного умерив — для того — скорость паровоза). Ведь случалось же в этой прекрасной жизни что-то ещё (прежде тех 805 отборных шедевров, выложенных мсье Богемским — прямо туда, на грампластинки, минуя все прочие формы существования материи)... Большое спасибо: очень точное замечание. И ведь в самом деле, не только розы и незабудки росли около этой будки (нашего околоточного). Осенью 1905 года, согласно списку неблагонадёжных лиц (составленному третьим управлением), Дмитрий Анисимович Берко́вич попал за свои «излишне развязные» фельетоны под особый надзор и вскоре был выслан из Москвы. Правда, и здесь нужные связи не подвели, ещё один родной человечек зашёл куда нужно и успел шепнуть несколько слов, среди которых, разумеется, было и тó единственное..., волшебное (без которого нельзя). А в результате местом ссылки (и всего-то на год!) было назначено не Шушенское и даже не Урюпинск, а куда более тёплый и приветный Кишинёв, стольный град Бессарабии. Захолустье, конечно..., почти деревня — но главное, тоже совсем не чужое местечко для западных Берковичей. И старый Киев недалеко, и Одесса рядом, к тому же — и австрийская граница не за горами (совсем близко), если что — свои помогут, не дадут пропасть. Протянут руку. Есть такое тёплое словечко: родня.[13] Иной раз — слаще халвы получается...
Оттрубив ужасную ссылку в сибирской глуши Молдавии (полный срок, день в день), Дмитрий Анисимович в полной мере «перевоспитался», а затем продемонстрировал (кому надо, где надо и как надо) свою новую благонадёжность, — настоящий конфуцианец, не иначе. Можно сказать определённо: это была неплохая сделка. Хотя и совершенно типовая... для своего времени. Как-никак, на дворе стоял 1907 год. Начало последней императорской реакции. И вот: проверка прошла, шлагбаум открылся: пожалуйте, господин. — Отныне путь Берковича-Северного-Сладкого лежал уже не в Москву, а держи выше!.. — в столицу империи. От Херсона до трона, один шаг. Очень редко когда — полтора. Да ещё и не в одиночестве (шагать) теперь приходилось, что было особенно приятно. Не скрывая приятного громадья новых «богемских» планов, опальный артист горел нетерпением облагодетельствовать мир (в том числе и «граммофонный», вероятно) своею новой женой (как говорится, совсем не чужая, «из наших»). И разумеется, не просто так жена (брак с хорошим расчётом), потому что — тоже артистка, настоящая певица широкого профиля (без особых возражений исполняла всё, что имело цену: от оперных арий до цыганских романсов). Забегая немного вперёд (или назад), припомню её имя: Мария «Александровна». А сверху (наподобие сливок с розочкой) ещё один шикарный псевдо’ним: «Эмская».[комм. 6] — Пожалуй, теперь можно было, не стесняясь, открывать полный семейный бизнес. Конвейер готов был работать на полную катушку. И в самом деле..., чем не пара: Богемский и Эмская? Почти готовая поэма (граммофонно-графоманная)...[13]
Даже глядя издалека... и совершенно невооружённым взглядом, можно было отчётливо понять: насколько тучнее и плодороднее выглядит нива граммофонного производства. Тем более, что глаз (намётанный до блеска) у г-на Берковича никак нельзя было назвать «невооружённым». И переезд в Петербург не имел даже малого оттенка импровизации. Посадочная площадка подготовлена, пожалуйте присесть. А чем изволим заниматься? Не вопрос!.. Какая, к чёрту, журналистика!.. Ни одна газета, книжка, пьеса или концерт не годились даже в бледное сравнение с записью пластинок. — Начиная с 1907 года всё былое бумажное производство Дмитрия Берковича сначала отодвинулось, а затем и вовсе — задвинулось в область чего-то малоинтересного (или малодоходного, точнее говоря). И в самом деле: зачем? — когда прямо здесь, посреди биографии текла позолоченная речка с кисейным бережком. Любая рукопись, минуя все рутинные этапы, могла теперь упасть прямо на звуковую дорожку, сверкающую (наличностью и славой), благо, у руля стояли «все свои» и никому ничего доказывать не требовалось... Рассказы, скетчи, куплеты, стихи, пародии, фельетоны, сценки — отныне всё это почти не требовалось исполнять на публике, пытаться распихивать по жалким газетёнкам или продавливать в издание отдельными книжками. Отныне все литературные творения могли дружной шеренгою идти — прямо туда, в шеллак, на красивый конвейер штамповки плоских и округлых изделий чёрного цвета. И не беда, что тиражи не слишком велики, зато их число (и финасовый вес) — поистине фантастические. Только подумать, восемь сотен записей (800 прописью!) за не полные три года... Кажется, молодой фельетонист не спал, не ел и даже не пытался помыться в бане: буквально всё время было посвящено исключительно клепанию бес...смертного наследия пластинок. Прошу прощения, но я не удержусь ещё раз (при том, не последний) повторить сей беспримерный шедевр, пока оставшийся без должного освищения...
Журнал «Граммофонный мир» в 1910 году провёл статистическое исследование, целью которого было выяснить, как часто артисты работали в <звукозаписывающих> студиях. На первом месте оказался г-н Богемский — он записал 805 произведений, г-н Сарматов — 425, г-н Вавич — 340, все остальные — менее 300. (Для сравнения: полная дискография Владимира Высоцкого насчитывает 360 песен). Рекорд среди артисток установила супруга г-на Богемского г-жа Эмская. В её личном каталоге — 405 записей. И разумеется, ни у одного знатока вопроса..., хотя бы минимально понимающего толк в человеческом материале (скажу я очень мягко), столь изящно и всесторонне воспетом, несомненно, лучшим российским пиитом, не возникает ни малейшего недоумения при взгляде на этот странноватый список обширного «статистического исследования»... — И в самом деле, чему тут удивляться: некий молодой мелодекламатор (умеющий петь не хуже нашего медведя) и его жена, малоизвестная певица очень широкого..., даже широчайшего профиля, записывают за три года — стократ большее число пластинок, чем самые популярные артисты и певцы своего (и не своего) времени.
— И верно, какие тут могут быть ещё вопросы? Это само собой разумеется, что в вопросе следования (иглы) вдоль «звуковой дорожки» какая-нибудь Вяльцева, Морфесси, Шаляпин, Вавич или Тамара даже и в подмётки не годились Энскому г-ну Богемскому. Как говорится, в таких сложных материях всё решает «вопрос компетенции», и не более того...[комм. 8] Куй железо, пока он есть..., прошу прощения. — Собственно, исходя именно отсюда, из этой отправной точки, наконец, последовал и завершающий аккорд. Потому что любое положение слишком непрочно..., это знают все. Сначала его требуется добиваться. А добившись — не зевать. А ещё лучше: занять господствующую высоту, как-то закрепив и формализовав своё подавляющее превосходство в передовой отрасли народного хозяйства. — Вот почему осенью 1909 года Дмитрий Беркович принял предложение нескольких авторитетных личностей (точнее говоря, не смог отказаться): создать «главный» среди прочих российский журнал для профессионалов и любителей в области грамзаписи. И не просто главный..., но (прежде всего) — свой. Родной. Намоленный...
Разумеется, подобное дело никак не могло обойтись без кое-какого сожительства..., прошу прощения, я хотел сказать — сотрудничества с властями: малыми и большими, по-малому и по-большому. Со всеми втекающими и вытекающими обстоятельствами. — Впрочем, теперь (и ниже, как видно) это не представляло для г-на Берковича большой проблемы. Кишинёвский урок событий 1905 года он усвоил «на все пять»: отныне и навсегда держать хвост по ветру. Жизнь победила смерть неизвестным науке способом.[27] Теперь никто не смог бы заподозрить Максима Сладкого в нелояльности: ни царские чиновники, ни министры Временного правительства, ни будущие красные хозяева. Пожалуй, только со сталинскими соколами ему бы не сладить, сладенькому. Да вот незадача: не дожил г-н Богемский до лучших времён, удивительно вовремя съехал по жёрдочке на тот свет, так и не познав всех прелестей «перековки» старых кадров. — Пожалуй, два лучших своих экзамена на верноподданичество он сдал двунадесятью годами раньше, славной осенью 1911 и 1914 года. Первый из них назывался «Прочувственное слово»,[28] — в едином и неделимом комплекте с мелодекламацией «на смерть П.А.Столыпина».[29] Не воздержусь привести здесь этот преславный текст, достойный всяческого тиражирования и дальнейшего употребления.[30] Разве только следовало бы менять в нём имя главного героя (сообразно конкретному случаю)...
Тем более, что беда не пришла одна (как она обычно предпочитает). Буквально здесь же (по соседству) расположилась и гораздо более камерная поэма (почти лирическая в своей сдержанной скорби), прочувствованно декламируемая автором под аккомпанемент рыдающего (по нотам Шопена и других всемирно-исторических страдальцев) фортепиано. Поэзия в этом торговом образце такова, что достойно откомментировать её смог бы, пожалуй, только сам творец очередного богемского бенефиса, г-н Дмитрий Богров. К сожалению, к тому моменту он уже был повешен. Разумеется, оба завывающих богемских творения были распроданы ещё задолго до выпуска тиража и имели громадный успех (в том числе, «коммерческий»), в одночасье сделавшись самыми известными пластинками недавно открытой петербургской граммофонной фабрики «Звукопись» (прямо скажем, тоже отнюдь не чужой для г-на Берковича).[комм. 10] Однако и на том автор всероссийских рыданий не остановился. Едва только пластинка была отпечатана, один из первых экземпляров Дмитрий Анисимович предусмотрительно отправил (с дарственным письмом) Ольге Борисовне Столыпиной (урождённой Нейдгарт), вдове покойного председателя совета министров. Через две недели Богемский получил ответ следующего содержания: «Душевно благодарна Д.А.Богемскому за присылку граммофонной пластинки и письмо. Очень ценю Ваше внимание. 8 февраля 1912 г.»[31] — Нет, я не прошу прощения (и не собираюсь просить, хотя мне и неловко) за этот банальный маленький этюд..., нечто вроде выписки из затёртой истории болезни. Как говорил в таких случаях Саша Скрябин, «человеческий документ»..., или ещё проще: комедия. — И даже ломаная, отчасти... И тем не менее, не удержусь припечатать ещё одной историей, где даже и не знаешь, чего больше: пены или отстоя... Дело идёт о первых месяцах той прекрасной войны (чуть позже получившей название «первая мировая»). Август-сентябрь сопровождались повсеместным патриотическим подъёмом, сопровождавшимся запахом угара и перегара. Судя по всем признакам, жалкой немчуре оставалось жить не больше недели..., от силы — двух. Газеты захлёбывались от собственных заголовков. Граммофонные фирмы не успевали штамповать военные марши, «Боже царя храни», а также разнообразные «Благослови оружие, господь» или «Рвёмся в бой» (до рвоты). Отставать от такого потока было недопустимо.
Сентябрьский журнал «Граммофонный мир» открылся передовой статьёй (известного авторства), призывающей объявить бойкот продукции немецких фирм: «Долой пластинки „Янус“, „Бека“, „Фаворит“, „Стелла“, „Метрополь“, „Одеон“, „Лирофон“, „Дакапо“! Да здравствует великая Россия и русские пластинки „Сирена“, „Русское акционерное общество граммофонов“ и „Экстрафон“!..» (патриотическая «звукопись» к тому моменту уже почила в бозе). И разумеется, ни слова (молчок!..) о том, что все предыдущие номера журнала ещё совсем недавно (только в июле, например) выходили с роскошной немецкой шапкой на обложке («Die Grammophon-Welt») и громадной рекламой той самой фирмы «Бека» в лице г-на И.Ф.Мюллера.[33] — Нет, я не открою америки (сегодня). Она проще пареной репы..., для всякого, кто понимает. — Само собой, в конкуренции хороши любые средства, особенно — которые патриотические. В первые же месяцы войны одна за другой закрывались (точнее сказать, их прибирали к рукам, да и не простым рукам, а только тем, которым нужно) самые тучные граммофонные фабрики, принадлежавшие «врагам отечества». Всё имущество «Метрополя» и «Стеллы» было конфисковано в пользу «Русского акционерного общества граммофонов». — Ну да оставим, старое поминать всуе. Война есть война (и не только на фронте, в тылу куда приятнее... воевать). Поглядим лучше немного вперёд: на трогательную рекламу пластинок «русских фирм», почётное место среди которых занимал киевский «Экстрафон». Не прошло и двух недель, как газеты сообщили трогательную новость: «...в Киеве задержан управляющий фабрикой „Экстрафон“ Я.И.Берквиц (курсив м о й). Хотя он и австрийско-подданный, но сумел доказать своё славянское происхождение и был оставлен в Киеве». Всего несколько поэтических слов, оставшихся между строк скупой газетной прозы... Разумеется, австрийско-подданный Я.И.Берквиц не просто так доказал своё «славянское происхождение». Для этого понадобилось пустить в ход кое-какие средства, не раз испытанные в деле. Тем более, когда начались очевидные «перегибы» на местах... С одной стороны, последовала необходимая поддержка из столицы (две отрезвляющие телеграммы от крупного чиновника по интересующему нас вопросу). С другой стороны, и сам австрийско-подданный зря не терял времени, вложив некоторые (не слишком большие) средства в своё (несомненно!) «славянское происхождение».[13] — И наконец, последнее. Посмотрев чуть более внимательно на фамилию управляющего фабрикой „Экстрафон“, мы увидим одну её приятную особенность, которую можно было бы назвать (ради вящей важности) ассимилятивной дифракцией. Венско-будапештская империя Габсбургов, вне всяких сомнений, не слишком-то приветствовала «славянское происхождение» (как говорится, и своих-то славян девать некуда), а потому — лёгкая косметика, пара движений бровями! — и мы с облегчением видим, как «украинская» фамилия «Беркович», давно уже ставшая родной для нас всех, превращается сначала в более понятную для немецкого языка и уха «Берковиц», а затем — видимо, ради окончательности впечатления слияния с австрийским духом — убираем ещё один «лишний» звук. И получаем до боли знакомое «Я.И.Берквиц» — даже не родня, конечно.[13] Особенно если присовокупить к началу истории ещё несколько событий военного времени.
— Ну, например, такое... Как-то раз, случайно заметив, что граммофонные «компании инородцев» одна за другой переходят в руки русского народа, владелец киевской фирмы „Экстрафон“ (ещё один австрийско-подданный «славянского происхождения» по фамилии Г.И.Индржишек) принял мудрейшее решение: забежать вперёд паровоза, сыграть на опережение и заранее учесть специфику политического момента, сделав ставку на ура-патриотический репертуар. — Сказано-сделано. Повелевающее движение рукой, резкий разворот, и из-под прессов фабрики экстрафона хлынул чёрный поток дисков с записями гимнов союзных держав, маршей и песен на военную тематику. Впрочем, не одни только марши... Особый успех и поистине имперские овации сорвала пластинка под недвусмысленным названием «Повесть о юном прапорщике». Сюжет её был незатейлив и прост. Герой очередной военно-патриотической мелодекламации гибнет в неравном бою, спасая знамя полка. Нужно ли уточнять: ктó именно сочинил и исполнил это очень своевременное произведение, тираж которого расходился как горячие пирожки (за три месяца было допечатано 70 тысяч экземпляров).[7] На этикетке гордо значилось: «Повѣсть о юномъ прапорщикѣ съ аккомп. оркестра въ исп. Д.А.Богемскаго».[35] Тем временем, упомянутый аккомпанирующий оркестр играл мелодию особо популярного тогда романса «Чайка» (вполне лирического содержания), а мелодекламатор не жалел красок ради создания впечатления всепроникающей и всепоглощающей патриотической правды. Наконец, оставим это печальное дело, всё-равно из него больше ничего не высосешь.[36]
...спустя ещё три месяца (в феврале 1915 года) журнал «Граммофонный мир» писал (всё с той же рекламой И.Ф.Мюллера, но уже без немецкой надписи на обложке), не скрывая своего торжества: «Раньше все смеялись над „Экстрафоном“ и даже не принимали в расчёт его конкуренцию, а теперь фирма работает блестяще благодаря своей большой патриотической записи. Молодец Г.И.Индржишек, а неподражаемому Я.И.Берквицу — всякая честь и поклонение».[38] Нужно ли и говорить, что при подобной артиллерийской поддержке наших тыловых подразделений, фабрика «Экстрафона» работала с небывалой нагрузкой, рабочих рук не хватало и Индржишеку пришлось привлечь к работе пленных австрийцев (впрочем, сразу уточню: исключительно чехов «славянского происхождения»). Если в последние месяцы до войны на фабрике функционировали шесть гидравлических прессов, то к началу 1916 года их стало уже вдвое больше, да ещё и работали они в две смены. Ну и, пожалуй, ещё два слова: напоследок. Проблемы военной экономики потихоньку обострялись. К началу 1917 года в стране ощущался острейший дефицит шеллака, главного сырья для производства пластинок. Тем не менее, в феврале 1917 года Индржишеку (не без помощи столичных покровителей) удалось закупить большую партию этого товара, что позволило продолжить работу. Последнее, что известно о киевской фабрике «Экстрафон»: осенью 1917 года была выпущена пластинка, призывающая граждан подписаться на государственный «Заём Свободы», объявленный Временным правительством. На этикетке был помещен вдохновенный портрет А.Ф.Керенского, жаждущего народных денег, а текст экстренного воззвания с большим выражением прочитал некий «Олег Северный».[7]
События 1918-1920 года Дима Беркович пережил очень тяжело. За пару месяцев потерял всё накопленное непосильным трудом на гибридной ниве Эвтерпы с Мельпоменой. «Граммофонный мир» кончился ещё в октябре 1917 — вместе со «старым миром» (от которого «отречёмся»). Метался между Киевом, Одессой, Москвой и Питером. Всюду было плохо. «По закону Ильича — мы живём без кулича»..., вне всяких сомнений, один из крупнейших богемских шедевров того времени.[39] К жестоким проблемам в стране добавились семейные неурядицы: сыграли своё и «роковые сороковые». Как-то уж совсем не ко времени случился ещё один романтический сюжет с шестнадцатилетней девчонкой, убежавшей из дома с женатым столичным типом. Первая жена (Эмская) долго не давала развода, жили вчетвером (типичный pas de quatre) в одной квартире: Богемский со своей новой, да и Эмская — тоже не осталась в долгу.[комм. 11] В 1920 году (10 апреля) в результате подобного, с позволения сказать, «сотрудничества» родился сын Георгий (или Юрий). — Всю жизнь он носил паспортную фамилию: Богемский, чтобы не вспоминать о Берковиче. Времена для конвенционального деторождения г-н куплетист выбрал далеко не самые удачные, прямо скажем. Столь тщательно выстроенный «мир Берковичей» расползся по швам. Часть клана слилась за границу, часть разбежалась по провинциям, да и делать в бывшей столице было нечего. И поневоле приходилось вертеться, искать новые связи, устраиваться среди первых лет подавляющего советского убожества.
Используя свою былую известность (и немногих оставшихся или уцелевших коллег, знакомых или знающих), Дмитрий Богемский попытался кое-как притереться к новой номенклатуре: было дело, возглавлял эстрадную секцию Драмсоюза, в конце 1920-х даже стал председателем Всероскомдрама, последнего предшественника сталинского Союза композиторов и писателей. И всё равно дело всё отчётливее пахло керосином. Пробовал браться за старое: писал сатирические миниатюры и куплеты для советских артистов (Гурко, Айдарова, Гущинского), играл вместе с одесситом Утёсовым в «Свободном театре» — одну из второстепенных ролей еврейской пьесы «Мендель Маранц», много выступал как эстрадный конферансье. Разумеется, и в этом деле ни вкус, ни мера ему не изменяли по-прежнему (как и он им). И даже более того: господин Богемский до того преуспел в своём последнем НЭПманском «амплуа», что даже лёг (вместе с Жоржем Радальским) в основание знаменитого конферансье Бенгальского или «господина-соврамши», да-да, того сáмого, которому альбигойский кот-Бегемот (по приказу Воланда) открутил голову. Отдельно напомню, что ассистировал им в этом деле — рыцарь фиолетового образа (в клетчатых брюках).[41]
Само собой, новая «пролетарская» власть отнюдь не пролетала мимо этого «живого анахронизма», словно бы таскавшего за собой всё наследие последних лет «мрачного царизьма». — Уж слишком много старорежимных пластинок успел наштамповать бравый рыцарь языка и подбородка, прошу прощения, плеча и орала..., и слишком часто мозолили они глаза и уши советским функционерам и культуртрегерам от «будущего искусства». Не раз и не два, Дмитрий Богемский подвергался разнообразному проштамповыванию, припечатыванию, пропесочиванию и прочим народно-воспитательным акциям. Подобные представления происходили как в рамках очередного передела сцены и кулис, так и за их пределами: попросту по инерции... Или от скуки, на худой конец. Разве только до порки дело и не дошло. Ради примера позволю себе только одну (не)скромную цитату, буквально, — напоследок. В памятном 1926 году московская газета «Новый зритель» позволила себе высказаться, не без особого шика, впрочем. На первый взгляд, рядовая рецензия. А на самом деле — буквально в двух словах — обо всей творческой био’графии уходящего атланта граммофонного мира. Его смерть, совсем уж какая-то беззубая и беспросветная, вполне в духе его же лучших эстрадных антреприз, случилась такой же ранней осенью 12 марта 1931 года. Не дожив (меньше полугода) до своих кровных 53 лет, он отправился вослед за своим юным прапорщиком, сжимая знамя в остывшей руке. Среди приятелей, таких же старых артистов сокрушённо поговаривали, будто умер «товарищ Беркович» от сердечного приступа, — по итогам очередной песочной проработки на очередном заседании очередной комиссии по очередной репертуарной политике.[44] — Похоронили бывшего гения в каком-то совсем уже чужом и незнакомом населённом пункте под названием «Ленин’град», на Волковском право’славном кладбище, в восточной части «Литераторских мостков», — под серой гранитной глыбой, на которой чуть ниже нахлобученной каменной кепки значилось (уже окончательное и бес...поворотное): «Дмитрий Анисимович Богемский». И — ни единого грамма Берковича. Да..., ведь и голову ему тоже не открутили, после всего.[45] Надо так понимать, что просто... не успели. — Видимо, она всё-таки очень вовремя случилась, эта «безвременная» смерть. Почти незаметная.
— Семён Анисимович Беркович, младший брат Дмитрия, родившийся на десять лет позже (уже в Одессе)..., еврей, образование высшее, беспартийный, должность — консультант Ин’юр’коллегии, место проживания: Москва, ул. Воровского, дом 52, кв. 10 был арестован 11 июля 1937 года, обвинён в участии в контрреволюционной террористической организации. Якобы приговор якобы Военной коллегии Верховного суда СССР был вынесен якобы 15 сентября 1938 года. Якобы в тот же день Семён Анисимович Беркович был расстрелян — как и полагалось в таких случаях, на полигоне Коммунарка Московской области. Якобы реабилитирован посмертно спустя двадцать лет (в мае 1958), той же Военной коллегией Верховного суда того же СССР.[47] со своим традиционным репертуаром.
( или запоздалое объяснение ) Что ж ты, Дима, снова мимо,
к
Разумеется, спустя сто с лишним лет (и каких лет!) многие детали столь мелкого сора уже настолько истлели и рассеялись среди прочих отходов, что просачиваются сквозь пальцы и обращаются в пыль при первой же попытке извлечь их из толщи прошедшего места и времени. И всё же, кое-что Главное: органическое и человеческое, — остаётся сиять нетленными буквами, невзирая ни на какие войны, бомбёжки, погромы, перевороты и расстрелы. Именно ради них, ради этих малых крупиц я и затеял свой при... дурковатый труд, малую часть которого можно отцедить прямо здесь, между зубов и на полях шляпы...
Говоря без лишних слов, история колких & колючих отношений Богемского и Савоярова имеет показательный вид басни или комедии нравов своего времени. Вполне пригодная (при иных обстоятельствах) лечь в основание отдельной энциклопедической страницы за рамками Хано́графа, тем не менее, она рисковала (бы) остаться неизвестной навсегда. Именно это и показалось мне неправильным. — Особенно если учесть, что отношения эти были отнюдь не только частными, как следствие, оставив глубокий след не только на савояровской биографии, но и в истории российской грамзаписи. Чуть более подробно об этом говорит уходящая книга «Внук короля». А потому оставлю здесь несколько небрежных слов..., в дополнение к девственной пустоте предмета. Савояров и Беркович познакомились ещё в московскую свою бытность: в 1901 году,[комм. 12] когда первый из них только временами наезжал в город своего детства, а другой, напротив, только недавно приехал туда из Киева. И это (тонкое различие), пожалуй, составляло самую важную деталь их отношений: один из них был уже отъехавшим, а другой — совсем напротив. Хотя оба они были неприлично молоды. Почти подростки. С некоторой оттяжкой их отношения можно было (бы) назвать дружбой двух «студентов» (провинциала и столичного), ещё не вполне определивших свою жизнь. Михаил Савояров был на полтора года старше своего визави, но и ему в те поры было всего двадцать пять. Причём, я не зря называю его именно «Савояровым» (а не Соловьёвым): потому что с самого начала Дима Беркович узнал его под этой фамилией (одновременно артистической и материнской).
— А уж дальше..., прошу прощения, дальше началась мильон раз известная история о влиянии — и ответе. И прежде всего, именно Савояров силой своего примера привлёк внимание Димы Берковича к куплетному жанру и, говоря шире — сцене, эстраде. В те времена почти всё савояровское творчество имело своей целью (освоить) именно этот, низкий жанр. Свои стихи после смерти старого учителя он почти никому не показывал, да и сомневаюсь, чтобы на Берковича они могли произвести впечатление. Он ведь и сам был изрядным писателем: пускай не Горьким (но Сладким), пускай не графом Толстым (но Худым)... Как говорится, «это мы и без вас умеем». А вот музыку он — любил и даже (по-первости) смотрел на музыкантов с придыханием. В том числе, как на существ, свободно владеющих чем-то (ему) недоступным, далёким и прекрасным. Музыкальной грамоты он не разумел, сердешный (как говорится, херсонские родители вовремя не позаботились). Петь не мог (с детства медведь истоптал все уши, не говоря уже о горлах и носах).[комм. 13] В общем, не конкурент. — И ещё что увлекло его в савояровском примере — его крайняя живость и злободневность, почти журналистская. Он был не тем (рафинированным, тонким) музыкантом, искусство которого как заоблачная ворона: парит в небе и только молиться на неё остаётся. Прежде всего, Савояров, что бы он ни делал, повсюду оставался живым и не’посредственным во всех смыслах слова. Каждый раз поражал его абсолютный «комплекс присутствия»: всегда и всюду этот артист находился здесь и сейчас вместе со своими куплетами. И публика отвечала ему таким же живым присутствием и выходом (из себя). Пожалуй, именно эта деталь и зацепила Диму Берковича больше всего. Внезапно (как открытие), он увидел перед собой не какого-то очередного актёра оперетты и не серую газетную бумагу, а живую жизнь, непосредственный контакт. Искру. Прямой диалог с публикой. Удивительное умение ловить желания, предугадывать настроение и управлять вниманием (Савояров этим отличался с самого начала). — Аплодисменты, крики из зала (часто, грубые), и тут же — преодоление, успех, слава, цветы, деньги, женщины... Фрак, бабочка, трость... Ресторан, коляска, дорогие меблированные комнаты... Всё то, к чему природный киник Савояров относился с иронией и прохладцей, как к необходимому или даже неизбежному злу (а потому, временами, желанному)..., его приятель сразу принял за чистую монету: так, словно бы это и есть основная цель артиста. Да и не просто принял, а ещё и принялся расставлять свои акценты: на первое место — деньги, а всё остальное — ради первого, вестимо. Ridendo dicere severum,[23] — не так ли, мой дорогой Фридрих?.. — Но увы, именно такой (одномерный) выбор с самого начала сделал для себя провинциал Беркович. Человек, изначально сделанный из той же (сатиновой) материи, что и Савояров: острый и остроумный, живой и оживлённый, по существу, такой же пересмешник и пародист. Но притом — бесконечно далёкий от искусства..., или, говоря точнее, от того, чтобы называться настоящим Артистом (в том, старом смысле этого слова), прежде всего, в силу своей плоскости, утилитарного здравомыслия и нацеленности на самые будничные проявления успеха. Настоящий человек клана, винтик системы..., в отличие от природного индивидуалиста Савоярова, постепенно превратившегося в хронического анархиста на почве перманентного пускания дыма.
Впрочем, и здесь не обошлось без вездесущей «обыкновенной истории».[52] В первые годы было у них нечто такое, что очевидно скрадывало непримиримое различие между двумя этими натурами, позволяя им сойтись близко и даже — почти дружить, прости господи... Пожалуй, проще всего было бы назвать это нечто — словом «молодость», в том его смысле, который автоматически несёт за собой недостаток обыденного здравомыслия и избыток темперамента. Все здравые, банальные, бытовые..., в конечном счёте, нормальные черты (даже у Димы Берковича) попросту не накопили ещё достаточных поводов для проявления и (хотя бы во время диалога) уходили на второй план. В бледное будущее. Или напротив — пошлое прошлое. Два почти подростка (23-25 лет), по существу, им ещё нечего было делить и не за что упрекать друг друга. Почти всё — находилось спереди... или впереди. И кроме того, их политические взгляды в те поры (в силу тех же причин) были очень близки. Беркович — почти эсер по своим демократическим взглядам. Савояров — несистемный анархист-одиночка, в личном порядке относившийся с брезгливостью и презрением к винтикам системы и любому механизму подавления. Слово «чиновник» для него всегда оставалось едва ли не худшим ругательством... В те поры они с Димой вполне могли договориться..., до полнейшего полевения.[14] Да ведь и в самом деле договорились..., один был избит жандармскими бандитами — что только чудом остался жив. А второй — отъехал по следам камер-юнкера Пушкина — в годовалую кишинёвскую ссылку.
После первого знакомства с Михаилом Савояровым и его номерами (концертными и не очень) — Дима Беркович не только впервые попробовал рифмовать (куплеты), укладывая их на знакомые мотивы из водевилей или уличных песенок (к его почти детскому восторгу, это дело оказалось совсем не сложным, — «и я так тоже могу!»)..[комм. 15] Тем более, что Савояров не жалел слов, пытаясь донести до своего приятеля основные правила, усвоенные им ещё от старого Учителя, Первого Сапожника русской поэзии. Кстати сказать, в точности из этой точки (вы)росли ноги у золотого правила «рефрэна» или навязчивой словесной формулы (название, сюжет и припев), которая становилась причиной и основанием сочинения куплетов. Дима Беркович отлично усвоил шумахеровскую науку на всю жизнь.[комм. 16] — Но прежде всего, он обратил внимание на концертную и артистическую среду, словно бы примеряя на себя: сгодится или не сгодится? Впору или великовато?.. И в скором времени, продолжая в прежнем духе передразнивать всё, что попадалось под руку (Максим Сладкий-Горький, граф Толстой-Худой), в дополнение к прочим псевдонимам, возник ещё и «Дмитрий Богемский», — например, как подпись под куплетами. Или ещё лучше, крупными буквами поперёк афиши: прекрасная идея. Прямо, настоящий Пуччини. И корень — что надо, точно впору. Не сразу и разберёшь: что за игрушка. То ли богема, то ли Богемия... Как говорится, в нашем деле всё сгодится, лишь бы имело вид. — К слову говоря, если кто позабыл или вовсе не знает (по крайней молодости), могу напомнить в трёх словах: что собой представляли Богемия и Савойя тогда, к началу XX века. Две прижжённые (хронически спорные) точки на карте Европы, регулярно всплывавшие в газетах среди пены политических (или даже военных) новостей. Сопоставление было — что надо, говорящее. Первым номером: не слишком далёкая (от России) Богемия, входящая в империю Габсбургов (австро-венгерская метрополия многих Берковичей, между прочим) горная область десятивекового переталкивания чехов и немцев. С другой стороны — Савойя, куда более дальняя и отдалённая от Москвы — старинное горное государство (вроде той же Швейцарии), когда-то боевое (часть легендарного королевства Арагон), наследовавшее завоевательный дух альпийских горцев, и только в последний век существовавшее как «прокладка» или самый западный буфер между той же Австро-Венгрией и постоянно булькавшим французским бульоном.
Пожалуй, и довольно бы растекаться мысью по древу... Allez, Anton. Тем более, что теперь (ради короткости слога) было бы совсем не трудно подбить чёрную бухгалтерию за первые четыре года пунктирного общения Савоярова и Берковича. Влияние первого на последнего оказалось не только сильным, но и очень долгим. И даже более того, каковы бы ни были в будущем их отношения, сам Богемский постоянно возобновлял в себе и даже словно бы культивировал небескорыстный интерес к своему прежнему другу московской молодости, никогда не выпуская его из виду. Хотя бы одним тем уже, что исподволь, используя разные способы, следил за его творчеством и никогда не ленился «извлекать» из новинок что-то для себя полезное. Включая, между прочим, и прямые заимствования (проще говоря, мелкие стибривания), о которых сам Савояров не раз упоминал в своих записках, пометках, помётках или подмётках, как публичных, так и совсем наобо’рот...[56] Но главным, всё же, было не карманное воровство,[комм. 17] но — постоянная тайная потребность (наподобие детского греха) подпитываться от первоисточника, — и чем сильнее проявляла себя эта потребность, тем с большей тщательностью друг-Дима пытался её скрыть. Желательно, вместе с тем (скрыть), от кого он учился. Чтобы его больше никто не видел, не слышал и не знал. И не имел возможности сравнить: оригинал с копией.
Чёртов 1905 год и для этих двоих положил жёсткую поперечную черту. Один отъехал в Кишинёв, а другой — только чудом на этом свете остался чудить. Встретившись после двух’годовалой разлуки, прежние приятели поначалу обрадовались, но очень скоро радость испарилась, до такой степени они «не узнали» друг друга. — Можно было бы сказать: «чёрная кошка пробежала». Но ведь и в самом деле: очень даже было чего не узнать. — И если один из них совершил разворот на месте, показав прекрасный тыл там, где только что был фасад; то второй — только уверился (и даже как-будто ожесточился) в своём прежнем пути, двинувшись по нему с удвоенным рвением. И без того далёкая Савойя всё дальше отплывала от прежней Богемии. Особенно если учесть одну немаловажную деталь: за время политической разлуки Дима Беркович не только образумился, исправился, повзрослел и «даже» женился (всё «как следует»), но и нашёл, наконец, отличное вложение для своих талантов. Разумеется, я имею в виду те клановые связи, которые позволили ему, минуя всякие концертно-публичные пустяки, клепать в студийной тиши шеллачные изделия как на конвейере, одновременно убивая трёх ушастых зайцев: признание, славу и деньги... При том, что ему ни разу не приходилось протискиваться через узкие ячейки жестокого фильтра граммофонной трубы...
Когда-то в Москве приезжих купцов кормили до отвала, гуляли с ними на Ходынке, водили в баню, а потом покупали у них товар вдвое дешевле. Так же обстояло дело и в музыкальном бизнесе — для того чтобы подписать договор на запись пластинки с известным исполнителем, издатели шли на всевозможные ухищрения. Проще говоря, г-н Богемский (в отличие от своего савойского визави) очевидным образом — осел (нет, это не опечатка), ассимилировался, вступил в сотрудничество, одним словом: наконец, нашёл своё место. Да, именно так: нашёл своё хлебное место посреди их мира, прежде «чужого, несовершенного и неприемлемого». За несколько лет однолетнего «отсутствия» с ним случилась очередная «обыкновенная история» превращения: мало кому хочется жить плохо, но зато почти всем — «на оборот», словно в мире оборотней. Почти все, так или иначе, но попадаются на этот фокус (гримаса обезьяны), простой и старый как их мир. Почти все..., это верно (разве только кроме тех невозвращенцев, у кого попросту нет выбора..., кто попросту не умеет, не способен жить иначе).[59] — И тем более трудно удержаться, когда оно само (это ни с чем не сравнимое благо: сделаться одним из них), — буквально: само плывёт в руки. Бери — не хочу.
Примерно таким образом, танцуя всё дальше из этой отправной точки, — г-н Беркович без особого сожаления поменял все свои прежние (протестантские) «взгляды», а затем и пуще того: обуржуазился (как можно было бы сказать ради маленькой глупости). Конечно же, вовсе не кишинёвское наказание перевоспитало его, но только лишний раз деликатно подтолкнуло коленом (под одно место) — назад, в тот мягкий и пушистый клан, который, наконец, принял его в свои обширные объятия. Хотя..., — и это уже лично я говорю это странное слово, — хотя... вовсе не в том состояла главная беда херсонско-богемского характера новоиспечённого куплетиста, записавшего за первых три года своей карьеры (с места в карьер) больше восьми сотен пластинок. Паче всего прочего, был означенный г-н Беркович — вельми злопамятен и неблагодарен. Смесь, прямо скажем, рвотная. Или зубодробительная. Особенно же он серчал, когда дело касалось того припухшего вопроса, который (с детства) наступил ему разом на ухо и на больную мозоль. Словно двумя ногами. — Самолюбие. Самолюбование. Самовлюблённость. Три ступени к самому себе, всю жизнь: как святая троица нимбом поверх головы. — Любое средство годилось: ради избавления от надсадного комплекса неполноценности, ради достижения желанного равновесия.
Что же касается до наружной истории отношений и событий, то в этой области картинка (как всегда) выглядела значительно примитивнее и проще. Обычная, сто раз навязшая между зубов история ссоры (не)старосветских помещиков.[61] Слово за слово. Дело за дело (чтобы не изрекать, словно в священном писании: зуб за зуб, нога за ногу)...[62] Шаг за шагом, пятясь всё дальше — в лес по дрова. И в самом деле, может ли быть что-нибудь прочнее старой (почти подростковой) дружбы, плавно переходящей в желчную и мстительную вражду? Тем более, одностороннюю. — Для начала, первая встреча бывших друзей (после возвращения и исправления) вышла каким-то комом. То ли в горле, то ли поперёк течения. Прежнего понимания не было, скорее — напротив. Оба испытали лёгкое разочарование и даже раздражение. Затем, случайно столкнувшись, Савояров позволил себе — маленькую вольность. И вроде бы пустяк, мелочь — всего лишь взгляд, брошенный словно бы невзначай, со стороны. Но увы, Дима Беркович слишком хорошо знал: что́ это за взгляд — почти смертельное средство из арсенала савояровского прадеда.[55] Ему, в своё время, один такой короткий «Augenblick», брошенный на «коротышку», стоил жизни. Разок сморгнул — и всё, нет её.[комм. 19]
Пожалуй, одного такого обмена взглядами (молча) было бы вполне достаточно, чтобы роли прежних приятелей (и без того с полуслова понимавших друг друга) совершенно поменялись. На противоположные. С одним только отличием: Савояров был исключительно открыт и прям. Пожизненно. И всё своё (не)лицеприятное он выносил — прямо на фасад своего визави, чаще всего в виде колкостей или обидных острот. Реже — всерьёз, в виде «прекрасной прямоты». Но совсем не так себя вёл г-н Беркович. Типичный человек клана, он не прочь был и острить, и пикироваться, и даже ругаться, но затем — ничего не забывая — переносил главный фронт действий далеко за спину своего противника: за угол, за кулисы, ну... и так далее. Тем более, что первая дуэль говорящими взглядами отнюдь не исчерпала сюжета. Не так скоро, но случилось и нечто более горяченькое, при встрече (благо, что они бывали не так часто). Первый обмен прямыми уколами между двумя конкуррентами, или, скажем точнее, первый инцидент курьёзной «войны между Богемией и Савойей» случился ещё в 1911 году, задолго до начала Первой Мировой. А затем, временами затухая и разгораясь, кое-как докатился до февраля & октября 1917-го. Само собой, в духоподъёмной обстановке всероссийской катастрофы этим двоим было уже не до личной вражды (и возраст, и контекст уже явно не располагал к «прекрасной склоке»). Тем не менее, хотя и в значительно более вялотекущей форме — старорежимные контры кое-как доковыляли до самой смерти Богемского в 1931 году и — последнего отъезда Савоярова в Москву. Бывшие друзья отправились на тот свет с разницей в десять лет (с небольшой добавкой).
Если попытаться воссоздать кривую (и вдобавок, изрядно пунктирную) линию событий и текстов, а затем взглянуть на неё без увеличительного стекла, то картина окажется откровенно бедноватой. В сухом остатке вся история выстраивается в обоюдный обмен более или менее удачными колкостями и эпиграммами, временами обострявшийся — до личных стычек (почти зуботычек, скажем мягко). Но если всё же говорить по существу..., то через малую пуническую войну Богемии против Савойи проявил себя типовой личный конфликт двух путей, более чем обычных для любых времён. На первый взгляд, два индивидуалиста-конкурента, два самолюбивых фрондёра, смотревшие друг на друга с ревностью и вызовом, а один — ещё и немножко свысока. Но на самом деле, их отношения никогда не были горизонтальными. Один отдавал — другой пользовался себе во благо. Один всю жизнь шёл с открытым забралом по пути отщепенца, анархиста, артиста-одиночки, а другой — вечно сосал двух маток, всякий раз приспосабливая своё «творчество» к обстановке и заказу. Как следствие, произошло типичное столкновение пристрастного учителя с неблагородным и неблагодарным учеником, в очередной раз осветившее старый как мир «принцип пророка»: а ты видал, как течёт река?..[63] По форме — приглаженное лицемерие, а по существу — подлость, конечно. Впрочем, и здесь ничего нового: не в первый и не в последний раз. Как говорится, против природы не попрёшь (мало кому удавалось).
И здесь поневоле я снова вспомню краткую характеристику, данную неврастеником Франсисом Пикабиа — причём, совсем не Савоярову. Характеристику чужую..., и тем не менее, почти с иголочки (как тот фрак!) сидящую поверх артистического цилиндра короля эксцентрики. Всего за полтора года до смерти своего приятеля, Пикабиа писал о нём: «...случай Сати экстраординарный. В своих поступках он исходит из своей велiкой дружбы. Это старый художник, хитрый и продувной. По крайней мере, он сам так думает про себя; я же понимаю совершенно обратное! Это человек очень ранимый, надменный, настоящий грустный ребёнок, которого <только> алкоголь в редкие минуты делает жизнерадостным...»[45] — Именно так... Исходя из своей «великой дружбы», король оказывал милость. Он даровал (щедро кредитовал) своего друга теми богатствами, которые у него были. Но отдавая со своего плеча, он никак не рассчитывал на предательство или, тем более, месть. Эти два качества не только обезоруживали его, превращая в «грустного ребёнка», но и заставляли давать отпор: последним он всегда тяготился, ибо «не царское это дело — работать экзекутором». Но всё же, приходилось. Ибо «зло не должно было остаться безнаказанным» — ещё один маленький детский идеализм.
Кажется, я случайно произнёс (ещё одно) сорное слово: «в результате». Сразу и в точку! — поскольку именно «в результате» мы, приоткрыв рот от избытка восторга, получили его — полное отсутствие. Раз и навсегда счёт остался нулевым, а игра шла в одни ворота: один-ноль, десять-ноль, сто-ноль, тысяча-ноль... Исключительно благодаря (ещё одно сорное слово) ему, лéпшему дружку Богемскому..., — благодаря его (сначала) тихому неучастию, а затем — такому же тихому — но уже участию. — «Раз, два, три, ёлочка — умри». И прежде всего, потому, что в его кровных интересах (как он их понимал) было: утаить, скрыть, умолчать савояровские открытия, — так, словно бы их и не было. В том числе (и прежде всего), те открытия, плодами которых северный г-н Богемский пользовался — всю жизнь. И если первые три года богемской звукозаписи выставить ему в вину можно было только бездействие, скажем: формальное неучастие или отсутствие дружеского содействия, то начиная с того 1911 года — в дело вступил режим «наибольшего благо’препятствования» (и чем дальше — чем больше), слава богу, к тому моменту связи в «граммофонном мире» у гения Берковича накопились весьма обширные. И тогда повсюду, где только мог показаться конкуррент-Савояров, заранее создавался негативный фон.[55] В таком деле ничто не могло быть излишним и любое испытанное веками средство шло в ход: сплетни,[64] клевета, ехидные остроты, всякое дурное мнение и «даже» высказанная в доверительной беседе просьба впредь «не связываться с человеком, столь ненадёжным, некрасиво поступившим, оскорбившим..., подставившим...» — Как итог: искомое в начале уравнения отсутствие савояровских грампластинок — особенно выпукло заметное на фоне богемского (рога) изобилия. Так было в течение пяти срединных лет (1911-1915). И наконец, последним торжествующим аккордом в этой симфонии умолчания стал (уже упомянутый выше) — военно-политический дефицит шеллака, разразившийся в последние два года империи. Один из прекрасных итогов той войны.[комм. 20] Как говорится, ковать надо было, пока сырьё не кончилось. — Кто успел, тот и с’ел. А кого не пустили, о том, значит, больше и разговору нету... Баста!
Журнал «Граммофонный мир» в 1910 году провёл статистическое исследование,[комм. 21] целью которого было выяснить, как часто артисты работали в <звукозаписывающих> студиях. На первом месте оказался г-н Богемский — он записал 805 произведений, г-н Сарматов — 425, г-н Вавич — 340, все остальные — менее 300. (Для сравнения: полная дискография Владимира Высоцкого насчитывает 360 песен). Рекорд среди артисток установила супруга г-на Богемского г-жа Эмская. В её личном каталоге — 405 записей...[6]
И вот здесь-то, кроме шуток и слов, разница становится видна особенно выпукло: словно в области таза (малого) или груди (на худой конец). Скажем просто и сухо: как себя вели оба персонажа, находясь в этой области... И если богемский г-н Беркович в соответствии со своими желаниями регулярно совершал поступки в полной мере хер’сонские (причём, совершенно безвестные, сидя где-то за кулисами или в суфлёрской будке), то Савояров — только изредка отвечал ему совершенно в савойском духе: личными фумистическими выпадами или уколами, причём, всегда прямо, упрямо и напрямую, при встрече или заочно (и чаще всего — в устной форме). Один плёл интриги и делал гадости за спиной, а другой, время от времени, наткнувшись на очередную «мину», удивлённо отвечал ему: «да неужто ты подлец, Дима?..» — Понятное дело: если дела первого были призрачны и невидимы, то второй, напротив, почти всё высказывал прямо на воздух, да ещё и с открытым забралом. Как следствие, для стороннего глаза вырисовывалась хрестоматийная картинка из букваря, на которой наивный красавчик Богемский «ничего такого не сделал», а против него едет большая телега, запряжённая отборной херсонской свининой, да ещё и постреливает в небо.[65] — Слово за́ слово, колкость за колкость, эпиграмма за эпиграммой, так постепенно и свилась ещё одна верёвочка, добавившая кое-каких отрубей в свинью-копилку скандальной репутации нерукопожатного «короля эксцентрики».[55] И только сегодня, спустя (смешно сказать!) сто лет мне сызнова выпала сомнительная честь: сделать тайное явным и в который раз выудить первозданное человеческое дерьмо из нижнего... & исподнего. К сожалению, не имея в виду сейчас бельё (или отсутствие оного)..., но — вещи куда более тяжёлые и злокачественные (из арсенала серых медведей).
Надеюсь, я (никому) не открою большой тайны, если напомню, что любая жизнь происходит исключительно «здесь и сейчас», в конкретном месте и во времена до неприличия краткие: и моргнуть не успеешь, как всё кончилось... И если сегодня, поглядывая из своего «прекрасного далёка», мы видим почти девственно чистую от мусора равнину начала XIX века, среди которой..., на почти почтительном отдалении друг от друга возвышаются (словно поганки после дождя) величественные фигуры Бетховена, Давида или Гёте, — то нельзя не понимать, что тогда (на месте и во время) всё имело совершенно иной вид. Точно так же, как и сегодня. — И прежде всего потому, что любой человек, каков бы ни был его умозрительный масштаб (будущий, внутренний или ретроспективный), пока он жив, неминуемо погружён в окружающую его среду, существуя с ней «на равных» или (что случается неизмеримо чаще) даже «на неравных», понимая последнее обстоятельство как уязвимость и неприспособленность более тонкой натуры к повседневной грубой реальности процесса. И дело здесь даже не в той пресловутой (не)способности иметь в запасе необходимые шестьсот когтистых рук, чтобы в нужную минуту успеть прижать к ногтю «счастливый момент», схватить за волосы фортуну, оттаскать судьбу за бороду и зажать в кулаке удачный случай...[23] Моя речь значительно проще..., потому что любой Художник или Артист с большой буквы (со всеми его странностями и слабостями характера) вынужден существовать в мире (среде), органически созданной не им и не для него. Не по его натуре и не для его возможностей. Несоответствие — штука жёсткая, оно не терпит чужих и не даёт поблажки. И едва очередной Гений (Инвалид божьей милостию) ожидаемо не справляется с постоянным давлением (напором) обыденного человеческого осмоса, как оно тут же (пробкой!) выплёвывает его на обочину их общежития, превращая номинального Гения — в неудачника, маргинала, чудака, сумасшедшего или в прямом смысле: отверженного, парию, чандалу...
По счастливому стечению обстоятельств (внутренних и внешних), Михаилу Савоярову (при всём своём «королевском» статусе) кое-как удалось удержаться в пред’последнем шаге от придорожной канавы. Однако трафаретной расплатой за невыполнение «социального минимума» стало тотальное умолчание сливок общества, «высших» культурных кланов, не желавших не только о нём говорить, но и даже знать. Эта дружная, хотя и не обсуждаемая зона умолчания, которая намертво прилипла к нему при жизни (как до 1917 года, так и, тем более, после) — и не оставляла после безвестной (почти безымянной) смерти в 1941 году, нарушена только сегодня. Усилиями его внука, всю жизнь поступавшего вне правил, ходившего поперёк дороги и писавшего помимо строк. Прежде других в ряду подобных «вечных протестантов» оказался Александр Блок, для которого Савояров в 1915-1918 годах внезапно сделался светом в окошке;[66] а вослед за ним — Виктор Шкловский, внезапно удивившийся и — повторивший два слова о поэме «12»;[67] Жорж Баланчин, не забывший о своей питерской молодости... и Соломон Волков, единожды собравший их всех вместе.[68] — Все же остальные, от Северянина до Галича и от Менакера до Рязанова — молчали как пробки.[22] Между прочим, в ряду этих пробок, поначалу только молчавших, но затем — ещё и активно замалчивающих (и даже противо’действующих), оказался и пресловутый дядя-Дима. Ещё один верный ублюдок клана (не имея в виду под этим словом грубого ругательства, но только констатацию факта), маленький богемный подлец, в течение десяти лет стрелявший по «королю эксцентрики» из единственного оружия, которое у него было всегда под рукой. Можно бы назвать это оружие «граммофонной трубой», конечно. Так будет забавно... Но всё же вернее будет сказать прямо: «твоё дело — труба, Дима...» Причём, совсем не граммофонная.
И совсем не зря (скажу я напоследок менторским голосом су’мрачного идиота)..., да..., и совсем не случайно жизнь богемского Берковича имела после 1931 года столь тяжкий вид серой гранитной глыбы (на право...славном волковском кладбище), поставленной поверх того места, где только недавно была черепная коробка бравого конферансье Бенгальского.[41] Первая граммофонная жена (Эмская) умерла раньше него, ещё в 1925 году. — В те времена тотального вычищения генофонда нации умирали все, кто не способен был выжить в первобытной среде очередной имперской катастрофы. Спустя шесть лет медицинские последствия «революции» (в форме очередной репертуарной комиссии) настигли и куплетиста-Диму. Но тем дело не кончилось. Тяжкая длань пролетарского возмездия продолжала крушить всё инородное, что попадалось на пути. Первая тяжкая расплата последовала от собственного сына, а затем и его дочери, как это ни странно. Выглядит тем более причудисто, что все они (как один) носили эпигонскую (для нас, Савояровых) фамилию «Богемские», дружно пренебрегая старорежимным Берковичем. Трудно сказать, может ли быть больший налог, чем непонимание и брезгливость со стороны близких..., в том числе и кровных. — Как выразилась (спустя чуть не восемь десятков лет) благая внучка дяди-Димы Бенгальского (её звали Ксюша), всю жизнь она с неловкостью «думала, что дедушка еврей, и я на четверть еврейка», но, слава богу, это оказалось не совсем так. К её громадному облегчению внезапно вскрылось, что мать её дедушки была немкой (видимо, этот вывод последовал исключительно из её имени: Анна, как будет видно чуть-чуть н и ж е). Так что, слава богу, «я только на одну восьмушку еврей<ка>, зато ещё и чуть-чуть немец». Правда, эстрадно-куплетная ипостась дедушки её не слишком огорчала, чего никак нельзя сказать о его сыне, Георгии (Юрии) Богемском. И вот что пишет об этом предмете та же Ксения Богемская: «Вместе со своей первой женой Марией Александровной Эмской он записывал граммофонные пластинки с песенками фривольного содержания. Папа, который учился в Анненшуле в Ленинграде, рассказывал, что в детстве он очень стеснялся этих пластинок, которые были еще многим известны, а сейчас, их конечно, можно найти только у коллекционеров».[70] Совсем не трудно представить себе эту куплетно-мелодекламационную неловкость, стеснение... и даже страх молодого человека (напомню дату его рождения: 10 апреля 1920 года), которому в 1937 году, посреди стаи сталинских соколов было семнадцать, и он мечтал сделать (блестящую) карьеру советского дипломата... И тем не менее, оторопь берёт при одном беглом взгляде на этих родственников...[71]
Он..., столько сил потративший на то, чтобы умолчать, подавить славу своего учителя и друга молодости, сам — уже в первом поколении — превратился в предмет сокрытия, неловкости, стыда и даже страха своего сына: чуть больше, чем просто ничто, всего лишь нежелательное последствие, осадок, пыль на книжной полке, компост времени. Как всегда, они сами..., без нашего малейшего участия, справились (& расправились) друг с другом. Одним лёгким движением: разом уравновесив, обнулив и без остатка ней-тра-ли-зо-вав всё, что было, хотя бы немного выделяясь над общим уровнем почвы.
И вот, можете полюбоваться напоследок на глянцевую картинку культурно-исторического триумфа. Потому что вчера, сегодня и завтра... уже я (внук короля, как и мой дед) могу предъявить финальный счёт вдогонку исчезнувшему мсье..., пардон, товарищу г-ну Богемскому за его пассивно-посильную роль ещё одного мелкаго беса в царстве Вселенской Пустоты. — За тó, что он (выступая фактически в роли координатора и почти монополиста при доходном деле) издавал на «своих» заводах грампластинок всякую дрянь (свою и эм-скую), так и не сделав ни одной пластинки своего ближайшего коллеги и непримиримого друга, чтобы не сказать в точности напротив: ввёл, как мог, режим максимального «благопрепятствования» на его звукозапись. А что в результате?..., — этот херсонский культурный «трегер от бороздки» своими (волосатыми) ручонками растворил в воздухе совершенно отдельный, уникальный пласт российской эстрады Серебряного века и, одновременно, дерзкого сценического авангарда, не имевшего ни прецедента, ни аналогий и, как следствие, оставшегося без живого звука. Россия 1910-х осталась без своего (едва ли не) единственного фумиста. — В общем, дурак ты, Дима..., раз и навсегда: дурак..., — закончу я равнодушно словами своего деда, ещё одного внука... ещё одного короля...
конечно, оставим..., и не будем поминать..., после всего.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ком’ ментарии ( богемские )
Ис’ сточники ( тоже хрестьянские )
Лит’ература ( для обращения )
См. тако’же ( слегка искоса )
* * * эту статью может улучшать или ухудшать « s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »
| ||||||||||||||