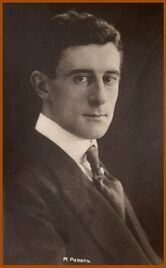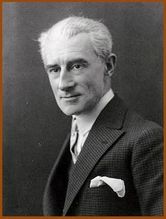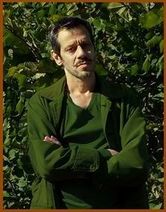Мэри Дэвис (Эрик Сати)
( в заднее число ) ( Мх.Савояровъ )
Э
Итак, первое слово сказано. Всего лишь, вернёмся на один шаг назад. Позволю себе повториться и повторить..., а затем всё то же самое — ещё раз (как в худших домах Лондóна). Шестнадцать лет назад (я сказал) мы с Эриком (впервые) закончили эту книгу, — Впервые. Или дважды впервые (если не трижды). И не просто закончили, но — вопреки всему и всем (закончили), кто ещё находился в этом времени. Потому что нам в этом трудном деле не только никто не помогал, — но даже..., как бы это сказать, совсем напротив (и даже на противной стороне улицы). Здесь и сейчас, — я повторяю, — здесь и сейчас, в вашем утлом мире, — существование этой книги можно считать — чудом. Хотя это «чудо» сполна оплачено моей и его сывороткой, соплями и кровью. Как (было) припечатано в последней главе той сáмой книги, всё это время я сидел в окопе, а Сати — в лазарете.
Шестнадцать лет назад, — я сказал. И немного промахнулся. Потому что эта книга вообще не имеет времени. Нет-нет, я не намекаю ни на что сверх..естественное или призрачное. Всё сказанное предельно прозрачно и жёстко. Как молоток (без гвоздя). И прежде всего, чтобы не произносить пустые слова, напомню очевидное: это — первая книга Сати и о Сати на русском языке. Но далеко не только на русском. Потому что ни на одном общеизвестном языке более нет и не может быть такой книги. И сегодня, спустя шестнадцать лет, она остаётся по-прежнему первой и единственной. В своём роде. И останется завтра... Несмотря ни на что и вопреки всему (ещё раз и снова). Потому что главным в присутствии сделанного нами текста посреди мира людей остаётся его фундаментальное свойство: это вообще не книга, и не вещь. Но поверх всего — прецедент & событие, не имеющее подобия. Если не понятно — могу объяснить.
Здесь и сейчас, спустя шестнадцать лет после выхода первой части романа «Скрябин как лицо», наследующие ему «Воспоминания задним числом» показали пример,[комм. 1] который мало кто может понять, но ещё менее способны — последовать. В полной мере продемонстрировав жёстко поставленную внутреннюю системность, эта вещь выполнила функцию исторического казуса «продолжения Эрика Сати сегодня». Первой, кто подметила эту жестокую деталь, стала, как это ни странно, мадам Орнелла Вольта (за десять или даже, смешно сказать, за тридцать лет до того момента, когда книга впервые увидела свет). Двадцатью годами позднее её рассеянное суждение, сам того не ведая, дополнил Борис Йоффе. Как следствие, книга ещё до своего рождения получила все прелести существования «Сати сегодня».[комм. 2] — Не пóнятая, обруганная, оболганная или замолчанная (как и оба её автора — при жизни), — этот якобы неодушевлённый предмет (тоже так же как и они оба) проявил все признаки «непримиримости», продолжая непреклонно существовать во враждебном или равнодушном окружении.
Имею наивность сказать, однако, что эта Вещь могла бы стать оправданием своему издательству (за предыдущий десяток лет с лёгкостью угробившему оба тома «Скрябина как лицо»), однако вместо того сделалась ещё одним обвинением. Причина проста, проще не бывает — всего лишь, природа человеческого существа, — и не более того. А в итоге несложного уравнения, получаем как во все времена от сотворения мира необязательное зло во всех его роскошных формах: небрежение, неисполнение собственных обещаний и поверх всего — органическая подлость (в качестве пикантного соуса). Следующее достижение на этом славном пути — крошечный тираж первой книги Сати, упавший от фонаря в подвал и ставший, как это у них принято, предметом скромного воровства. К счастью, с этим уже покончено.[комм. 3] Точно так же, как при жизни Сати было покончено с подавляющим большинством его опусов и текстов.
И точно так же, как оба автора, их совместная книга стала поводом для появления, так сказать, «последователей» (чтобы напрасно не вспоминать об эпигонах), а затем и предметом нападок с их стороны, короче говоря, всё как обычно — в лучших традициях «человеческого общежития».[5] Как прямое (по)следствие и реакция на «Воспоминания задним числом», в двух российских изд(ев)ательствах (ещё в 2009 году отказавших одному из её авторов), спустя пять-семь лет были выпущены (вдогонку) небольшие переводные книжки с текстами Эрика Сати или о нём. «Продолжение Эрика Сати сегодня», не правда ли? (не будем забывать). — И в точности так же, как это было в случае известного пакостника Жоржа Орика, увлечённо пинавшего «своего любимого мэтра» ногами под столом,[комм. 4] дело очень скоро кончилось прямыми оскорблениями. И уж во всяком случае, ни один из русскоязычных последышей не признал своей вторичности и не проявил ни малейших признаков «сыновнего» почтения. О первом из них я здесь говорить не стану: и без того, про «тётку Труффальдину» уже сказано более чем достаточно. Как широко известно в узком круге, её мимолётная карьера кончилась битьём туфлёй по трибуне и воплями в стиле: «чтобы я здесь этой фамилии больше никогда не слышала». Но всё же (напомню), эта страница (если ещё раз кинуть взгляд на её верхний заголовок) сделана ради совсем другого предмета. «Мэри Дэвис» (называется этот предмет).[комм. 5] И — ни слова об Эрике!
Короче говоря, всё было как при Его жизни. Будто бы и не прошло никаких ста лет (и в самом деле, Франция начала XX века иной раз слишком напоминает кое-что вчерашнее). Словно прыщ на пустом месте, наша «первая и последняя» книга стала идеальной провокацией для неопределённого числа «одутловатых и просроченных», — сделанная в точности по образу и подобию двух Эриков (одного, который её писал и второго, который в ней жил), — такая же шершавая, неудобная и непримиримая к любой обывательской тупости. Пускай даже несовершенная, сокращённая и усечённая (исключительно ради первородства своего).[комм. 6] И что же дальше? Поглядев на эту странную Вещь, оба упомянутых изд(ев)ателя (один в мосве, другая в питере) хлопнули в ладоши и воскликнули: мы сделаем иначе, мы сделаем лучше. Браво, дорогие тётеньки, вперёд! Аплодирую вам четырьмя руками. Прошло пять, семь, десять лет. И что же они смогли, сердешные? — Результат говорит лучше слов: точно так же по образу и подобию творца своего — только обычное & посредственное, как и они сами, типичные обыватели этого мира.[6] И как следствие, — первородно подлое, по сумме признаков. Должно быть, вы опять спросите: «но почему же?» — трогательный вопрос, который уже несколько раз был отвечен. — Тому порукой, прежде всего, сам Эрик Сати, проживший всю свою жизнь — отдельным и непримиримым к человеческой среде, норме (посредственности). Менее чем кто-либо другой, он заслужил, чтобы его помещали в виде пенки в такую, прошу прощения, конвенциональную посудину со второсортным дерьмом.
...если хочешь, чтобы тебя оболгали, — обратись к профессионалам.... Переводная книжка Мэри Дэвис[7] про Эрика вышла из недр издательства «ad marginem» спустя семь-восемь лет,[8] — и её появление (как всегда, при поддержке группы спонсоров и прочей привычной смазки) точно так же не избежало продолжения нападок на автора (задним числом). По какой-то неведомой для меня причине мой давний «оппонент», мсье Смотров, назвал эту книжку «академической» (наверное, он тоже не держал её в руках).[9] Ещё более стандартизованная конвенциональная жеванина, чем предыдущая поделка, изданная питерскими млекопитающими, она не заслуживала бы упоминания, если бы не чудовищное число ошибок в её тексте, иногда нелепых и глупых, а иногда — оскорбительных (для Эрика) или анекдотических, находящихся на грани (или за гранью) тупой безграмотности. Собственно, так и было все эти годы: ни сном ни духом я не помышлял о том, чтобы когда-то даже упоминать об этой стандартной конвенциональной поделке. Попросту, это не входило и не могло входить в мои планы. — Впервые узнав о существовании ещё одного русского издания об Эрике из партикулярной рецензии на мою книгу, я не испытал к нему ни малейшего интереса. Сорок шестая в пятой шеренге, она пополнила (не)дружные ряды стандартной (клановой) биографической литературы об Эрике, которая выходила в Европе, начиная с 1930-х годов (первой в этом числе была книжка Тамплие).[комм. 7] Однако совсем иного мнения придерживалась сама мадам Мэри Дэвис. Если судить по её поведению, с 2017 года она поставила себе цель — напроситься..., прямо-таки «наброситься» на мою рецензию. И с этой целью регулярно мозолила мне глаза, причём с самых разных сторон. И наконец, спустя ещё восемь лет, ей удалось. Немного отложив в сторону работу над одной (литерату-турной) провокацией, я решил выделить два-три дня на эту жёваную макулатуру. в’ведение
кажется, лет пять назад это было. Или даже шесть (лишнее вычеркнуть). Один из малых (по)читателей моего наследства прислал мне на почту ссылку с говорящим заголовком: «Эрик Сати — авангардист до авангарда», лишний раз напоминающим, что ханóграф не только читают со всех сторон, но примерно так же и пользуют. Не слишком, конечно, пользуют (как умеют), но зато — по потребности, что (конечно же) не может не вызывать благодарности. Буднично ткнув стрелочкой курсора в присланный адрес, я свкоре наткнулся на две подозрительно знакомые физиономии... и лишний раз убедился, что ко мне эта «презентация» не имеет никакого отношения, равно как и к мсье Сати (разве что, к русскому поэту Н.А.Некрасову?.., — хотя и в последнем я тоже не сильно уверен). Всего лишь, ещё один маленький артефакт дряблого слюнотечения: во все времена на свете существует масса приятных людей, не способных придумать даже мало-мальски путного заголовка и предпочитающих его попросту — стянуть. Как говорил в таких случаях Эрик, «как всегда, они щедро приписывают себе якобы сделанные ими находки, & на самом деле потихоньку шныряют в гардеробе по чужим карманам»...[5]
Само собой, одной этой мелочи было слишком недостаточно, чтобы обратить на неё (него, них) внимание. Читать очередную жеванину у меня тем более не было ни желания, ни времени, так что я попросту закрыл страницу и отправился → туда, к праотцам (всемирно известным маршрутом), заниматься своими н(е)изменными делами. Однако не тут-то было... Спустя примерно полгода Мэри Е.Дэвис снова напомнила о себе, но уже в виде цитаты — как оказалось, оттуда же, с дармовой презентации, которую я с первой попытки не почтил прочтением. И вóт что там оказалось написано, чёрным на голубом (глазý): Предвидев вопрос[комм. 8] о книге Юрия Ханона «Воспоминания задним числом» хочу сказать, что при всём при том, что Юрий Ханон — очень хороший человек и достойный композитор, отношение к этой книге у меня достаточно резкое. Узнавать по ней о Сати всё равно, что учить российскую историю по романам Пикуля. Этот жанр я бы назвала так: Само собой, и второй этой мелочи было слишком недостаточно, чтобы обратить на неё (него, них) внимание. Как говорится, далеко..., — и очень далеко не в первый раз мне, старому отщепенцу, слышать «ласковые слова» — оттуда, со стороны клана. Кажется, только ленивый (из числа академических псов) меня ещё не лягнул (редкая птица долетит до середины этой сточной канавы). Да ещё и какими словами меня обычно склоняли..., иной раз (причём, совершенно заслуженно, на их месте я себя ещё и не так бы приложил), и до русского мата доскребались, от избытка-то чувств. На общем фоне эти слова, пожалуй, ещё и ласковыми можно счесть. И поклониться признательно, мол, спасибо тебе, дражайшая Лизавета, что я, оказывается, «очень хороший человек и достойный композитор» (правда, без уточнения — чего именно он достойный). Я бы ничуть не удивился, если бы оказалось, что этот Ханон «и человечишка-то поганенький, а уж композитор — и вовсе дрянь», так что и книга у него вышла такая же. Так вышло бы логичнее, по крайней мере. — Правда, немного покоробило слишком уж большое количество нелепостей и вранья, беспорядочно сваленного в кучу, ну да ведь и к этому нам с Эриком не привыкать. Как говорится, мы с ним не раз ещё и не такое выблёвывали, при жизни. В итоге, если отжать воду из Елизаветинских камланий, то в сухом остатке оставались всего две претензии. Загибаем пальцы. Первая: «Ханон проснулся и решил, что он Сати», — проще говоря, визионер и бред’мейстер (вроде кретина-Пеладана). Это очевидная ложь.[комм. 9] И вторая: «в его книге одни выдумки, а если хотите знать Сати, каким он был на самом деле — вот наша книга от Мэри Поппинс». И это тоже очевидная ложь.[комм. 10] Однако всего перечисленного далеко (и очень далеко) не хватало, чтобы все эти пустопорожние колыхания воздуха (да ещё и на презентации какой-то конвенциональной жеванины) приобрели хоть какое-то значение. Не говоря уже о смысле...
Само собой, и третьей мелочи было бы слишком недостаточно, чтобы обратить на неё (него, них) внимание. В качестве этой мелочи, прошу прощения, выступил маленький визави мадам переводчицы, некий Алексей Борисыч Любимов, для которого, как оказалось на этой презентации «Эрик Сати не просто композитор, а член нашей большой музыкальной семьи, родной и близкий человек, которого мы искренне любим» (играл-то наверняка не бесплатно, чёрт). Потому что..., и для меня ведь этот «Борисыч» человек совсем не чужой. Успевший отметиться если не делами, то словами отнюдь не блестящими (уж больше тридцати лет тому). Скажу очень кратко, чтобы не растекаться... Помнится, попросили меня как-то зайти в филармонию в репетиционные классы, поиграть ему «Три одинаковые сонатины» недавно написанные (кстати говоря, вещь совершенно «сатиерическая», написанная в комплект к его тоже Сонатине, но только бюрократической). Не люблю я такие дела..., да и к тем годам уже давно никому ничего не играл. Но неловко было отказать этой женщине, она с Любимовым, по её словам, уже договорилась и он «меня ждёт». Ну, пришёл. Жду. Полчаса ждал, потом — собрался уходить. И тут, наконец, появился какой-то маленький вертлявый человечек в очках, приветливый, улыбчивый (хотя за опоздание не извинился). Ну и чёрт с тобой. — Поставил ноты. Начал играть (одну первую часть только и успел). И как-то совсем противно мне стало, чую — что-то не тó я играю. Не тáм. И не томý... Поднял глаза. А он всё приветливее смотрит на меня, улыбается. «Знаете, — говорит, — Вы мне нравитесь гораздо больше, чем Ваша музыка. Вы такой милый!.. Давайте пойдём лучше выпьем водки» (а меня заранее предупредили, что с этим могут быть проблемы) В общем, спасибо тебе, Лёша. Вместо одинаковых сонатин получил я какой-то сплошной «...член нашей большой музыкальной семьи, родной и близкий человек...», чтобы не сказать чего-нибудь лишнего (слово-то «харассмент» в те времена у нас ещё не употребляли, во всяком случае, я его тогда не знал). Поглядел я на него (а он росточком-то на полторы головы меня ниже, совсем мелкий), да противно мне стало сверх всякой меры, что я тут перед ним ещё свою сонатину разыгрывал как дурень последний, тоже, вроде Эрика. Сложил я ноты в авоську свою старую, да и ушёл не оглядываясь... Далее многоточие, скобки открываются (достаточно). — И вот теперь, значит, этот грязный «дедуля», слишком уж наглядно оболгавший мою музыку (которая в случае этих сонатин — до неприличия очевидное «продолжение Сати сегодня»), ходит в числе людей «родных и близких», которые Эрика «искренне любят...» — Ну это уж дудки, мамочка моя.[комм. 11] Здесь, пожалуй, ты совсем через край хватила. Я-то уж, в отличие от Вас, мадам, отлично помню, — кáк Сати жаловал этих... «пионистов» в голубоватых тонах, наверняка ведь позабыли (разве только если откроете книгу «фантазий Ханона» на странице 463, там он говорит об этом столь цветисто, что я даже стесняюсь здесь цитату привести из письма Марсель Мейер..., тоже выдуманную мной, как и всё на этом свете). Хотя..., я нисколько не сомневаюсь, что книгу эту Вы и в глаза не видали — не то, чтобы «читать». М-да... Но мы же с Вами, душа моя, отлично понимаем (со времён богоподобного пастернака): чтобы обругать и принизить конкуррента, книжку читать не просто не обязательно, но даже вредно.[комм. 12] Впрочем, оставим пустые разговоры. Потому что даже и этого всего (вместе с предыдущим) далеко (и очень далеко) не хватало, чтобы бросить свои дела и сказать пару слов... в ответ.
И всё-таки..., да..., прошло ещё года три, четыре, и всё-таки случилось такое нечто, заставившее меня оставить на пару дней свои дела, взять в руки перо, стило, швабру, метлу и ещё три дымовые шашки ради этой кошмарной по(д)делки, которая называется «Мэри Дэвис» (Эрик Сати). Но никак не наоборот. К счастью, я не имею чести знать эту амэрэканскую миссис с её миссией (для начала, мне вполне хватило и мадам Орнеллы). Тем более, у меня нет ни одного дурного слова в её адрес, кроме банального — «деньги-товар-деньги» (как и в случае с её русским переводом). И если бы не публикация (восемь лет назад) книжки, сопровождавшаяся нападками на нас с Эриком (sic! — я не оговорился), я бы не стал обращать внимания на очередную жёваную макулатуру под соусом «критических биографий». Однако извольте. Всё это случилось. И сошлось в одной точке. А потому — получите обратно всё, что сделали и сказали. Не в полном объёме, конечно. Но хотя бы немножко, самую малость... Пару малых крошек от того пирога, который вы уже поделили..., и собираетесь делить впредь. ...и вот, значит, о чём я сейчас вам скажу... до’ведениеОткрыл ещё раз ― и захлопнул.[12] ( Мх.Савояров )
нет, я вовсе не стану врать (с важным видом, как моя визави), будто читал эту книжку. Например, открывал её. Или хотя бы держал в руках. Пожалуй, ещё лет тридцать на зад я сделал бы это. Но вот ведь какая незадача! — тогда этой книжки не было. И далеко не было. Ну..., примерно как и сейчас, пожалуй. Потому что это, с позволения сказать, «произведение» тянуло бы на неплохой артефакт фумизма (при непременно условии, что именно так была бы сделана), но никак не на книжку про Сати. Кажется, весной это было. Полгода назад. Понадобилась мне кое-какая цитатка для очередной работы. Примерно я эти слова помнил (насчёт малыша-Равеля), но точно привести не мог. — Что делать? Рецепт известен. Открыл я гугл-книги, внёс в поисковик несколько ласковых слов..., поглядел на результаты... Того, что мне было нужно, не нашёл, конечно (пришлось потом рыться в своих бумажных архивах), но зато, прости господи, наткнулся на дивную сказку, каких не видывал со времён дедушки Салтыкова. Или ещё раньше... Пожалуй, при иных условиях тянула бы она на всего Ханса Христиана с братьями (в гриме). Никак не меньше. Да ещё и брата моего Даниила Ивановича с тремя сыновьями в’придачу... — Прошу прощения, закашлялся немного. Сейчас закончу фразу и приведу эту цитату.
Как отче наш, отныне каждый верующий (в Парсье) христианин должен день свой начинать с этих слов, биясь благоговейно лбом об пол. И кончать тоже ими. Как дядя-лёша (любимый). Перед сном. — А затем спокойно засыпать с умиротворённой улыбкой на устах... Итак, прошу жаловать. Вот она, цитата первая. Из той книги, которая теперь (вне сомнений) займёт своё заслуженное место в пантеоне, между козлоногим сатиром и двумя толстыми нимфетками (из той же сказки). Весьма популярные салоны и музыкальные вечера розенкрейцеров Пеладана продолжались до 1897 года, но Сати довольно быстро расстался с Саром. Уже летом 1892-го композитор был вовлечён в другой проект: в июне он сочинил две прелюдии для исторической пьесы Анри Мазеля «Назареец» (украсив ноты собственным рисунком средневекового замка), а в июле объявил о предстоящей постановке трёхактной оперы «Бастард Тристана» в Большом театре Бордо, на либретто своего коллеги из Le Chat Noir Альбера Теншана. Из этих планов ничего не вышло.[комм. 13] Также не увенчалась успехом попытка Сати стать членом Академии изящных искусств; среди тех, кто голосовал против его кандидатуры, был и Морис Равель, написавший, что Сати — «абсолютный лунатик», который «ничего в своей жизни не сделал». Сати ещё дважды выдвигал свою кандидатуру в Академию — в 1894-м и в 1896-м, оба раза безуспешно.[8] Итак, дело сделано. Наконец-то, шедевр Мэри Дэвис увидел свет. Он опубликован (видимо, впервые). Это случилось сегодня, 1 ноября 2025 года. Спустя восемь лет после выхода русского перевода книги. И спустя восемнадцать лет после публикации английского оригинала. И даже (намекну по секрету) спустя двадцать шесть лет после рождения первого варианта того же самого (с продолжением и двумя заключениями, в точности, как у брата моего, Эрика). В точности, этот пассаж напоминает мне хрестоматийный «дуэт трёх обезьян в полном одиночестве» (ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу). При том, что имена всех этих обезьян заранее известны. Здесь и сейчас. Даже более того, все они уже названы и прозвучали: тоже здесь и тоже сейчас, на этой странице (см. выше или ниже, без разницы). Точка, запятая, скобки закрываются (я сказал). Dixi.
Для тех же, кто прочитал и не понял (в чём тут соль), добавлю ещё несколько слов. Потому что опубликованный (полный!) абзац представляет собой подлинный шедевр, которым можно гордиться на все времена. Человек, написавший такое (пускай даже это женщина, или две) может быть удовлетворён до последних дней, потому что ничего лучше он уже никогда не напишет. И не опубликует. Ибо руками его, глазами его и головой его в ту минуту руководило само Провидение. На пáру с Совершенством... Ещё раз я повторю здесь фразу, ради которой затеял всю эту страницу. Вот она, читайте и плачьте от радости, дети мои: «Также не увенчалась успехом попытка Сати стать членом Академии изящных искусств; среди тех, кто голосовал против его кандидатуры, был и Морис Равель, написавший, что Сати — «абсолютный лунатик», который «ничего в своей жизни не сделал». Точка. Кавычки закрываются. «Поэт сказал: достаточно». И пошёл пить водку (причём, один, без любимого клавесиниста).
Ну хорошо, сейчас объясню. Потому что шедевр такой невероятной силы и выпуклости заслуживает не только моего времени, но даже — слов. Эта фраза, в которой прекрасно всё, совсем как у Антона Палыча... За что ни возьмись. За какую ниточку ни дёрни, а всё вылезет — дурень, причём, не простой дурень, а волшебный — ко(с)мический. Потому что имя ему — профессионал. Да... Настоящий профессионал своего дела (всё, как любили мы с Эриком, при жизни). Итак, прошу получить раз’жёванное и пере’варенное... Миссис Мэри Дэвис пишет в своей книге (про неизвестного комозитора С.), будто всем известный (да, ведь мы все его знаем!) был и Морис Равель был «среди тех, кто голосовал против кандидатуры» Эрика Сати, выдвинутой (дальше без уточнения) на очередное опустевшее кресло Академика французского Института Изящных Искусств. Точка. Эрик Сати выставлял свою кандидатуру трижды (в 1892, 1894 и 1896 годах, так получилось красиво, но случайно), претендуя, соответственно, на три кресла академиков (Эрнеста Гиро, Шарля Гуно и Амбруаза Тома), освободившиеся в результате их естественной смерти. В это время Эрику Сати было двадцать шесть, двадцать восемь и тридцать лет (по всем местным критериям возраст слишком молодой для соискания звания академика). Подробнейшая статья на эту тему (наша совместная с Эриком) имеется здесь за углом, причём, находится она там — очень давно. В качестве дополнения замечу, что голосовать во время выборов очередного академика имели право только его коллеги (или не коллеги), тоже академики, за исключением одного из них, который умер. И что же, теперь я спрашиваю, известно ли миссис Мэри Поппинс, в каком году родился Морис Равель..., и вообще, кто это такой? (безотносительно Эрика Сати, пока...) Могла ли она при написании своей книжки, например, открыть музыкальный словарь (хотя бы), ну или википедию, на худой конец, и посмотреть дату его рождения? Я уж не говорю о том, что если берёшься писать книгу о Сати (напомню: в серии «критические биографии», между прочим), неплохо бы держать в голове, что Равель, к примеру, был значительно младше Сати (почти девять лет). А друг-Дебюсси, напротив, немного старше (без малого три года). Почему нужно бы это держать в уме?.. — да потому что эти два человека (повторяю: ЭТИ ДВА человека) сыграли в его жизни (& при его жизни) такую роль, которую более никто (из людей) не сыграл. И сыграть не мог. В конце концов, вообще какая-нибудь голова есть у этой тётушки-Мэри или на её месте готовый прибор? Давайте повторим как на уроке арифметики (второй класс). Сати выставлял свою кандидатуру на кресло академика три раза: в 1892, 1894 и 1896 годах. Равель родился 7 марта 1875 года. На выборах нового, прошу прощения, члена могли голосовать только академики (как это происходит сегодня на нобелевскую премию). Точка. И тем не менее, мы умилённо читаем: «среди тех, кто голосовал против его кандидатуры, был и Морис Равель, написавший, что Сати — «абсолютный лунатик», который «ничего в своей жизни не сделал». Таким образом, в момент голосования «академику Равелю» (студенту консерватории) было, соответственно, семнадцать, девятнадцать или двадцать один год. — Анекдот, да и только!
Прежде всего, потому, что эти слова — которые могли бы позабавить Сати (будь он в благо’душном состоянии) представляют собой смертельное оскорбление для Равеля. Именно так. И в «Воспоминаниях задним числом» (которые не более чем бред их автора) сказано об этом примерно 33 раза. Словно в старой волшебной сказке про жареную курицу (с такими же мозгами). И здесь я задаю вопрос уже девочке Лизе, выдавшей своё «резкое суждение» о книге, которую она не держала в руках: «когда она переводила эту фразу, у неё ни разу ничего там внутри не ёкнуло, нет?..» И произвести вычитание 1892 минус 1875 она тоже не сумела? Или просто не знала (и не хотела знать), кто такой Равель, кто такой Сати и какое значение они имели в жизни друг друга? — ну ладно, расскажу по секрету. Ещё осенью 1893 года маленький поклонник Эрика Сати, студент парижской консерватории музыки и декламации, попросил своего папу-инженера (изобретателя бензиновой повозки), по странному совпадению, тоже носившего фамилию Равель, устроить ему встречу с человеком, творчество которого заставило его заняться сочинением музыки. И папа не сплоховал. И они-таки встретились в кафе «Афины» (Париж, Франция, Европа, Земля). Об этой, несомненно, исторической встрече, между прочим, подробно написано на страницах 82-83 в той книге, о которой у тёти-Лизы «резкое мнение» и которая есть не что иное, как «фантазия только что проснувшегося композитора».[3] Но ведь она же не читает глупых книжек. И про Равеля тоже ничего не знает. Хотя... если бы не малышка-Равель (многократно обруганный нами с Эриком — вместе и порознь), — я повторяю, — если бы не он, не пришлось бы ей переводить дурацкую книжонку Нью-Йоркской белошвейки Мэри Поппинс, — потому что не дали бы ей бáбок, пардон, — баксов на биографию никому не известного комозитора. И тёте-Лизе не дали бы тем более, потому что если бы не Равель (нежно любимый мной и Эриком — вместе и порознь), мало кто бы на свете сегодня знал о такой фамилии: Эрик Сати. И скорее всего, он бы умер не в июле 1925-го (уже мэтром авангарда), а куда раньше, например, во время войны. Как его презираемый визави Эрнест Фанелли (что, такого тоже не знаешь? — так почитай немножко, моя крошка). Вóт почему я сказал: «эти слова представляют собой смертельное оскорбление для Равеля». Никто на свете не сделал больше для публикации и признания творчества Сати, чем этот Равель. Частью, поступая ради этого в самом деле, но частью, преследуя свои собственные цели. — Но так было, чёрт побери. «Никому в творчестве своём я не обязан более, чем Эрику Сати», — и это слова Равеля, между прочим (приведённые в той же книжке фантазий).[3] Слова, от которых он никогда не отказывался и всегда был невероятно терпелив к выходкам и «трюкам» своего «доброго учителя». И даже десять лет спустя, многократно осмеянный и утыканный в мягкое место разными гвоздями и гвóздиками от Эрика, он никогда не отвечал ему резкостью на резкость (и это тоже есть в книжке, девочка моя). И что же, вы мне хотите сказать, Лиза и Мэри, будто этот 17-летний академик «голосовал против его кандидатуры <...> и написал, будто Сати — «абсолютный лунатик», который «ничего в своей жизни не сделал»? Так я отвечу, просто и прямо: вы две дуры, мои дорогие девочки (не считая третьей), и не только ничего не знаете (и не хотите знать) об Эрике, но и вообще ничего не соображаете, повторяя друг за дружкой одну и ту же глупость, как три попугая. Действуя и существуя как трамвай, который ездит только по рельсам, в точности по определению из «Мусорной Книги», где сказано буквально следующее: «подавляющее большинство людей рождается, живёт и умирает — так и не приходя в сознание...»[15] Интересно бы после этого узнать, чьи это слова, дорогая Лизанька, про комозитора, который «проснулся и понял, что Эрик Сати — это я, и на него снизошло». Ну хорошо. Я-то хоть проснулся. Но ведь ты-то, душа моя, так и спишь до сих пор. И даже здесь, у меня на галёрке слыхать твой заливистый храп. Как говорит в таких случаях наш славный гарант: кто так обзывается — тот так называется.[16]
Но не тут-то было. Потому что здесь осталось ещё кое-что... На дне стакана (муть, вероятно). И прежде всего, хотелось бы сказать пару слов — об источниках. Да, ведь мы все здесь профессионалы, добрые профессионалы своего дела (не исключая А.Любимого с клавесином в обеих руках). А потому и разговор у нас идёт исключительно професси..анальный, что называется, с козырями в руках. И вот я спрашиваю: как же эти, с позволения сказать, авторы относятся к своей работе? Ведь они (в отличие от меня) не «книгу всяких выдумок» делали, а настоящую «критическую биографию», чёрт побери. Как она сама сказала: «Если хотите узнать об Эрике Сати, то нужна книга Мэри Дэвис, хотите фантазий — то подойдёт Ханон». Даже если обе эти тётеньки, Маша и Лиза, при всей своей «искренне декларируемой любви» к Эрику Сати, а также последующими утверждениями, что он — «член нашей большой музыкальной семьи, родной и близкий человек» (о котором они обе, как выяснилось, не знают даже самых элементарных вещей) пожизненно находятся без сознания и пишут «чорт знает что» в книге про «неизвестно кого» (под видом Равеля и Сати), — они же всё-таки взялись за эту работу. Правда ведь? И подписали-там какие-то бумажки. Обязались что-то сделать в какой-то срок (ну, я так предполагаю). В конце концов, они же не признаны недееспособными или невменяемыми (в порядке, установленном законодательством РФ или США) и могут отвечать за свои поступки. И вот, они подписали контракт (в отличие от меня, который «проснулся» и сделал всю работу сам, за свой счёт и даже без своего издателя) и нáчали работать над текстом. Например, тётя-Маша, которая (в отличие от меня, голодранца) «является деканом Высшей школы Технологического института моды Нью-Йоркского университета». Или тётя-Лиза, которой эту книгу заказал главный редактор издательства (пускай и «ад маргинем») Михаил Котомин, и спонсорские денежки выделили из соответствующего фонда, молодцы ребята, нижайший поклон им за это... Так вот я спрашиваю: не небрежение ли это? Или простое наплевательство, может быть? Начиная работать над такой штуковиной, может быть, следовало хотя бы немножко заняться своим ликбезом? Чтобы не первый раз хотя бы слышать имя «Сати» и во время работы над текстом держать в уме, что Дебюсси был немножко старше, а Равель — сильно младше Эрика, потому что именно это обстоятельство не только сыграло решающую роль в биографии Сати, но и составляет главную интригу импрессионизма в музыке... Ну ладно, вы не читаете книги всяких там композиторов. Но в конце концов, даже в открытом доступе было всё, чтобы избежать этой ошибки (хотя бы в русском переводе), ошибки сколь грубой, столь и анекдотической(классика ляпсусов). И не позориться своей безграмотностью (да ещё и с апломбом!) — И очень легко можно было узнать, что Равель вообще никогда не был академиком и ещё до 1905 года продолжать сражаться с тупоголовыми профессорами в консерватории (я сам об этом ещё в 2009 году опубликовал статью в википедии, стыд какой). Или потрудиться закинуть в поисковик несколько слов, чтобы он выдал ссылку на статью Эрика Сати «Три кандидатуры одного меня» (которую я сам опубликовал ещё в 2012 году в викитеке, кошмар какой). Причём, я не перечислил и половины сделанного. И ведь это всё находится не где-то за тремя дремучими лесами и глубокими реками, а на первых строках выдачи и представляет собой «общеизвестные сведения», мадам, — только руку протяни, и тут же получишь!.. Причём, за бесплатно. И со всеми «источниками», включая даже те, на которые вы с Машей ссылаетесь, в своей книжечке, на коленке сделанной. И тогда очень легко было бы установить, что картина идеально обратная: «среди тех, кто НЕ голосовал против его кандидатуры, НЕ был и Морис Равель, НЕ написавший, что Сати — «абсолютный лунатик», который «ничего в своей жизни не сделал». Потому что (я уже сказал) в одной этой фразе прекрасно всё, от первого до последнего слова. — Ибо..., ибо (как говорил Остап) это был вообще не Равель (несчастный оболганный малыш), и этот человек не голосовал против Сати (потому что не имел такого права), и он эти слова не «написал» (потому что сказал языком, а не руками) и, в конце концов, все закулисы этой истории заслуживают отдельного романа, который давно написан (ссылку давать не буду, ищите сами, мадам и миссис). И если бы хотя бы у одной из вас в башке что-нибудь ёкнуло (узнав, что 17-летний ученик консерватории Равель, оказывается, был академиком и обругал Эрика Сати) и хотя бы одна из вас потрудилась нажать кнопку (или проверить ссылку, — это в случае тёти-Маши из амэрэканского гардероба), вы бы легко узнали, что... Далее цитата: После провала кандидатуры своего конкурента Сати, Эмиль Пессар (видимо, с ощущением плохо скрываемого торжества и детской вредности) поспешил сообщить одному из академиков, с которым имел приятельские отношения, что его конкурент представляет собой «просто сумасшедшего, который никогда ничего не сделал». Без всяких сомнений, он был бы крайне удивлён, если бы ему сообщили, что этот «просто сумасшедший» уже оказал и ещё долгие годы будет оказывать личное и творческое влияние на двух его учеников по Консерватории: Мориса Равеля и Федерико Момпу. Кстати говоря, второй из упомянутых с большой скоростью покинет стены этого учебного заведения, чрезвычайно утомившись от «непереносимых» курсов мсье Пессара.[17] Для тех, кто не заметил: в конце цитаты дана ссылка на источник (как во всех моих «фантазиях спросонья») и поставлены два автора: Орнелла и я.[комм. 14] И это ещё одна (отдельная) песня, которая, пожалуй, стóит всех предыдущих. Потому что она слишком сильно напоминает расхожий жанр «здрасьте, я ваша тётя» (или кое-что о клановой природе профессионалов). Итак, развесьте пошире уши и глаза, потому что сейчас я сообщу вам нечто, может быть, главное во всей этой мелкой истории с тремя скелетами из старого шкафа моей бабушки. Комедийная цитата «про Пессара в роли Равеля» имела своим основным источником — главную работу Орнеллы Вольты (во всяком случае, по Эрику Сати). Это изданная в 2000 году громадная книга «Correspondance presque complete» (в 1242 страницы), за которую она получила премию Севинье и, наконец, остановилась. На мой взгляд, после 2000 года без этой книги вообще нельзя браться за какие-то работы о Сати. И не потому что она безупречна. Как раз напротив. Как и всё, что делала мадам Орнелла (патентованный специалист по вампирам и вурдалакам),[18] и эта книга изобилует ляпами, нелепостями и ошибками (часть из которых я знаю, а часть мне пока неизвестна). Однако всё это касается её текстов, но не писем Сати. Вот как раз в этой части её книга незаменима (равно как «Воспоминания задним числом» по-русски) И здесь мы подходим к последней точке той цитаты из Нью-Йоркской гардеробщицы тёти-Маши, с которой всё началось. Аккуратно копируя источник, я после слов «оба раза безуспешно» я оставил ту же ссылку, что в русском издании. Вот она, если забыли. Рассказывая нам про «академика-Равеля, в двадцатилетнем возрасте огорчившего и обругавшего своего любимого учителя» (нет, не Пессара, конечно!..), Мэри Дэвис подтвердила свою чушь ссылкой на Орнеллу Вольту (в английском издании 1989 года),[19] таким образом, как бы перекинув ответственность за «того парня». Ту же самую ссылку без особых раздумий (п)оставила и русская переводчица тётя-Лиза.[20] Таким образом, всё чисто! — значит, тётя-Маша и тётя-Лиза не виноваты. Это всё она, «гадкая Орнелла» напутала!..[комм. 15]
— Нет, конечно, всё не так. Для начала, я уже показал всю анекдотичность (чтобы лишний раз не вспоминать о дебильности) этого «коллективного» ляпсуса: это надо совсем не иметь ни мозгов, ни знаний по теме (на которую пишешь книгу, между прочим), чтобы трижды друг за другом повторить одну и ту же несусветную чушь, — падая друг за другом в одну и ту же канаву (в точности как слепые на картине Брейгеля). Не представлять себе ни возраста, ни взглядов, ни положения Равеля (пожизненно оппозиционного к Академии и академистам) — значит вообще ничего не смыслить в культурной карте Франции начала XX века. — И всё равно браться за книжку (потому что «грант» уже стынет). Но бог с ней, с этой гардеробщицей (или модисткой, забыл) из Нью-Йорка, её глупость — не моя проблема. Куда серьёзнее другое: крае’угольная клановая привычка постоянно опираться на чужие костыли, — важнейшая (для них) привычка, проявляющаяся в форме солидарного & некритического сознания. И ещё — в форме лени, конечно. И тогда..., уже не нужна ни голова, ни даже шляпа. Главное — остаться единым с «коллегами» по цеху. Словно в школьном опыте по химии, здесь прозрачно видно, каким образом одна паршивая овечка способна заразить всё стадо. Мадам Орнелла, несомненная рекордистка в области рассеянности и «амнезии» (словно герой мемуаров Эрика), в конце 1980-х годов она ещё не была записным «специалистом по Сати». Я повторяю: не только «не считалась», но и на сáмом деле «не была», постоянно путая любимых вампиров с академиками Изящных Искусств. А потому легко допустила очередной гэг — просто так, по небрежности, поменяв одну фамилию на другую, однако имея (про себя) в виду напряжённые отношения Сати и Равеля — тридцать лет спустя (sic!) Пожалуй, мне ещё могут сказать: ну и что? Подумаешь, одна ошибка (и чего прицепился, вон, целую дис-сертацию накатал про одну маленькую «неточность»). Легко отвечу. Нет, далеко не одна. И даже не «восемь с половиной». Хоть я эту книгу и не читал (в том числе, и пастернаку), но скажу: ошибок там немерено, хотя далеко не все — такие великолепные. И я специально выудил всю беспомощность «творческой бригады» книги на примере одного этого коллективного ляпа, чтобы показать: ни тётя-Маша, ни тётя-Лиза ни черта не смыслят ни в самóм «авангардисте до авангарда», ни в том времени, через два шага на третий допуская ошибки сколь нелепые, столь и оскорбительные (для нас с Эриком). Обе эти женщины (чтобы не вспоминать о «пониженной социальной ответственности») просто проходили мимо и зашли сюда случайно. Ну..., так получилось. Почему не зайти, если позвали?.. Свидетельством тому — искажённая и местами перевранная биография (внутренняя и внешняя). И в общем, и в частностях. К примеру, в том же абзаце, который я (выше) привёл полностью, затесались ещё две наглядные осечки (хотя и не столь грубые), ставшие результатом непонимания самой сути характера и творчества Эрика.
Но если уж вам так угодно, — извольте: приведу ещё один безобразный пассаж, представляющий собой не только фактическую «неточность», но и прямую ложь (клевету) значительно менее заметную постороннему глазу. Заранее скажу, что с этой клеветой сам Эрик Сати непримиримо боролся в течение последних пятнадцати лет жизни (как с ветряной мельницей). — И вот, сто лет спустя, я снова вижу её..., и где? — в книге о нём. Небрежение или подлость?..
Дебюсси был не намного старше Сати, но являлся гораздо более известным композитором; он не только помог Сати войти в официальные музыкальные круги, как, например, Национальное музыкальное общество, но и познакомил его с издателями и другими представителями музыкального мира Парижа.[8] Читал бы эти слова сам Эрик! — какая шикарная порка! Курьёзно, что здесь не поставлено ссылки на источник, и Мэри Дэвис гордо несёт свою чушь от первого лица. А потому, отложив далеко в сторону свои отношения с мадам Орнеллой, я могу говорить точно так же, от первого (своего и «ещё одного парня»).
И прежде всего, сказанное в книге тёти-Маши не соответствует фактам, это классическая подтасовка (или результат элементарной неосведомлённости в предмете). Загибаем пальцы. Единственное за сорок лет исполнение двух маленьких гимнопедий в оркестровке Дебюсси состоялось 20 февраля 1897 года.[21] Инициативу и решение в этом деле принял исключительно Эрнест Шоссон (тогда — председатель и денежный мешок Национального музыкального общества). Клод Дебюсси в 1897 году был маргиналом и не имел в НМО ни веса, ни известности. Единственной его ролью стало то, что он играл Шоссону эти пьесы у него дома, а затем сообщил, что оркестровал их (впрочем, и это тоже не так мало). В дальнейшем никаких исполнений музыки Сати не повторилось, а спустя два с небольшим года Шоссон нелепо погиб. После памятного исполнения в начале 1897 года почти на полтора десятка лет воцарилась гробовая тишина (в том числе, и в национальном музыкальном обществе). Эрик Сати был вынужден сочинять «ужасную мерзость» для кафе-шантанов, аккомпанировать шансонье, отчаянно нуждаться в деньгах, давать уроки музыки детям, работать в муниципалитете Аркёй-Кашана, просить субсидий на обучение в «Схола канторум» (достаточно)... В это время (1900-е годы) Дебюсси в самом деле стал сначала «гораздо более известным композитором», а затем и богатым человеком (благодаря женитьбе на Эмме Бардак). За всё это время (до 1911 года) Сати ни разу не исполняли, не печатали и почти забыли (в Париже). Я спрашиваю: где хотя бы одно свидетельство того, что Дебюсси «помог Сати войти в официальные музыкальные круги, <...> и познакомил его с издателями и другими представителями музыкального мира Парижа»? Более того, неоднократно (письменно и устно) сам Сати говорил о том, что Дебюсси пальцем о палец не ударил ради того, чтобы «поделиться с ним хотя бы малой частью своей славы» (всё это легко найти в книге фантазий одного композитора). Наконец, за подобную ложь Сати (при жизни) решительно рвал со своими прежними друзьями и поклонниками. Зачастую его «кололи» подобными пассажами намеренно, зная, что он на них реагирует крайне болезненно (среди таких случаев, к примеру, небезызвестный поганец Ролан-Манюэль). Таким образом, круг замыкается, образуя приятный параллелепипед. Без ложной скромности, книга Мэри Дэвис представляет в своей книге об Эрике Сати ложное утверждение, до крайности недружелюбное с точки зрения главного героя этой книги.
Однако эта «компетентная» фразочка наносит и ещё одно очевидное оскорбление. И кому бы вы думали? — совершенно верно! Опять Морису Равелю («академику», который голосовал против кандидатуры Сати). Потому что это именно он в 1911 году, устроив серию концертов Сати в Париже, «помог Сати войти в официальные музыкальные круги, <...> и познакомил его с издателями и другими представителями музыкального мира Парижа». Только после этого музыку Эрика в самом деле начали потихоньку издавать (за гроши), исполнять (бесплатно) и даже признавать (в узких кругах). При том нужно оговориться, что равель действовал не из «чистой любви», но преследуя, в том числе, свои интересы (чуть позже в тех же целях прозвучала и музыка Эрнеста Фанелли). Что же касается Дебюсси, то он был застигнул этими концертами врасплох, проявлял крайнее недовольство, устроил Сати несколько скандалов и начал дразнить кличкой «предтеча» (precurseur), которая крайне раздражала Сати и привела, в конце концов, к полному разрыву. Ссылки на страницы и литературу не ставлю, потому что всё перечисленное — общедоступные сведения об Эрике Сати, которые изложены в одной очень толстой книге на русском языке и в нескольких (ещё более толстых) на языке французском. Мне кажется, начиная писать книжку про столь неординарного человека, нардеробщице из Нью-Йорка (так же как переводчице из Мосвы) следовало бы хотя немного войти в курс тех главных фактов, которые сначала сделал его жизнь (и музыку), а затем сформировали посмертную биографию. Но это, прошу прощения, уже мои фантазии...
Пожалуй, достаточно. Пора кончать. Дней десять назад я отправил письмо в издательство «Маргинальный ад». Между прочим, абсолютно корректное и даже уважительное. Впрочем, ничто не мешает мне привести его здесь полностью. Прошу открыть глаза и прочитать (если есть такое желание). Для начала примите мои приветствия (глубоко ad marginem, да ещё и в скобках). Несколько месяцев назад я наткнулся на фрагмент из третьей главы книги Мэри Дэвис «Эрик Сати». На двух страницах обнаружил две грубейшие ошибки (фактические, касающиеся биографии Сати), одна из них почти анекдотическая, вдобавок, обе по существу оскорбительные как для Сати (видел бы он эту чушь!), так и для тех лиц из его «окружения», которые там упоминаются или обсуждаются. Это касается того текста, который был написан автором, Мэри Дэвис. Должен ли я подтвердить напоследок, что никакого ответа от изд(ев)ательства не последовало (ну разумеется). Тихо в лесу, только не спит паук... — Точно таким же древнейшим способом, как в 2008 году они отказались от издания «Воспоминаний задним числом» и (спустя девять лет) предпочли публиковать отборную английскую жеванину «second hand» (только потому, что удалось «под неё» выдоить малую мзду), теперь они утопили в канаве ещё одну возможную Вещь (на месте кустарной поделки). Невольно вспоминается ещё одна мáксима из той же Мусорной книги (только закрытой): «подавляющее большинство людей использует свой шанс ровно на то, чтобы его потерять». — С чем я их ныне и поздравляю, оставляя там, где они есть: в каком-то боковом аду — на обочине собственной шляпы.
После всего могу только посочувствовать мадам Мирошниковой: в какой просак она попала, сама того не желая. А ведь добрейшая женщина, наверняка!.. С одной стороны, её подставила амэрэканская Мэри Поппинс со своими глупостями, а с другой — даже страшно сказать: какóе (terrible) по ней проехалось. И поневоле взгрустнёшь (хотя бы из чистой эмпатии). Да... — Ах, «Бедная Лиза!»[24] — напрасно она позволила себе повысить голос на этого «очень хорошего человека и достойного композитора»!.. — какая ужасная ошибка (ведь он не оказался ни тем, ни другим, совершенное чудовище, чистейший «Эрик Сати сегодня», — как с дурно скрываемой неприязнью говорила мадам Орнелла). Уж лучше бы обругала, в самом-то деле, какого-нибудь Лёнечку Десятникова (вот он — в самом деле «человек хороший» и отвечать бы не стал..., и тем более, ему лучше меня известно, что такое «Бедная Лиза» — он с этого начинал, а я кончаю). И совсем уж напоследок, после моих сердечных извинений и соболезнований, я посоветовал бы мадам Лизе всё-таки уточнить кое-что из биографии своего «родного и близкого человека, которого она искренне любит», а ради того, может быть, приобрести (пока не поздно) сборник моих «фантазий спросонок» (задним числом), благо, он недавно был переиздан (как всегда, ad marginem, большое спасибо, за счёт автора и безо всяких там спонсоров) и пока ещё болтается между небом и землёй.[5] Может быть, на этот раз ей повезёт больше... и она сможет немного приокрыть один глаз, я уж даже не говорю о том, чтобы проснуться (хотя бы на часок). И тогда, невероятно предположить, она в самом деле сможет сказать: «Я очень рада что наконец на русском языке появилась достойная книга об этом композиторе». — А вот дяде-Лёше нашему Любимому, боюсь, я уже посоветовать не смогу ничего. Потому что поздно, брат. Раз и навсегда он, маленький суетливый человечек мира сего, виновен передо мной и Эриком (перед обоими, значит). Именно так. И пускай дальше (до своих последних дней) пребывает там, куда поместил себя сам, в той же приятной заднице..., пардон, — я хотел сказать, — пускай и наперёд катается в масле со своей любимой водкой... вином, — ах чёрт, опять оговорился, со своей виной, конечно. С чем же ещё. — как это у них широко принято...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ком’ментарии
Ис’cточники
Лит’ература ( по...сторонняя )
См. так’же
— Все желающие сделать замечания или дополнения, —
« s t y l e t & d e s i g n e d b y A n n a t’ H a r o n »
| ||||||||||||||||