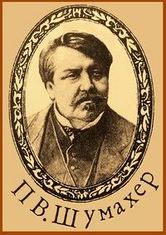Избранное из бранного (Анастасия Икар)
( реплика от’читателя ) [комм. 2]
Н
Но с красной строки. Итак, скажем ещё раз: мне повезло... Да...[3] Мне повезло стать читателем этой книги в огневом переплёте. — Почему «повезло»? Очень просто. Во-первых, небольшой тираж автоматически превращает эту вещь в — библиографическую редкость, пускай даже и не в такой степени, как это первоначально предполагалось автором («...два-три роскошно отпечатанных экземпляра»). Во-вторых, читать и даже просто держать эту книгу в руках — несравненное удовольствие, поскольку в ней красиво всё,[4] от титульного листа до последней виньетки..., и не только красиво, но — продумано и осмыслено (что значительно более редко и ценно). Третье же обстоятельство моего везения напрямую обозначило себя на обложке: «Избранное Из/бранного». Ироничная & ироническая игра, прежде всего фокусирующая зрачок читателя на чём-то ругательном и «бранном» (чего-чего, а уж «бранного» в эпатажном сценическом арсенале Михаила Савоярова было — в достатке), на самом деле, слегка маскирует — главную коллизию книги: Перво-наперво, уникален центральный герой книги и главный провокатор её появления на свет — Михаил Савояров, невероятная популярность в судьбе которого парадоксально сочетается с полным — забвением. Уникален и автор книги, внук героя, в новой, собственной вариации разыгравший ту же пьесу,[5] проделавший тот же путь от шумного успеха и широкой публичности к затворнической маргинальности.
Вослед за этими двумя — и читатель этой книги тоже начинает ощущать свою если не уникальность, то штучность..., хотя, по правде говоря, ощущение это — не из самых комфортных... Потому что книга почти тотчас после её открытия становится в руках строго вертикально, предъявляя личный спрос и счёт к любому, кто рискнёт войти с ней в отношения. И ни одному читателю — уж можете поверить мне нá слово — не отвертеться от своей части ответственности за всю вину рода человеческого...[комм. 3]
— За уникальные таланты, заживо похороненные среди небрежения, равнодушия и молчания. И дед, и внук — несомненные мастера разговорного жанра, и эта книга — ещё один разговор, обращённый своим остриём в читателя. Вернее сказать, не разговор, конечно, а — монолог. Безнадёжный монолог автора, всякий раз завершающийся многоточием молчания в том месте, где предполагается — ответ. Наш ответ. Потому что автор ни на какой ответ уже давно не рассчитывает. — Такой вот странный монолог, произносимый словно бы в спину, потому что надежды увидеть лица — уже не осталось.
Эй, эгей..., поздравляю тебя с очередной благой вестью, моя неласковая страна. И вдогонку ещё — с прибавкой в семействе (где, как у старшего брата нашего, Сашки Пушкина, четыре сына и все сплошь — идиоты). Ах, спасибо-спасибо, дорогóй Даниил Иванович, премного благодарен за брошенное слово. Словно камень в колодец. Или голова после гильотины, моя неласковая страна. И та, и эта...
Равным образом избежала эта книга и всех ожиданных трафаретов, прежде всего, жанровых и смысловых. Не разобравшись и не распробовав, можно сходу сделать ошибочный вывод, будто эта книга — очередная из серии «интеллектуального, эстетского чтения»: знакомство с забытым поэтом Серебряного века ради расширения своих, что называется, культурных горизонтов. И формат на первый взгляд тоже традиционный, состоящий из двух частей, обязательных для такого случая: вступительная статья (биография и характеристика поэта), а следом за ней — его поэтические книжки, сакраментальное «из/бранное», с какой-то изуверской непринуждённостью получившее от одного из авторов ещё один эпатажный лейбл — «лучшее из худшего». — На самом деле, конечно, всё не так. И прежде всего, первая же попытка прочитать эту книгу вызывает читателя вовсе не на интеллектуальные выкладки. И не на желание пополнить свой культурный багаж. И даже не на деликатное обгладывание деликатесных литературных косточек. А — на путешествие внутрь собственной души и биографии, скажем, нечто вроде сеанса психоанализа — впрочем, в отсутствие психолога.
Лиха беда — начало... Вот именно. Как раз начало книги производит впечатление тяжёлое и болезненное, поскольку первые её страницы — это обстоятельно изложенный, развёрнутый и подробный упрёк. Прямой и невежливый. Горький и заслуженный. Этот упрёк..., с одной стороны, он не адресован лично никому и одновременно адресован лично... каждому. Потому что мы, читатели, люди, человечество, постоянно присутствуем тут же, посреди текста и под ним. Потому что основная тональность авторского монолога построена на прямом (чтобы не сказать «лобовом») противопоставлении: «я-мы» (Ханон, но тоже и Савояров) и «вы», читатели (у Савоярова — зрители). Хотя нет, даже не «вы» — одна мысль о прямом диалоге с подобным ничтожеством претит автору..., а некие — «они», в третьем лице (и жаль, что в «едином и могучем» не нашлось ещё четвёртого лица, пятого или десятого). «Они», — чужие, посторонние, «не-дорогие», ничего не понимающие, «не заслужившие ровным счётом ни-че-го»; «они», которые топчут, плюют, забывают, размазывают и превращают в пыль.
— Но кто же определил нас и заставил войти в это неприятное множество, которое незримо толпится под словом «они»? Никто. Мы сами. — Но что же мы такого сделали? Вот в том-то и дело, что как раз ничего, ровным счётом ничего не сделали... Просто мы жили, как принято. Обыкновенно. Изо дня в день. Ели, пили, ходили на службу, слонялись туда-сюда. И — не смотрели в ту сторону. Не читали тех строк. Не слышали тех нот. Короче говоря, занимались своими делами, как принято. Не поворачивая лица к тем, кто хотел что-то сказать. Пока ещё хотел. А потом замолчал, — как Савояров. А затем и ещё того хуже, сжёг книги и партитуры, как Ханон.[комм. 4] Казалось бы, на первый взгляд, курьёзная и слегка старомодная коллизия из типового школьного сочинения советских времён: «поэт» и «толпа». И кто бы мог подумать («двадцать лет спустя»), что всё в точности так и обстоит, как пишут наивные школьники в своих тетрадках. В клеточку. Или в линейку... Про эпоху, скажем, романтиков.
— Короля играет окружение..., так говорят. Да-да, именно так: короля играет окружение, а король (вот хитрец!) ему только подыгрывает... — На самом деле, можно напрасно не иронизировать. Всё тáк..., всё в точности так, как пишут в школьном сочинении: есть поэт. «Он». И есть толпа. «Мы». И главное, иной раз диву даёшься, до чего же просто работает этот старинный скрипучий механизм, буквально по инерции, и каждому под силу запустить его (даже ребёнку!). Небрежно подтолкнув рукой. Или даже ногой... Как оказывается, это несложное действие равно доступно в любую эпоху, в савояровскую ли, в ханонскую (не считая сеньора Данте с прочими Шубертами и Кафками)... Каждое маленькое личное безразличие..., невнимание к уникальности человеческого дара, который пытается жить или (вы)жить рядом с нами, тонким ручейком вливается во множество точно таких же маленьких безразличий и, подобно капле известной жидкости, совершает удивительное разрушительное дело: и Савояров, и Ханон (имена в данном случае совершенно условные) становятся — сквозящими дырами времени, потерянными и забытыми ещё при жизни.
Вот это разделение на «я» и «они», которому поневоле причащается всякий открывший книгу «для из/бранных», и производит столь тягостное впечатление, едва погружаешь глаза в первые строчки вводного текста, доверчиво забредя под заманчивый взмах руки Михаила Савоярова, щёголем глядящего со старой афиши.[13] В руках у щёголя — цилиндр и перчатки, в кармане — вялая хризантема, а на лице его — какое-то специфическое... двусмысленное выражение, которое нам уже, кажется... не понять. Мёртвый клоун... Автор ведь честно предупреждал — этот маленький пирожок крутовато посолен — и первые десять-двенадцать страниц его оркестрового вступления глотаются с явным трудом.
Но не только потому, что мы, читатели, поневоле оказались поставленными в позу отрицательных героев этой истории. Тяжелее всего в этом чтении не то, что читатель, мало-мальски способный к эмпатии, неизбежно воспринимает на свой маленький личный счёт — всё, что автор адресует условно-всеохватывающим «им», презренному племени без рода и сознания. И даже не то, что кое-кому, читая увертюру книги, становится стыдно — за себя.
Пожалуй, тяжелее всего было другое: единожды попытавшись представить себе, чтó пережил автор, чтобы тáк себя ощущать и тáк писать о своих ощущениях. Потому что этот текст — автопортрет и автобиография, насквозь трагические от ощущения пронизывающего одиночества, «прозрачности» и ненужности автора этому миру — в любую из его эпох. Почти всё, что Ханон говорит о Савоярове, он говорит и о себе, и о ком угодно из числа «себе равных» (высоких инвалидов, по его терминологии).
он — (почти) бесконечен. Здесь, между слов и кроется главная силовая линия этой двойной жизни «сто лет спустя». Ровно потому Ханону и удалось так сильно и точно написать про Савоярова, что он говорил про себя. От головокружительной густоты текста, от постоянного сочетания несочетаемого, от съединения неожиданно-остроумных формулировок и глубокого трагизма заключённых в них мыслей и делается читателю не по себе; настолько крепко не по себе, что, кажется, и — сам бы нырнул в первое попавшееся углубление, спрятался в какую-нибудь дырку, чтобы только не слышать, не думать, не представлять, каковó живётся художнику...
— Само собой, я не питаю никаких (или почти никаких) иллюзий..., на этот счёт. Равно как и сам не питаюсь никакими иллюзиями..., в том же направлении. Мне отлично известно, что ещё одна книга (к тому же, запоздавшая на добрую сотню лет) напоминает пятую ногу от знаменитого серванта Сервантеса, — тем более, находясь здесь и сейчас, посреди велiкой страны, где ныне в моде читать & по’читать только надписи на пачках ассигнаций, да и то ворованных, желательно. Причём, без зáпаха...
Правда, через несколько страниц читателю становится немного полегче, потому что автор, покончив со счётами, переходит собственно к сюжету книги и жизни Михаила Савоярова, чуть меняет гнев на милость и — всё-таки снисходит до разговора с тупым и безразличным миром... и с нами, читателями: раз уж пришли, так и быть, слушайте, пустоглазые.[комм. 5]
Продолжая начальную тональность, и в этой части Ханон, ничуть не скрывая своих намерений, тоже пишет не только о своём деде, но и о самом себе — «всегда один, всегда отдельный...», «артист-анархист», «аристократ под маской дворника», «сначала много болел, а потом превратился...», «аристократизм чести», «внутренний король неизвестной земли», не желающий — никогда — жить по чужим законам, Высокий Инвалид, полвека создающий (книги, партитуры) и сам же их уничтожающий... (как говорится, «у нас самообслуживание»: я тебя породил, я тебя и...) — Не особо рассчитывая на потомков, Ханон одним махом кисти баталиста набрасывает обе творческие биографии: и свою, и деда Савоярова. Благо, жребия — кому пропадать, а кому оставаться в памяти — бросать не пришлось, потому что остаться или пропáсть они могли — только оба и вместе.
Поистине, это сиамская книга, она не имеет прецедента — по уровню своего проникновения и прорастания одного в другого.[комм. 6] Во всяком случае, другого такого примера я не припомню... Двуединство двух авторов, двух королей и двух смертников (мёртвых клоунов) пронизывает весь текст и подтекст. Отделить одно от другого (или одного от другого), как кажется — напрасный труд. Во всяком случае, без хирургического вмешательства здесь ничего не добьёшься. — Не раз, словно бы морщась от зубной боли, я спрашивал у него: Кажется, они и в самом деле оказались единственно возможными собеседниками друг для друга (стойкое ощущение, что ни Савоярову, ни Ханону других собеседников за целый век так и не отыскалось, прибавляет изрядную порцию горечи к их фамильному рецепту). Невесёлую савояровскую судьбу — судьбу человека, по «дедушкиному рецепту» всю жизнь хранившего «за зубами, в сундуке, под замком» всё, что имело для него самого смысл и ценность; человека, стёртого из истории культуры так надёжно и аккуратно, «словно вся его жизнь и была задумана только ради будущего пустого места»...[7] — Ханон подаёт настолько изнутри, как будто бы «собственноручно» пережил её в шкуре (смокинге) деда.
Собственно, так оно и было. Наверняка. И в этом нет ни малейшего сомнения, — в самом деле, он её пережил: если не саму последовательность событий, так вызванные ими чувства, ощущения и мысли, — поскольку наблюдал натуру и свойства деда, по собственному признанию, «особенно наглядным» способом, изнутри... И отношение Савоярова к зрителям, как его описывает Ханон, — такое же, как и отношение Ханона к нам, читателям, которым он точно так же знает цену...[комм. 7] Но отсюда вовсе не следует вывод, будто это какой-то по(ту)сторонний текст, лишённый конкретного применения. В книге есть всё, что необходимо для произведений подобного жанра: и эпоха, и история, и литературная традиция, и предшественники, и наследники... Однако обставлено и сделано всё так, словно бы этот текст — просто непринуждённая causerie, и летучее остроумие автора не даёт читателю состроить слишком глубокомысленное лицо, когда автор посвящает его в тонкие детали и мельчайшие подробности савояровской эпохи и жизни. Литературная игра с Серебрянным веком, будь то Александр Блок или Василий Розанов, присутствует в иронично-цитатной прозе внука столь же обильно, сколь и в поэзии его деда.
Но главное..., главное, что находит себя посреди строк и в узком пространстве между ними, — отнюдь не собрание или собирательство редких исторических фактов, примет времени или литературных отсылок. Автор — не коллекционер и не хранитель, не архивная крыса и не библиотечный суслик. Какими-то неправдами на ограниченном пространстве предисловия ему удаётся сделать нечто... несравнимо и несравненно большее: ему удаётся совершить настоящее волшебство, материализовавшееся в одной из иллюстраций книги — собрать затёртое временем и расколовшиеся на множество осколков лицо, судьбу, творчество. Именно этим словом — «волшебство» — охарактеризовал посмертное возвращение деда и сам автор, охарактеризовал всё с той же ядовитой иронией, которой пропитан весь текст. Да только... — какая уж тут ирония, когда и в самом деле — сработало волшебство, и из разлетевшихся осколков старой стеклянной фотопластинки, спустя почти сто лет... — внезапно — возникло лицо.
Возникло..., чтобы тут же — расхохотаться..., потому что только так, сквозь призму невесёлого, почти чёрного смеха умел Савояров смотреть и на окружающий мир, и на себя самого, и — на всё остальное, на что глаза бы его не глядели.
Стихи М.С. (равно как и проза Ю.Х.), — лёгкие, смешные и неожиданные, они производят впечатление безвоздушных, то и дело испытываешь резкий подъём или падение в лифте..., — однако начинка этого пирожка, кажется, нелегка и невесела до предела... Особенно в тех невесела, которые возникли в многочисленные каннибальские времена, которыми столь богато одарила его жизнь — первая революция, первая война, вторая революция, вторая война, пресловутые тридцатые годы... Затем — и того паче: тридцать седьмой...
Но и без войн с революциями савояровский взгляд на мир не многим веселей. Особенно это бросается в глаза, конечно же, на фоне того, чéм (или кéм) он был. — Шансонье. Артист варьете. Кафешантанный балагур. Юморист-куплетист. Наконец, король... Король эксцентрики. Короче говоря, тот, кто сделал своей профессией — развлекать. Веселить. Смешить... дó смерти...
Иногда внутренние (и даже внешние) миры деда и внука рифмуются до удивительных и забавных деталей. Вот одна из них, которая сразу бросилась мне в глаза: на страницах своих черновиков дед собирает гербарий из иронически засушенных цветов (именно таков стихотворный сборник «Не в растения») за полвека до того, как его внук на самом деле превратит своё жизненное пространство — в оранжерею, удивительный замкнутый сад, подчиняющийся единственному закону — иронической фантазии садовода, создающей лысые кактусы без шипов и цветы невозможных оттенков. Абсолютно во всём — в ботанике ли, в литературе или музыке они оба — и дед, и внук — творят свой собственный мир, живущий — причём, буквально живущий! — по их законам. Будучи высшего сорта художниками, они оба чувствуют себя комфортно только в роли демиурга, творца средних миров. А будучи к тому же ещё и наследными принцами, они законодательствуют и в своих внутренних королевствах, ибо — кто же ещё, если не они?.. Если бы их ботанические увлечения, сложенные и промазанные в виде бутерброда, и вправду подарили нам отдельное иллюстрированное издание «не-в-растении...(й)», — то за такой синтетический подарок не грех бы и ещё разок повертеться на сковородке, ощущая себя «толпой» и безмозглыми «кретинами»...
Родословная деда важна для Ханона необычайно. Впрочем, сразу оговорюсь, я имею в виду вовсе не ту родословную, которой любят размахивать декоративные казаки-разбойники или лубочно-столбовые дворяне новейшего времени. Для Ханона генеалогия — далеко не такая линейно-кровная вещь, как могло бы показаться на первый взгляд. Туда же, например, в ту же умо-зрительную родословную Михаила Савоярова по самую шею вросла и массивная фигура Петра Шумахера, легендарного «певца царя Авгия», «деда-петы», напрочь заслонившая фигуру «природного» отца-купца Соловьёва. Пожалуй, теперь остаётся только мечтать о том, чтобы невероятная история шумахеровского конверта с тайным литературным наследством переросла «спустя десяток шагов» — в новую книжку, «русского Шумахера»,[комм. 9] ведь этот конверт — тоже семейный королевский архив, фамиль(яр)ная реликвия...
И даром... что уже больше ста лет минуло, как зашёлся оный конверт дымом и развеялся пеплом, ведь на то и существует настоящее творчество, создающее миры. Не только — «и не таких забывали», но и — «не таких воскрешали», выуживая из реки забвения, из болота запустения... Казалось бы, какая ерунда и малость, И пожалуй, последнее слово из этой серии: о генеалогиях, аналогиях и прочих трилогиях...
Если у месье Ханона вскладчину с таким же месье Савояровым имеется одно на двоих раскидистое (чтобы не сказать «развесистое») семейное древо, то и книга эта — тем более не сирота. И у неё есть свои родственники, предшественники, даже предки, с позволения сказать, — и она тоже вписывается, встраивается, врастает в семью предыдущих книг Ханона (число им тьма, не возьмусь сказать: сколько их там), посвящённых — Скрябину, Ницше, Сати, Алле и даже Кафке, если не ошибаюсь... — Названия этих книг, и невидимые цитаты из них обильно растворены и исчезли там же, в сто’страничном предисловии — словно в едкой кислоте. И все эти «персонажи» — на деле совсем не персонажи, они присутствуют в тексте словно свидетели, этакие волхвы..., или шестикрылые серафимы над покачивающейся колыбелью будущего короля эксцентрики. И называю я их тут совсем не всуе... и не ради послужного списка, но потому только, что все они — тоже несомненная часть «семейной истории». Александр Скрябин, Эрик Сати или Альфонс Алле — несомненные предтечи и родственники, пусть и духовные, а не кровные, но «зато» куда более близкие, чем пресловутая «соловьёвская родня».
Именно что!.. — предтечи...[комм. 10] Несмотря даже на тот факт, что все они, перечисленные здесь — почти ровесники, отличающиеся друг от друга не более чем на поколение... Страшно представить, но ведь все они родились в тесном промежутке времён, и разница возраста, скажем, между Сати и Савояровым составляет всего-то девять лет, а пресловутый товарищ Ленин, испортивший «королю эксцентрики» всё представление, — попади он каким-то случаем в эту тёплую компанию, оказался бы — далеко — не самым старшим.[23]
Конечно, я вполне отчётливо отдаю себе отчёт, что все мои слова сегодня имеют вид — ненаучной фантастики, почти сюрреальной. Сколько уже раз произносила я здесь: читатель, читать, вчитываться, понимать..., отлично зная, что нынче все эти слова превратились в собственные призраки. А некоторые стали даже — обычными оборотнями. «Писатель, издатель, читатель...», словно роли из старой ходульной комедии масок («у дна», вероятно, её название). — Когда «читатели» уже давным давно ничего не читают (слишком много буков!) а издатели — и вовсе превратились в свою полную противоположность, ничего не желая издавать, пока им за это не вручат & всучат объёмную пачку денег... как следует, тем самым поддержав и продолжив не только круговорот вещей в природе, но и всемирно-коррупционный принцип «воздаяния». Впрочем, оставим пустые речи... Само собой, такая сложная и прецедентная книга, находящаяся за пределами жанров и стереотипов..., всерьёз говорить о ней, что её «прочитают» или «поймут» — выглядит почти издёвкой..., но над кем? — Да над тем же самым воображаемым читателем, которого с самого начала втирает в грязь неумеренно строгий автор. И даже я сама уже готова уподобиться ему, посыпав голову пеплом и отправив себя (в составе дружной толпы современников поэта) вдоль по Владимирке.
...Взгляните на этих, с позволения сказать, «издателей», лишённых остатков человеческого достоинства и даже намёков на стыд; взгляните на одутловатые витрины, в которые они помещают доверенные им чистейшие создания, аккуратно украшая их своей фирменной грязью. Возьмите некоторые каталоги самых изысканных современных произведений, и вы сразу увидите, что заставляют их претерпевать этот коммерческий скот. И только там, на станции назначения, постепенно приходит более ясное понимание: для кого или для чего была написана эта слишком особая и слишком особенная книга, — книга для немногих. Причём, настолько немногих, что даже её крошечный тираж, — конечно, не тот, который изначально предполагался автором («...два-три роскошно отпечатанных экземпляра»), а ныне существующий, из которого мне каким-то волшебством досталась одна огненная книжка, — так вот, даже этот крошечный тираж едва ли не в десять раз превышает человеческие возможности нашего времени. — Книга, по выражению автора, которая придумана и сделана, чтобы «зашить зияющую дырку на пальто Серебряного века»... Сколько же, — хотелось бы спросить, — профессиональных портных найдётся здесь и сейчас, чтобы оценить эту работу, несомненно, haute couture. Пожалуй, повешу этот вопрос в воздухе, чтобы тотчас — забыть о нём...
И чем дольше тот сáмый читатель вчитывается в этот обращённый (не) к нему монолог, каждая строчка которого умна, смешна, горька и точна, тем сильнее и жёстче ощущает он, что на место стыда (за себя) и боли (за этих двоих) приходит..., страшно сказать, — зависть. Именно так, я ничуть не оговорилась, — натуральная жгучая зависть к тому пониманию цельности и смысла жизни..., — жизни деда и своей собственной. К тому пониманию, которое пронизывает буквально каждую строчку Ханона.
Ханон не просто знает и с жестокой увлекательностью рассказывает историю своей семьи — вплоть до несчастного принца и ещё дальше (что само по себе способно впечатлить многих «читателей», многих из нас, — плоть от плоти страны, — не помнящей ничего, потому что годами тáк приучали железной рукой — не помнить, и забывать). Для него вся эта семейная история — отнюдь не мёртвые строчки справки на пожелтевших страницах исторических справочников, а абсолютно живая, сегодняшняя и каждодневная практика, работа, дело; жизни разных поколений рифмуются, превращаясь в судьбу; личное существование каждого — даёт смысл остальным и получает свой смысл от остальных... К родству кровному немедленно прибавляется родство духовное. И каждый из них — в этой уходящей назад цепочке поколений — понимает про себя — гдé его место и ктó он такой. Вот этому сквозному, действенному и действительному ощущению смысла и стоило (бы) позавидовать.
Эта осмысленность всегда была и есть абсолютно во всём, за что брались эти странные люди, дед и внук. А следом за ними — и в этой книге становится осмысленной каждая точка, каждая цифра, каждая буква и ссылка (и тридцать раз прав автор тиражного после’словия Псой Короленко насчёт того, что даже именной указатель в книге — отдельная загадка и наслаждение; здесь всё — отдельное удовольствие, и любая деталь — совершенно органичная часть эксцентрического целого).
И ровно та же осмысленность, ощущение судьбы и понимание своего в ней места — становятся основанием для проникающего диалога деда и внука. Диалога, для которого, на самом деле, не нужно никаких слов. А раз не нужно никаких — то сгодятся любые: горькие шуточки (через век) и каламбуры, странные гримасы и жесты издалека, большие знаки и маленькие значки... Король эстрады, умевший рассмешить всякого, наконец-то, (после всего!) и сам встретил человека, между прочим, — своего внука, — над мрачноватыми шутками которого он, должно быть, и расхохотался на той... разбитой фотографии 1933 года.
Во всех своих книгах Ханон работает в единственно приемлемом для него жанре — жанре первооткрывателя. Небрежно примерив на себя старый как мир «фрак Колумба», он открывает для читателей своеобразный колумбарий или кунсткамеру, — состоящую из персон и персонажей, которых мы прежде совсем не знали...[26] или, по крайней мере, которых не знали — такими. Однако работает он всегда — в паре, в диалоге, дуэтом (согласия или несогласия, — это уже дело десятое) — и с Михаилом Савояровым,[27] и с Эриком Сати,[28] и с Альфонсом Алле,[29] и со всяким другим, кого бы я позабыла здесь перечислить...[30]
Отдельные главы..., точнее говоря, — главки прозаического предисловия щедро пересыпаны — словно молотым перцем или петушиным зерном — краткими цитатами, односложными скетчами и — савояровскими стихами, затем педантично перечисленными, поименованными и инвентаризованными в финальном индексе книги, — в результате чего оглавление само по себе уже превращается в наглядное место встречи двух вселенных, двух экстремальных художников, деда и внука.
Не говоря уже о том, что указатель имён и оглавление книги — казалось бы, чисто технические разделы, — становятся очередным поводом для литературных выходок и лингвистической импровизации. Вместо будничного и вполне ожидаемого окончания (как во всех нормальных изданиях) читатель попадает в отдельный аттракцион: то ли королевство кривых зеркал, то ли царство теней, где все (и живые, и мёртвые) дружно упражняются по части изощрения остроумия и словесной эквилибристики. И здесь снова царит вечный клоун...
Пожалуй, здесь придётся только посочувствовать тому самоубийце (из числа профессионалов, конечно) попытается всерьёз определить это произведение, чтобы отправить его на одну из обычных библиографических полок. К такому семейному дуэту мудрено подступиться с голыми руками и — со стандартным литературоведческим набором инструментов анализа и сравнений.
Заканчивая эту повесть, пожалуй, остаётся только развести руками фирменным жестом Сократа, ибо про такую историю таких двух королей может быть понятно только одно: она уникальна. И напоследок ещё раз (надеюсь, последний) обернусь назад. Исключительно ради того, чтобы повторить. И подытожить...
— Начиная чтение, — я сказала, — читатель вынужден рассердиться или, напротив, спрятать глаза от стыда за добровольную причастность ко всему человеческому (слишком человеческому), невольно ёжась от историко-социальной неловкости за всё, что вершили и вершат те, кого автор припечатал отчуждающим в’местоимением — «они».
— А заканчивая чтение, — я говорю ещё раз, — он ловит себя на жгучей зависти к тому уникальному пониманию самих себя, своей судьбы и своей ценности, которым обладают «они», эти двое.
Благодаря этому пониманию они, эти двое, так непринуждённо беседуют.
И их негромкие голоса — без малейшего усилия — перекрывают суету повседневности. Шум времени. И даже надсадный вой немецкой бомбы, падающей на Москву 4 августа 1941 года.
...эти двое составляют прелестное трио..., А ещё..., ещё читателю, закрывая (прочитанную) книгу, становится бесконечно жаль, что опять — всё кончилось. И поверх всего остаётся саднящее чувство потери... Потери всего и всех. — Михаила Савоярова. Юрия Ханона. Но прежде всего, — самого себя, конечно.
Хотя нет (поправлю себя в последней строке)..., главным послевкусием остаётся, всё же, — благодарность. Благодарность — за этот редкий, редкостный подарок, — какой не всякие сто лет случается.
Анастасия Икар
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
- Хотя..., на счёт числа тут могут быть и варианты...
Итак, это мы выяснили. Значит, не рецензия..., а донос (почти под нос). Первое слово сказано. Теперь не дурно бы добраться и до второго (пока оно не стало последним). И вóт как оно должно было бы выглядеть...
Нет, не реплика. Никакая это не реплика. И не оценка..., — и даже не мнение читателя, каким бы особым он ни был. В первую голову, этот текст представляет собой — вещь, я не оговорился, именно так: реальную вещь и такое же реальное событие из реальной жизни, находящееся в реальной цепочке подобных ему реальных событий и, словно двойная черта, реально подытожившее два (с лишним) десятка лет. Можно было бы сказать: action directe, прямая вещь. Или, быть может, химический индикатор..., пурген с мылом, внезапно дающий глубокий малиновый цвет там, где только что была одна мутная жижа. Или, наконец, выразительный поплавок на поверхности стоячего болота, — показавший со всей убедительностью: всё, конец, финал, финиш, allez!.., больше не клюёт (даже на сáмого жирного червя).
- То ли рыба вся сдохла, то ли её там и не было никогда...
Впрочем, оставим пустые гадания, — как сказал бы в таком случае дядюшка-Альфонс. Оставим, всё равно из этого пальца больше ничего не высосешь...[34]
Нет, не рецензия. Ничуть не рецензия. И даже не реплика (от одного читателя). А в чистом виде — артефакт, реальный артефакт начала XXI века, весны 2020 года, один из лучших экс...понатов питерской кунсткамеры. Ничуть не менее реальный, кстати сказать, чем сáмая книга, о которой идёт речь. Избранное, как говорят. «Из бранного». — Вещественное доказательство непреодолимой силы. Шуринька Скрябин, надо сказать, ценил такие штуковины чрезвычайно высоко, и называл их странным словосочетанием «человеческий документ».[35]
- — Ну что ж, поверим ему нá слово...
и
первое же, невероятно сильное, что поражает в тексте «дуэта двух королей» — это его удивительная наглядность. Почти иллюстративная. Как на ладони. Или между пальцев. В комплекте с предельной точностью. И вдобавок, авто’биографичностью. Выраженной почти идеально прямо, большим половником в лоб (или по лбу), без попыток напустить розового туману или накинуть (ме)...муаровую занавесочку. Всё прямо, чётко и по пунктам. Как ночью в аптеке (за фонарём налево)...[36] Фактически, это не реплика, не рецензия, а классический случай вос’поминания, — мемуар, остро и точно направленный мемуар, причём, выдержанный в жестоком жанре. Всё в нём, от начала до конца, взято из личного опыта и написано — о самой себе, почти буквально следуя за текстом рецепта. Потому что путь — уже пройден. Вполне.
- Шаг за шагом. Год за годом. Не спеша. Но полностью.
Так сказать, до упора. До стеночки... И автор текста — Настя Сахновская, — к тому моменту, как ей «повезло» (и вправду, волей случая) получить в руки раритетную «огненную книгу», уже в полной мере сумела проявить своё небрежение, равнодушие и обывательскую небрежность, о которой сама тут же и пишет. И если в начале 2000-х годов трудно было представить, чтобы автор обсуждаемой книги не передал бы ей свой новый фолиант (да ещё и в кожаном переплёте, пожалуй), то двадцать лет спустя — об этом не могло быть и речи. Общение с «читателем» было полностью прекращено. В точности так, как об этом рассказано в реплике..., и причины в тексте перечислены, в целом, верно: вследствие обывательского небрежения, суетности и пустого образа жизни, ведущего к отказу от высоких инвалидных ценностей.[37]
Начало книги производит впечатление тяжёлое и болезненное, так как первые её страницы – это обстоятельно изложенный, развёрнутый и подробный упрёк. Горький и заслуженный. Этот упрёк не адресован никому лично и адресован лично каждому. Потому что мы, читатели, присутствуем тут же, в тексте. Потому что текст построен на противопоставлении : «я» (Ханон, но тоже и Савояров) и «вы», читатели (у Савоярова – зрители). Хотя нет, даже не «вы» – одна мысль о прямом диалоге с такими ничтожествами претит автору – а «они». «Они», посторонние, «не-дорогие», ничего не понимающие, «не заслужившие ровным счётом ни-че-го»; «они», которые топчут, плюют, забывают, размазывают и превращают в пыль. Кто определил нас в это неприятное множество, которое толпится под словом «они»? Никто. Мы сами. Что мы такого сделали? Вот как раз ничего. Не смотрели в ту сторону. Не читали тех строк. Не слышали тех нот. Просто жили. Занимались своими делами. Не поворачивая лица к тем, кто хотел что-то сказать. Пока ещё хотел. А потом замолчал, как Савояров. Сжёг книги и партитуры, как Ханон. Казалось бы, смешная старомодная коллизия из школьного сочинения : «поэт» и «толпа». Кто бы мог подумать, что всё ровно так и есть, как пишут школьники в своих сочинениях – есть поэт. И есть толпа. «Мы»...
Иными словами, читая книгу (художественный текст, между прочим), автор доноса (реплики, рецензии) не просто понимает всё написанное там сугубо конкретно, прямо, вещественно и наглядно, но и — принимает на свой счёт. Сказанное «ни к кому» или «ни в чей адрес», судя по её словам, она считает обращённой прямо к ней. Как упрёк. Или обвинение («J’accuse…!»). Или, наконец, как счёт (что значительно более точно). — Хотя ниже и далее... (un so weiter), что особенно показательно, не совершает ни малейшей попытки хоть как-то отреагировать на него. Ну..., казалось бы, чтó может быть естественнее нормальной человеческой реакции на упрёк или обвинение: возразить, отвергнуть, скорректировать, объясниться, оправдаться, ревизовать или, наконец, выдвинуть встречный упрёк. Кстати, можно и по морде съездить, на крайний случай...
- — Однако ничего..., я повторяю, ровным образом ни-че-го подобного не происходит.
Автор доноса..., — пардон, — автор объявленной «реплики от читателя» — просто и почти документально, почти как вещь — принимает выставленный счёт (в том числе, и на свой счёт) и не видит ни малейшего повода (причины, оснований, резона) для возражения. Подобная психологическая позиция (нечто вроде непротивления или пресловутого подставления щёк для соответствующих упражнений ближнего своего) как минимум нетривиальна и производит весьма сильное впечатление. Пожалуй, если бы не четверть века близких отношений, — я бы рискнул добавить, — что она даже обезоруживает и подкупает, частично..., если не взять в расчёт (хотя бы частично) глубочайшего её внутреннего генезиса, связанного с той же инвалидностью.[38]
- Уже единожды помянутой всуе.
и
второе, пожалуй, ещё более сильное, что не просто поражает, но — бери выше!.. — попросту, приводит в оторопь. Во всяком случае, меня (приводит). До сих пор, — почти как ребёнка (приводит). Хотя, видит бог, мне уже давно не девять лет. И даже не одиннадцать... — Весь текст доноса, вся реплика читателя от начала до конца, взятая как вещь..., как одна из вещей в цепочке событий, снизу доверху пронизана каким-то чистым..., почти светящимся на просвет детским аутизмом, в результате приводящим к ярко выраженной и, вдобавок, на удивление последовательной (!) шизоидной позиции. Как оказывается, в этой прекрасной картине мира всё оказывается разделено — словно бронированным стеклом — на две нерушимые части, согласно старому (как мир) физическому закону о не’сообщающихся сосудах. Со всеми втекающими и вытекающими последствиями... — И в каждом из них, вроде бы, неплохо осведомлены о том, что происходит там, «за гранью», — но любое знание здесь обладает поистине рафинированной чистотой и непорочностью, освящённое полнейшим невмешательством «в суверенные дела». Ни в малейшей степени (ни в коем случае, что бы они ни думали!) подданные из одной части не могут вмешиваться в дела на смежной территории. И упаси боже, они не имеют права совершать действия, способные хотя бы в сáмой малой мере затронуть сложившееся положение вещей, равновесие или status quo двух миров. При том, что один из них, вроде бы, на словах признаётся ценным и важным, а другой — обыденным и пустым. И тем не менее, «ничто важное и ценное не имеет права проникнуть в обыденное и пустое». В точности как на старой афинской табличке времён собаки-Диогена: «да не внидет сюда ничто дурное».
|
- Чтобы оно, не дай-то бог, не поднялось в цене.
Если послюнить палец (безымянный, желательно) и водить им по строчкам текста, а затем ещё и попытаться принять всерьёз слова этой доносительской реплики..., то картина вырисовывается поистине душе’раздирающая..., в прямом смысле слова. С одной стороны, означенная Настя (Сахновская-Панкеева-Икар) безо всяких оговорок признаёт за собой часть некоей экзистенциальной вины некоего «равнодушного сообщества», и оттого полученный ею подарок «избранного из бранного» называет незаслуженным. Не пытаясь занять роль стороннего наблюдателя, почти по умолчанию и без малейшего протеста она (сама, добровольно) причисляет себя к нижнему миру «толпы», — тех, кто «ничего не сделал, не смотрел в ту сторону, не читал тех строк, не слышал тех нот» и вёл вполне обыкновенный обывательский образ жизни людей сегодняшнего дня, — короче говоря, плебеев хлеба и зрелища, живущих только здесь и сейчас, — как называет их автор книги. — Но с другой стороны, оставаясь с полным пониманием там же, где и была раньше, она не готова сделать ровным счётом ничего, даже какой-нибудь сущей мелочи, чтобы хотя бы в незначительной степени изменить сложившееся положение вещей. И это несмотря даже на тот факт, что, заканчивая чтение, она прямо признаётся в присутствии подобных желаний, и даже более того, «...ловит себя на жгучей зависти к тому уникальному пониманию самих себя, своей судьбы и своей ценности, которым обладают «они», эти двое <Савояровых>. В отличие от всех нас..., «остальных».
Глядя с почти почтительного расстояния на процесс героического самопожертвования русской партизанки-камикадзе, могу только развести руками (как можно шире). Ни шагу вперёд!.. Ни минуты стоя!.. Поистине, человеческая природа с потрясающим упорством демонстрирует стоический консерватизм (совсем как на рижском консервном заводе).
- Как говорится, назло маме что-нибудь отморожу, очень важное...
И даже более того, прихлопнув нескромного мотылька дамской шляпкой, в сопроводительном письме к тексту «Дуэта двух королей» она ещё и дополнительно придавила её сверху коленкой, чтобы, как говорится, не оставить уже ни малейшего сомнения. Или — щёлки, тем более: нет, не вылетит. Умрёт, но не вырвется...
Другому на моём месте было бы просто стыдно нажимать на фатальную кнопку «пуск» в электронном ящике. Но мне определённую лёгкость придаёт то обстоятельство, что я уже, что называется, давно и хорошо зарекомендовала себя с плохой стороны и вряд ли паду ниже того места, на котором с удобством устроилась...
Удивительные слова, достойные лучшего применения..., особенно если поставить и, главное, со...поставить с другими. Со всеми теми, которые составляют доносную реплику... от одного читателя. Вернее сказать, от единственного. Или, к примеру, ещё с другими, присланными мне сразу по прочтении этой двуспальной страницы. Одной на двоих: «До чего приятно ходить в твоих соавторах, даже по мелочам! Комментарии – отдельный аттракцион. И само оформление страницы, в котором элегантность подчинена смыслу, но при этом совершенно никуда не теряется, – лучше не бывает. <...> В общем, спасибо тебе за такую королевскую публикацию». — И снова воз...вращаю благодарность сторицей (со слегка обескураженным выражением на лице). Спасибо и тебе, моя дорогая. — Благодарю покорно, — как напевал всё тот же Михаил Савояров, — и нижайший поклон, — как делал я. Так и подмывает..., взять в руки что-нибудь в(л)ажное и подмыть двойную черту. А затем, поверх всего, ещё и поставить галочку: «здесь был дядя» (пока не заставил себя уважать). Значит, отныне заживём по-новому, свободные от самих себя. И «казнить можно помиловать». И вырвать можно съесть. Особенно отчётливо это становится заметно теперь..., после всего.[3] — Соединение несоединимого. Совмещение несовместного. Объём необнимаемого. Одним словом: дважды прекрасный шизоидный мир. «Да» и «нет» разом, — невольно тухнет разум. Ridendo dicere severum...[10]
и
последнее, пожалуй... Потому что здесь, на правах соавтора, я вынужден ещё раз влезть в предложенный текст, не только с ногами, но и со всеми потрохами. — Текст, в котором всё не так. В точности как за чёрным зеркалом. Или при свете чорного фонаря, в котором так просто «давно и хорошо зарекомендовать себя с плохой стороны»... — Слава богу, кроме одной этой реплики (несомненно, лучшей в своём роде), в наследии осталась и ещё парочка огурцов (слегка бешеных, как и полагается), в довесок. Для начала, это будет артефакт №2. Дивный, тончайший рассказ Альфонса, которого не было..., сделанный вместе: «Левый ботинок».[26] Всего один (ботинок..., и рассказ тоже один), но зато такóй, чорт побери, — что стóит целой книги. Словно не сапожником выточенный, а — ювелиром. Филигранный по со...авторской работе. А ещё, артефакт №1..., значительно более незаметная, но важная работа по вычитке и проверке запутанных языковых лабиринтов эссе и записных книжек Эрика, — отлившихся в граните (задним числом, как всегда, глубоко задним числом).[40]
|
- — Раз и навсегда: моя благодарность за эти две жемчужины.
Анастасия... или Анестезия, как я её всегда называл. Отчаянный стилист. Органический филолог (с природным видением подтекста). Фумист от (какого-то) бога (хотя и без царя, как и полагается). И главное, главное!.., — редкостной силы со...автор, равно обладающий тонко настроенной интуицией и жестокой эмпатией, свойственной только высокому инвалиду.[29] — И всё это, без особого сожаления, коту под хвост. Потому что..., результатов такого, с позволения сказать, соавторства, осталось — раз-два-три и всё, кот наплакал. — Но почему же так?.., спросил бы иной доброхот, якобы схватившись за голову. Очень просто. Сейчас отвечу... — Потому что, говоря одним словом..., потому что — человек..., во все дела у нас здесь традиционно вмешивается человек, существо низкое и неразумное. И этим всё сказано. А ещё потому что — успеется. Потому что..., глядя на саму себя, вечно кажется, что ещё можно позаниматься ерундой годик-другой, а затем ещё десять-двадцать, отложив главное — на потóм, в один из старых ящиков (молодой Пандоры). А потóм..., когда, наконец, настанет это волшебное «потóм», развести руками и написáть (да и то, из-под палки) вóт такую «реплику» от читателя..., или, прошу прощения, неподмётный донос — на саму себя, когда... «читателю, закрывая (прочитанную) книгу, становится бесконечно жаль, что опять — всё кончилось. И поверх всего остаётся саднящее чувство потери... Потери всего и всех. — Михаила Савоярова. Юрия Ханона. Но прежде всего, — самого себя, конечно»...
Этот отвратительный и трижды досадный феномен «упавшего инвалида» (или погашенной гениальности, если угодно)..., феномен, к сожалению, отнюдь не феноменальный, я многажды затрагивал и описывал в своих печатных и непечатных работах. Начиная от «Скрябина как лицо», где он размазан как известная субстанция на всю книгу, от начала до конца, — и кончая «Неизданным и сожжённым». Потому что этот выбор (чаще всего без права выбора) — как срамной перст — с подростковых лет маячит перед лицом каждого инвалида: затратив массу усилий, вернуться назад (к норме, к людям) или всё-таки, вопреки всему (в том числе, и здравому смыслу), реализовать свой внутренний изъян. Совсем как сцена «у раз’вилки» в старой-доброй шизоидной сказке, где всё числом три, не больше и не меньше: налево пойдёшь, без головы останешься; направо пойдёшь, задницу потеряешь; а прямо двинешься, так и вовсе — одна только задница от тебя и останется. Но зато... остаётся главный путь, как правило, не оглашаемый вслух: назад. Реверсом или ракоходом. Отступим, но не сдадимся, — как говорил дядя-Миша.
- — Так и хочется воскликнуть, напоследок: браво, Вова!..
А ты говоришь: «реплика, реплика»... Ну да, пожалуй, поверим, под конец. Пускай снова будет реплика. Тем более, если попытаться понимать её в изначальном смысле этого слова, как говорят в старом-добром Пьемонте: «возражение, повторение» (частная форма reproduction de la vie). А затем ещё раз, и ещё раз, пока вся слюна не кончится... Пожалуй, именно это странное свойство и подействовало (на меня) сильнее всего между строк удивительно наглядной реплики, проникнутой снизу доверху ещё более удивительным шизоидным пафосом уходящего... падающего (как в замедленной съёмке) мира. И ещё, — кислым послевкусием запёкшейся во рту крови..., словно после начального промежутка карманной мистерии. —
- — Пора кончать, пожалуй. Давно пора...
...Как написал я ей семь лет назад, — allez..., мир, в котором даже ты ведёшь себя таким образом..., — мне больше нечего делать в этом мире. И даже разговаривать — не обязательно. Такой мир заслуживает только тишины...
- — Так что всё сказанное здесь..., следует понимать только в виде исключения.
И ещё раз напоминаю в конце своего «псолесловия»: оно написано только для одного читателя.
Никто другой его читать не должен и не может, во избежание выпадения или опущения.
А если кое-кто запрет всё-таки нарушил и прочитал, значит, пускай теперь пеняет на себя.
Отныне он остался, как минимум... должен.
* Со всеми вытекающими...
Ком’ ...ментарии
|
- ↑ Итак: имя прозвучало. Анастезия Икар. Точнее говоря, Anastassia Hecquard — выдающийся..., и даже дважды выдающийся театровед, филолог, франкофон, филер, лингвист и мимикрист. Биографическая справка о подателе сего листа прилагается отдельно. Или не отдельно. Или не прилагается. Как говорится, на всё оное токмо воля божья. Или — его коровки, на худой конець...
- ↑ На всякий случай (не) прошу прощения (у читателей и/или) автора. Разумеется, этот тест претерпел (на всех своих стадиях и этажах) суровое вмешательство моего безымянного пальца. А иногда даже — указательного. При том, что это не было само...управством. Даже на первый взгляд. При тексте рецензии, который я получил от автора по почте *(напомню, её имя Анастезия), было приложено несколько фраз, одна из которых предоставила мне все права первородства. И вот они, (обои вместе) привожу их здесь полностью и без изменений.
«Надо ли уточнять, что в прилагающемся текстике ты можешь всё выбросить, или всё вставить, или всё исправить...»
Таким образом, едва взявшись за работу, я сделал вид, что воспринял обращение буквально. И с полным основанием находился в своём праве, как цесарь, тиранн или, на худой конец, аллигатор. — Ничего не выбросив, многое чего вставив (мечта поэта!) и, наконец, всё исправив. Таким образом, в первой же публикации читатель сразу получил «издание второе, дополненное и исправленное», а также «улучшенное и доработанное». — Именно так. И я сейчас не стану трудиться (напрасный труд!) каждый раз отделять плевелы от плевал, а козлищ от козней, чтобы пояснить & показать НА ПАЛЬЦАХ: где кончается авторский текст, а где начинается Его — дополнение и исправление.
Поскольку начал я оное — с первых же слов, которые значились на присланной странице, а закончил — последними. Например: в первоначальной редакции (журнала «Звез Да» или «Не Ва», точно не припомню) название и подзаголовок этой рецензии выглядел несколько иначе: «Королевский дуэт» ( читательская реплика ). Однако со временем почему-то утратил часть своего первоначального оба...яния, превратившись в то, с позволения сказать, жалкое подобие самого себя, которое и сегодня можно наблюдать в начале (вернее говоря, наверху), крупным шрифтом посреди этой страницы.
Глядя на этот слегка странный заголовок..., в качестве совсем уж отдалённой ассоциации можно было бы припомнить ещё один маленький пустяк, «Дуэт двух людей» (на стихи А.А.Фета). Маленький музыкальный номер (один из двух), какой-то неправдой избежавший карающего ножа режиссёра-кинолога А.Сокурова, (вполне справедливо) решившего очистить мир от моей музыки (пускай и не не в первом, но — во втором своём фильме). Несомненно, в оставшемся далеко за кадром названии «Дуэт двух людей» содержалась некая высшая тавтология, которую хотелось бы повторить и здесь. Сегодня. Или хотя бы — вчера, на крайний случай... — И вот, приоткрыв напоследок небольшую жёлтую книжку, не без некоторого удовлетворения я снова перечитываю три короткие строчки на странице №434,
«...бережно сохраняя философское выражение лица, <он> удалился, покорно бормоча себе под нос: Да, мы всё сделаем как Принцы!.., как два принца...»
И даже этот дуэт (не считая среднего), — я надеюсь. Напоследок... - ↑ Автор рецензии вполне осведомлён, точнее говоря, он (она) хорошо знает, о чём говорит. Прошу прощения, если выражаться корректным языком из конвенционального словаря, она обладает развитой компетенцией в данном вопросе. — Но не более того.
- ↑ Впрочем, как следует из сто’страничного текста предисловия книги, и Савояров-старший также не был чужд творческой пиромании. Во всяком случае, первая половина его стихотворных текстов была предана возгонке на заре советской власти, а вторая половина — должна была отправиться следом сто лет спустя. Таким образом, выставленный на обложке термин «избранное из бранного» имеет ещё одно значение, нечто вроде «исхищенного из пепла».
- ↑ Несмотря на слегка косвенную речь, эта дивная, хотя и несколько «пустоглазая» метафора (о читателях и почитателях) не принадлежит стилý автора книги. Но только перу автора — рецензии. Говорю это не слишком участливо, но вкупе со всей анастезией, на которую только способен. — В последнее время...
- ↑ Пожалуй, единственным «прецедентом» здесь является сам Савояров-младший, все (...опубликованные, — придётся здесь добавить, — заранее понимая не только существенность, но также и фатальность этого добавления) литературные работы которого и представляют собой разные варианты «сиамских книг», сделанных не только в тесном диалоге (как было, например, ещё в романе «Скрябин как лицо»), но и — в прямом со’авторстве. Об этом, собственно, он и сам пишет на странице 95 своего полукнижного предисловия: «...в точности таким способом я работал, к примеру, с прелюдиями Скрябина, а затем (говоря почти без пауз), с французскими текстами Альфонса Алле, Эрика Сати и даже Фридриха Ницше, «переводя» их для начала с русского на русский, а затем — ещё и с несовершённого на совершённый. И что? В результате такого, с позволения сказать, со’трудничества появился «Альфонс, которого не было», затем точно такой же Сати <которого тоже не было>, Нитче..., и вот, теперь, за ними последовал ещё и Савояров — отныне избранный из избранных». — К сказанному автором, пожалуй, можно добавить только одно: в последней книге означенный симбиоз двух авторов (двух королей) достиг высшей степени. Даже выше (и глубже), чем это было в «Воспоминаниях задним числом».
— К слову сказать, вящая причина того обстоятельства, «неблагодаря» которому (или которое) опубликованы были только сиамские книги Ханона, — вполне может послужить поводом для отдельного крупного разговора. Ибо..., ибо..., как говорил Остап Ибрагимович, — в неё заключена не только причина, но и, с позволения сказать, причинное место многих других (по)следствий, в конце концов, оставивших «в тени», а затем и в мире ином — всё прочее (неопубликованное) наследие автора. - ↑ Разумеется, не всегда «отношение Савоярова к зрителям» было таким же, как и «отношение Ханона к нам, читателям». Равно как и упомянутое «отношение Ханона к нам, читателям» тоже не всегда было таким же, как сегодня. В этом легко убедиться, например, взяв в руки написанную четверть века на зад книжку «Скрябин как лицо». При всей общности тона, жёсткость постановки вопросов (и ответов) отличается весьма чувствительно. И здесь нет никакой тайны. Всякий предмет существует во времени. Савояров (как типичный инвалид) очень поздно созрел как личность. Равно как и надежду он потерял не сразу... Потому-то «отношение Савоярова к зрителям» стало таким же после его тридцати пяти лет, скажем, — ко временам его наибольшей популярности и «Луны-пьяны!» — А затем, после 1917 года, уже бравые сограждане поэта приложили массу усилий, чтобы продвинуть его ещё дальше — за черту возможной коллаборации. И чистый случай, что эта черта сразу же не оказалась где-то между Колымой и Стиксом.
- ↑ Отчасти, это напоминает главный образ «чёрного Пьеро», на котором «выехал» (из-за кулис) Александр Вертинский. Но только не на сцене, а в реальной жизни. Без игры в маски. И без грима.
- ↑ Об этой бес...прецедентной книге (под названием «Русский Шумахер», если кому непонятно) Анастасия знает от меня лично. Думаю, без такого пояснения этот пассаж останется совсем тёмным. А с пояснением — тоже останется, но не совсем.
- ↑ Как уже было сказано выше (а также в верхах), они хотя бы уже потому предтечи, что обладают несомненным правом первородства. Обе три савояровские книги (разумея «Внука Короля» и «Избранное изБранного») появились последними, заведомо позже, чем все остальные перечисленные здесь опусы — от Скрябина до Альфонса.
- ↑ Здесь нет никакой мистики или тонкого намёка на толстые обстоятельства. Михаил Савояров погиб в августе 1941 года, за 24 года до рождения своего внука, Савоярова-младшего. Впрочем, даже если бы «король эксцентрики» пережил ту войну, их встреча была бы проблематична: в год, когда внуку исполнилось 11 лет, ему стукнуло бы цельных сто. Очень редко когда люди живут столько, но короли — никогда.
— Если не ошибаюсь...
Ис’ ...сточники
|
- ↑ Михаил Савояров. «Не всегда», отрывок (1903) из сборника «Сатиры и Сатирки». ― «Избранное Из’бранного» (лучшее из худшего), стр.224.
- ↑ Иллюстрация — Анастезия Икар (Настя Сахновская-Панкеева), портрет лица при знаках отличия. Фото: Юр.Ханон, ас-206.
. - ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Эр.Сати, Юр.Ханон. «Воспоминания задним числом» (яко’бы без под’заголовка). — Сан-Перебург: Центр Средней Музыки & изд.Лики России, 2010 г. — 682 стр.
- ↑ Антон П.Чехов. «Дядя Ваня» (сцены из деревенской жизни в четырех действиях). — Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения в восемнадцати томах. Том тринадцатый. Пьесы (1895-1904). — Мосва: Наука, 1986 г.
- ↑ Людвиг вон Бетховен. Opus 120. 33 вариации на тему Диабелли. До мажор. 1819-1823 гг.
- ↑ Михаил Савояров. «Слова», стихи из сборника «Кризы и репризы»: «Осенило» (1906).
- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Мх.Савояров, Юр.Ханон. «Избранное Из’бранного» (лучшее из худшего). — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2017 г.
- ↑ Иллюстрация — Юр.Ханон. Окончание первой (второй) книги Михаила Савоярова и о нём: «Внук Короля» (с’казка в п’розе). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2016 г. 26 мрт 219, на фотографии последний экземпляр, передняя часть книжного блока без обложки.
- ↑ Шаламов В.Т., собрание сочинений, том 1, «Колымские рассказы». — Мосва: «Художественная литература», «Вагриус», 1998 г.
- ↑ 10,0 10,1 «Ницше contra Ханон» или книга, которая-ни-на-что-не-похожа. — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки», 2010 г.
- ↑ Юр.Ханон, «Мусорная книга» (том первый). — Сана-Перебур. «Центр Средней Музыки», 2002 г.
- ↑ Иллюстрация — Михаил Савояров, «внук короля» — в костюме и в образе франта, фланёра, бездельника. С почтовой фото-открытки конца 1900-х годов (С-Петербург).
- ↑ М.Н.Савояров. «Кисанька» (кошачья идиллiя). Изданie „Эвтерпа“. — Петроград, 1915 г. Разъѣзжая, 20. Телефон 601-28. Тип. С.Самойлова. Петроград, Благов. пл.3.
- ↑ Михаил Савояров. ― «Слова», стихи из сборника «Стихи я»: «Тональность»
- ↑ Михаил Савояров. ― «Слова», стихи из сборника «Вариации Диабелли»: «Переход».
- ↑ Михаил Савояров. «Сравнение» (1904) из сборника «Стихи Я». ― «Избранное Из’бранного» (лучшее из худшего), стр.29.
- ↑ Иллюстрация — Михаил Савояров, «внук короля», пред’последняя фотография-имитация (двадцать лет спустя) в образе прежнего савояра-гаера-короля эксцентрики. Фото: Михаил Савояров ~ 1933-34 г. «Битое стекло» работы Анны т’Харон
- ↑ Михаил Савояров. «Ожидание», отрывок (1940) из сборника «Стихи Я». ― «Избранное Из’бранного» (лучшее из худшего), стр.335.
- ↑ Михаил Савояров. «Слова», стихи из сборника «НеВрастения»: «Молчальник», некритический отрывок (1921).
- ↑ Иллюстрация — стилизованный рисунок лица Петра Шумахера в медальоне, сделанный с фотографии ~ конца 1870-х — начала 1880-х годов (московского ателье Шерер).
- ↑ Михаил Савояров. «Слова», стихи из сборника «Наброски и отброски»: «Ошибочки» (посв. А.Майкову), гипокритический отрывок (19-08).
- ↑ Иллюстрация — Владимир Ульянов (Ленин), арестованный в Санкт-Петербурге за распространение листовок (по делу о «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса»). — Полицейское фото (декабрь 1895 года).
- ↑ Дм.Губин, «Игра в дни затмения» (Юрий Ханон: интервью). — М.: журнал «Огонёк», №26 за 1990 г. — стр.26-28
- ↑ Михаил Савояров. «Воксальное» (1917) из сборника «Посиневшие философы». ― «Избранное Из’бранного» (лучшее из худшего), стр.141.
- ↑ Михаил Савояров. «Дивоген» (1916) из сборника «Посиневшие философы». ― «Избранное Из’бранного» (лучшее из худшего), стр.129.
- ↑ 26,0 26,1 Юр.Ханон. «Альфонс, которого не было» (издание первое, «недо’работанное»). — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки» & «Лики России», 2013 г. — 544 стр.
- ↑ Юр.Ханон, Мх.Савояров. «Внук Короля» (сказка в п’розе). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2016 г.
- ↑ Юр.Ханон «Три Инвалида» или попытка с(о)крыть то, чего и так никто не видит. — Сант-Перебург: Центр Средней Музыки, 2013-2014 г.
- ↑ 29,0 29,1 Юр.Ханон «Чёрные Аллеи» (или книга, которой-не-было-и-не-будет). — Сана-Перебур: Центр Средней Музыки, 213 г.
- ↑ Л.А.Латынин, Юр.Ханон. «Два Гримёра» (роман с пятью приложениями). — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки», 2014 г.
- ↑ Михаил Савояров. «Слова», стихи из сборника «Посиневшие философы»: «Сокрыт», апокритический отрывок (1917).
- ↑ «Сочинения Козьмы Пруткова». — Мосва: «Художественная литература», 1976 г., 384 стр. — Незабудки и запятки. Басня.
- ↑ Михаил Савояров. «Шестой» (1936) из сборника «Оды и Пароды». ― «Избранное Из’бранного» (лучшее из худшего), стр.307.
- ↑ Юр.Ханон, Аль.Алле, Фр.Кафка, Аль.Дрейфус. «Два Процесса» или книга без-права-переписки. — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2012 г. — изд.первое, 568 стр.
- ↑ Юр.Ханон. «Скрябин как лицо» (издание второе, до- и пере’работанное). — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки» 2009 г. — том 1. — 680 с.
- ↑ А.Блок. Собрание сочинений в 8-ми томах. — Мосва: ГИХЛ, 1960-1963 гг.
- ↑ Юр.Ханон «Три Инвалида» или попытка с(о)крыть то, чего и так никто не видит. — Сант-Перебург: Центр Средней Музыки, 2013-2014 г.
- ↑ Юр.Ханон «Животное. Человек. Инвалид» (или три последних гвоздя). — Санта-Перебура: Центр Средней Музыки, 2016-bis.
- ↑ Иллюстрация — некий ко’позитор 10 лет спустя, перед пересадкой Trichocereus scopulicola (лысый природный эхинопсис из Чили). — Сан-Перебур, 5 апреля 2010 года (завершая «Ницше contra Ханон»).
- ↑ Эр.Сати, Юр.Ханон. «Воспоминания задним числом» (яко’бы без под’заголовка). — Сан-Перебург: Центр Средней Музыки & изд.Лики России, 2010 г. — 682 стр.
- ↑ Иллюстрация — фасадная сторона Орденского Перстня Ордена Слабости №7 (второй степени, второй панели), вручённого некоей А.Д. в ноябре 2005 года (Сана-Перебур, ткт, ск, во.)
- ↑ Иллюстрация — Избранная фотография из бранного: каноник и композитор Юрий Ханон. — Сан-Перебур (дурное место). — Canonic & composer Yuri Khanon, sept-2015, Saint-Petersbourg.
- ↑ Ил’люстрация — Поль Гаварни, «Cavalleria trombettista sul cavallo» (отъезжающие). — Courtesy of the British Museum (London). Акварель: 208 × 119 mm, ~ 1840-е годы.
Лит’ература ( слегка из’бранная )
| Ханóграф: Портал |
- «Ницше contra Ханон» или книга, которая-ни-на-что-не-похожа. — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки», 2010 г.
- Юр.Ханон. «Вялые записки» (бес купюр). — Сана-Перебур: Центр Средней Музыки, 191-202 гг. (сугубо внутреннее издание). — 121 стр.
- Юр.Ханон, «Мусорная книга» (в трёх томах). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 191-202-221 гг. (внутреннее издание)
- Эр.Сати, Юр.Ханон «Воспоминания задним числом» (яко’бы без под’заголовка). — Сана-Перебург: Центр Средней Музыки & Лики России, 2011 г.
- Юр.Ханон, Аль.Алле, Фр.Кафка, Аль.Дрейфус «Два Процесса» или книга без права переписки. — Сан-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2012 г.
- Юр.Ханон «Альфонс, которого не было» (или книга в пред’последнем смысле слова). — Сан-Перебург: (ЦСМ. 2011 г.) Центр Средней Музыки & Лики России, 2013 г.
| Ханóграф: Портал |
- Юр.Ханон «Чёрные Аллеи» (или книга, которой-не-было-и-не-будет). — Сана-Перебур: Центр Средней Музыки, 2013 г.
- Юр.Ханон «Три Инвалида» или попытка с(о)крыть то, чего и так никто не видит. — Сант-Перебург: Центр Средней Музыки, 2013-2014 г.
- Л.А.Латынин, Юр.Ханон. «Два Гримёра» (роман с пятью приложениями). — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки», 2014 г.
- Юр.Ханон «Неизданное и сожжённое» (на’всегда потерянная книга о на’всегда потерянном). — Сана-Перебур: Центр Средней Музыки, 2015 г.
- Юр.Ханон. «Скрябин как лицо», часть вторая, издание первое (несостоявшееся и уничтоженное). — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2002 г.
- Юр.Ханон «Животное. Человек. Инвалид» (или три последних гвоздя). — Санта-Перебура: Центр Средней Музыки, 2016-bis.
- Юр.Ханон, Мх.Савояров. «Внук Короля» (сказка в п’розе). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2016 г.
- Мх.Савояров, Юр.Ханон. «Избранное Из’бранного» (худшее из лучшего). — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2017 г.
- Юр.Ханон, Мх.Савояров. «Через Трубачей» (или опыт сквозного пре...следования). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2019 г.
См. тако же
| Ханóграф: Портал |
- Михаил Савояров, ещё один ... король мимо трона
- Михаил Савояров (и его стихи) (на его сайте в папке «Слова»)
- «Из бранного — в избранное» от Псоя Короленко ( первое после...словие после первой книги )
- Избрание — из брани (от Быкова до Иванова)
- Родня... от Шумахера до Савоярова
- Карл-Эммануил, совсем неправильный король
- Столица Савойской Империи (воспоминания осколка)
- « Трубачи » внука короля ( маленький оригинал для будущих больших копий )
| Ханóграф : Портал |
- « Трубачи » Александра Галича ( маленькое раз’следование с большим под’текстом )
- « Трубачи » Юрия Германа ( или анонимка бес доноса )
- Дадаизм до дадаизма
- Двуглавый Штейнберг... ( или жестоко забытый ж. )
- Не богемный, а богемский ( или дурак ты, Дима )
- Пан-Сармат ( главный в шантане )
- Фон’форизм ( или фанфары по фумизму )
- О музыкальном в’-лиянии собак
![]() Auteurs : Anastassia Hecquard & Yuri Khanon.
Auteurs : Anastassia Hecquard & Yuri Khanon. ![]()
All rights reserved. ![]() Все права сохранены.
Все права сохранены.
* * * эту статью мог бы редактировать или исправлять
исключительно её главный автор или ещё тот..., который всегда.
— Все желающие как-то исправить или дополнить настоящий текст, —
могут принять в нём кое-какое участие (или в крайнем случае, выйти вон)...
* * * публикуется впервые : ред’актура & оформление — Юр.Савояров, esc.
« s t y l e d & d e s i g n e d b y A n n a t’ H a r o n »