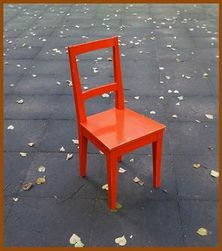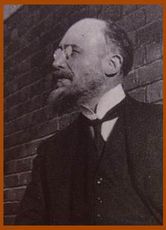Автоматические Описания (Эрик Сати)
и благим ругался матом...[1] ( Мх.Савояровъ )
А
Особенно если учесть, что в те времена в стране «победившей зрелости» социализма познакомиться с запрещёнными записями Александра Галича или подпольным концертами Аркадия Северного было в сто сорок два (142 прописью) раза проще, чем услышать хотя бы одну задохлую пьеску Эрика Сати. Во всяком случае, мне, (сначала школьнику, а затем и) скубенту [[|консерваторской консерватории]] имени консервного консерватора Римского-Корсакова, буквально по крохам приходилось собирать ничтожные свидетельства и артефакты, просеивая единого слова ради тысячи тонн словесной руды.[4] Грешнó сказать, но за предыдущие два десятка лет — всего одна маленькая пьеска Сати для фортепиано в четыре руки (как сейчас помню, это была одна из «Гримас ко сну в Летнюю Ночь») была опубликована в сборнике четырёхручных пьес, затрапезную функцию составителя которого каким-то невероятным стечением обстоятельств исполнила, страшно сказать — моя бабушка (соответственно, бывшая жена & вдова Савоярова). А потому не удивительно себе представить, с каким восторгом я воспринял появление в 1983 году новой крупной монографии о французской музыке эпохи модерн, автором которой была профессор Филенко (наша, лени’градская, между прочим), а сакра’ментальному «монсеньёру Сади» там была посвящена — ажно целая глава!.. И пускай на каждой странице маститый автор щедрой дланью расточала налево и направо блестящие перлы собственного недоумения, непонимания и неуместности..., — главное, что они теперь были, эти страницы. На месте прежнего умолчания и пустоты. — А уж мне (нескромному психологу — от рождения) было совсем не трудно установить: какóв он на самом деле, этот причудливый Эрик, способный своими выходками поставить в тупичок любого профессионала — именно в силу его профессиональности (читай: органичной ограниченности). ► Живо помню внезапный восторг (предельно тусклый), напавший на меня в старом музыкальном магазинчике (на улице Рыбацкой). Обнаружив шикарную книжку в твёрдой обложке «о двухстах с лишним страницах», на которой (красным и) синим по белому было крупно написано: «Французская музыка первой половины ХХ века», я едва скрыл (от продавщицы) постигшее меня жестокое волнение. Понятное дело, в (белом тканевом) переплёте под таким подозрительным названием — не могло не быть Эрика!.. Трава не расти, но он там — обезьятельно был, автоматическим образом, образина!.. Ради порядка сунув нос в оглавление и мгновенно обнаружив там желаемый набор из восьми букв, затем я осторожно перевернул книгу и на задней стороне прочёл... глубоко оттиснутую цену (1 р. 40 коп., рубль сорок старыми, даже страшно произнесть). — Ох.., таких громадных денег у меня в руках (отродясь) не бывало. И в ближайшее время наверняка бы не появилось (собственно, и до сих пор, аз грешен, так ни разу и не держал в руках суммы, хотя бы приблизительно сравнимой по циклопическому масштабу). — И всё же, actum est. Никакого права выбора у меня не оставалось: вещь, находившаяся у меня в руках, по праву первородства принадлежала мне и только мне... — Попросту говоря, я не мог уйти оттуда без этого предмета. Скажем просто: без неё, без книги. — И я ушёл оттуда с ней. Это произошло, можно сказать, само собой, автоматически. Как у самогó Эрика... — Драгоценный предмет (настоящая рухлядь!) от мира сего..., наконец, нашёл своего хозяина.[комм. 2] Не стану скрывать: книга эта, насквозь испещрённая моими замечаниями, инвективами и рисунками, и ныне занимает почётное место на моей Главной Книжной Полке (сокращённо: ГКП): рядом с «Ecrits»,[комм. 3] «Чёрными Аллеями», «Воспоминаниями задним числом» и прочими (бес)смертными раритетами... — Несомненный человеческий документ, говоря высоким штилем Шуриньки Скрябина,[5] она представляет собой высшую улику..., или даже вещественное доказательство..., глядя на которое уже решительно не требуется ничего доказывать. Буквально автоматически, сама собой — вся человеческая природа (словно бы по закону неукротимой рвоты) вывалилась из неё наружу при первом же взгляде на лицо Эрика Сати, этого удивительного инвалида, неизменно провоцировавшего всех «надутых, тупых и просроченных» в течение всей своей жизни..., а затем продолжавшего (и продолжающего) регулярно творить то же самое — и после смерти. До сих пор не могу избавиться от какого-то поистине детского изумления и восторга, с которым я десятки раз читал и перечитывал текст главы под названием «Эрик Сати» (начиная буквально с любого места, как «Василия Тёркина», «Случаи» Хармса или какой-нибудь сборник автоматических анекдотов), несомненный шедевр своего рода... — Не зная ни профессора Филенко, ни о(б)суждаемых ею сочинений, ни этого «композитора музыки», ни сáмой его музыки, но зато будучи отлично знакомым с основными чертами бессмертной человеческой тупости, именно с той поры я глубоко и всесторонне полюбил Сати вместе с его странными «выходками», «вылазками» и «трюками», раз и навсегда недоступными пониманию заурядного (кланового) интеллекта. — Вóт почему даже теперь, спустя несколько десятков лет я по-прежнему сердечно благодарен профессору Филенко за её чрезвычайно свежий и пахучий текст, до краёв заполненный недоумениями, недоразумениями и непониманиями, — сверх того, всякий раз высказываемыми в какой-то почти по-детски неприкрытой и необработанной форме.[комм. 4] — Браво и ещё раз браво, мой низкий Вам поклон, дорогая Галина Тихоновна. И вот, между прочим, к чему это я всё говорил (вероятно, в тоне излишне автоматическом)... Ради зачина... хочу привести один из образчиков вполне среднего (для этой книги) текста, где профессор Филенко (между прочим, нежданно благожелательным тоном) анализирует фортепианные сочинения 1911-1916 годов, писанные Эриком (впервые в своей жизни — «дипломированным специалистом по сочинению музыки») после окончания Schola cantorum, начиная (конечно же) с «Вялых прелюдий для собаки»...
...Характер этих крошечных фортепианных миниатюр, живых и образных, вполне соответствует их названиям, письмо их, на первый взгляд простое, сводящееся к самому незамысловатому двухголосию, таит в себе немало тонких, даже изысканных неожиданных ладо-функциональных наслоений. Отрывок тем более показательный (по крайней мере, для меня), что речь здесь шла о музыке не просто без’вестной, но и такой, (повторюсь ещё раз!) узнать или, паче чаяния, пощупать которую было практически невероятно. Понадобилось ещё девять лет плюс крушение Советского Союза, чтобы «Автоматически надписи», упомянутые божественным профессором Фи., наконец-то дошли до моих ушей. Что же касается до нот, то я их не видел и до сей поры...[комм. 6] Помнится, в первую очередь мой глаз зацепился за дивную (почти фантастическую по своей наивной простоте) фразу: «не только названия и ремарки, но и сама музыка смешна», — удобоваримое толкование которой (как мне представлялось тогда и представляется поныне) выходит далеко за пределы интеллекта типового примата.[комм. 7] — И всё же, в первую голову я хотел бы сказать совсем не об этом... Читая текст советского профессора, невозможно не обратить внимания на одну проникающую странность: среди массы слов, автоматическим образом описывающих «Засушенные эмбрионы» и соседние с ними опусы, напрочь отсутствовало нечто главное, что очевидным образом держал про себя сам автор (имея в виду Эрика, конечно). Конечно, в музыковедческом тексте было бы трудно услышать реальную звуковую материю, чтобы ощутить основную затею: ради чего начиналась игра. — В чём, собственно говоря, состояла идея, замысел, наконец, умозрительная конструкция целого. — Понимаю, задача слишком трудная..., для музыковеда, к тому же, по принципу «профессионализма» не обладавшего достаточными ресурсами (включая интеллектуальный) или хотя бы — информацией... Но всё же, ограничиться замечанием, будто «не только названия и ремарки, но и сама музыка смешна»..., пожалуй, это уж слишком смелое решение.
Кстати о птичках: последний факт совершенно справедливо подметил Григорий Шнеерсон, монопольный предшественник Г.Т.Филенко (по части истории французской музыки ХХ века), опубликовавший свой эпохальный труд почти двадцатью годами ранее, когда меня ещё не было на этом свете. Правда, «Автоматические Надписи» в его старинной книге, вытерпевшей пару переизданий, не получили отдельного абзаца (равно как и сам Эрик Сати не стяжал отдельной главы), но всё же — сказанного вскользь (почти походя) было вполне довольно для автоматического описания общей картины (не слишком-то вдохновляющей): ...По окончании Schola cantorum Сати, обогащённый техникой контрапункта, сочиняет ряд фортепианных пьес, по-прежнему лаконичных, сжатых по форме, полностью лишённых каких-либо претензий на красивость, порой причудливо сочетающих простоту мелодического материала с битональным двух’голосием. Он упорно ищет неожиданные приёмы развития формы, избегая принятых в музыкальной практике канонов. Это своеобразие творческого стиля проявляется также и в гротескных названиях его произведений, почти всегда вызывающе прозаических: «В лошадиной попоне», «Тощий танец», «Сушёные эмбрионы», «Автоматические описания» и т.д.[7] ...пожалуй, при почти бухгалтерской точности суждения (описывающего некое неизвестное явление только с поверхности), самым вдохновляющим в тексте милейшего коллеги Ш. мне всегда казалось вот это уникальное завершение: почти автоматическое и почти вызывающе прозаическое «и т.д.» в конце фразы, следующее непосредственно за «Автоматическими Описаниями». Казалось бы, нагляднее некуда.
Хотя, и кроме того здесь ещё есть нечто такое, о чём можно было бы сказать отдельно. К примеру, название... (особенно, если учесть тот нетривиальный факт, что почти вся информация об «Автоматических Надписях» исчерпывается одним заголовком). Итак: «Автоматические Описания» (не «надписи», как было у Филенко). — Пожалуй, при всей скупости двух слов титульного листа (в которых нет ровно ничего «смешного», курьёзного или «карикатурного»), в нём далеко не всё так просто и понятно. И в самом деле, что имел в виду автор под своими странными «Descriptions Automatiques»?.. — вне всяких сомнений, вопрос слишком сложный..., и даже я не намерен на него отвечать (во всяком случае, здесь, на этой дармовой странице, задача которой поставить вопрос ребром, а мозги — раком, но никак не наоборот). Но вот попытаться выяснить, для начала, как же перевести название на русский язык, чтобы в нём стало понятно хотя бы кое-что?..
— Но в самом-то деле, что же реально значит это приложенное странное прилагательное «автоматические» в применении к слову «надписи»?.., — особенно, если учесть стоя́щий на дворе 1913 год?.. — В каком смысле они «Автоматические»..., и «Надписи» ли они вообще, по замыслу Создателя? — Не совсем понятно..., тем более, если принять во внимание, что в авторской редакции всюду (от начала до конца) расставлены важные Заглавные Буквы, как если бы речь шла о каких-то святынях или, по крайней мере, именах собственных: для начала мы видим «Descriptions Automatiques», а затем «Sur Un Vaisseau», «Sur Une Lanterne» — и так далее по тексту (равно как и поперёк него). — И тогда: «чтó». Как это следует понимать?.. — Вопросы, прямо скажем, не праздные, в особенности, если припомнить чрезвычайную непростоту этого автора и замысловатого лабиринта его внутренних психических ассоциаций..., даже когда речь идёт о простой обыдневной жизни. — Не говоря уже об «Искусстве» — занятии са́мом искусственном и безыскусном, — если я довольно понятен... Новинки изобретения. Мы рады сегодня сообщить его сиятельству господину де Павловски, знаменитому покровителю изобретателей, о поистине потрясающей смекалке некоего скромного парижского рабочего. Он поставил перед собой благородную задачу облагодетельствовать наших оркестрантов маленьким прибором, предназначенным радикально облегчить исполнение современной музыки. Мы с гордостью сообщаем о его потрясающем автоматическом штопоре для лёгкого и мгновенного откупоривания засурдиненных валторн из «Пеллеаса» Дебюсси...[3] ...ну хорошо, давайте, попробуем по порядку (если он у вас имеется)... 1.«Descriptions» — говоря о классическом значении этого слова, остаётся только один вариант: «описания» (как предложено у мсье Шнеерсона) или (слегка устарелое) «описи». Предложенные г-жой Филенко в качестве личной инициативы «надписи» (по-французски однозначно — Inscriptions без каких-либо пересечений и двусмысленностей) представляют собой переводческий ляпсус, очевидное расширение (или толкование) первоначального значения слова, продиктованное (как всегда, из лучших побуждений..., автоматических) желанием сделать звучание и понимание заглавия более инерционным, привычным (и как следствие, удобоваримым) для повседневного мозга и языка. Впрочем, если взглянуть здраво, «надписи» (в сочетании со своим прилагаемым прилагательным automatiques) только много...значительно усложняют дело, поскольку расширяют вполне конкретный смысл до тех размеров, когда на него можно с размаху сесть одним местом. — Но увы, одним тем анекдот далеко не ограничивается, получив неожиданное продолж-ж-жение на соседнем этаже (гости сверху). Якобы решив одну проблему, m-me Filenko тут же породила на его месте лишнюю парочку компактных казусов (наподобие известных домашних насекомых, привычных скорее для русского языка). По всей видимости, отдельным предметом её беспокойства была нормальность (или удобопонятность) сочетания заголовка целого цикла — и его трёх частей. И в самом деле, если филенковские надписи вполне могут быть «На лодке» или «На каске», то описания или описи, как кажется, взыскуют уже совсем другого падежа и (якобы) не могут быть «на» предмете, поскольку описывают его свойства снаружи или со стороны (так сказать, в сугубо «родительском» наклонении)...[комм. 8] И здесь мы сызнова упираемся в проблему нормативного мышления, которое невольно старается выпрямить всё слишком кривое и скривить всё слишком прямое. А в результате плодит трёхэтажные колдобины и пустые недоразумения ровно в силу собственного неразумения (а также недоумения и небрежения). — Не слишком ли забавно, для начала?.. Пожалуй, пока оставлю этот пункт не’законченным. 2.«Automatiques» — казалось бы, с этим словом всё ясно: оно переводится в русский обиход единственным образом (почти калькой) — «автоматические». И тем не менее, дéла это не меняет и ничего не решает: после подобного перевода сомнения не только не переводятся, но и напротив того — начинаются. И прежде всего, возникает резонный вопрос о вполне конкретном, так сказать, сугубо зримом и зрительном смысле этого понятия. Хотелось бы узнать: «чтó именно» можно делать «автоматическим» образом (да ещё и по Большому Счёту) — «На Посудине», «На Фонаре» и «На Каске». По всей видимости, умственная невозможность некоего советского профессора ответить на этот вопрос и привела к рождению заведомо некорректного варианта — «надписи». Следуя стереотипам бытового восприятия & такого же речевого опыта советского человека, «автоматической» может быть, в первую очередь, ручка (для письма, я хотел сказать, а не дамская). Однако в данном случае (безо всяких скидок на профессию), последнее достижение не совсем применимо: на фонаре или судне ручкой не пишут (разве только — на каске?..) А раз так, может быть, Сати имел в виду какое-нибудь «механическое» нанесение надписей, например, по трафарету?.. — И в самом деле, хотелось бы узнать: не так ли назывался этот процесс до Первой мировой войны?.. Следующим пунктом, при некотором напряжении, последует процесс автоматического написания текста (без включения каких-либо сознательных механизмов). Но это (как кажется) уже явным образом не имеет отношения к музыке... В общем, примерно так и появился некий средний (удобоваримый) вариант «автоматических надписей»: выглядит привычно, внимания не привлекает, а значит, пускай всяк понимает как пожелает. Или — не понимает никак, читая книжный текст автоматически, по инерции и «не приходя в сознание» (что и происходит — как правило, в подавляющем большинстве случаев). Пожалуй, на этом месте я ненадолго прерву обсуждение смысла слов, а также — тех стандартных внутренних мин-ловушек, которые Эрик Сати расставил на путях возможного понимания...
Пожалуй, единственный промежуточный вывод, который можно сделать на этом месте: заголовок «Автоматические надписи»,[6] данный нам «в ощущениях» на странице приснопамятной книги, как минимум, трижды неверен: с точки зрения языка, с точки зрения смысла и, наконец, со стороны предполагаемых намерений автора... Впрочем, для подобного вердикта (с важным видом) вполне хватило бы и одной неверности. Например, первой. Или последней...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
А
« Автомати́ческие о́писи » (или «Descriptions Automatiques», — говоря языком оригинала..., и большого оригинала) — так называется небольшой фортепианный цикл (стандартным образом, из трёх пьес), написанный Эриком Сати в начале 1913 года специально для Рикардо Виньеса, (пианиста испанского происхождения) & имея в виду сдержанное эксцентрическое исполнение в концертах (в близком соседстве с пьесами импрессионистов, извечных эпигонов & конкур’рентов автора). Весной 1913 года «Descriptions Automatiques» были изданы фирмой Эжена Деме.[10] Гонорар курьёзным образом составил всего... пятьдесят франков (на карманные расходы). Стандартная сумма, от которой Сати, тем не менее, не слишком морщился. В те времена она (красавица, спортсменка) составляла едва ли не весь его композиторский «доход»...[3]
Пожалуй, на гишпанце Рикардо Виньесе (вместе с этими его чортовыми импрессионистами) придётся остановиться отдельно, поскольку... если бы не это лицо (порядком, усатое)..., большинство сатических фортепианных пьес 1912-1914 года (безусловно, совершенно особенных посреди всего прочего материала) так и не появилось бы из-под крышки авторского пианино (и его же черепной коробочки). — Скажем проще: все свои виртуозные штучки (имея в виду только взрослые, конечно) этого времени,[комм. 9] начиная с Вялых прелюдий (для собаки) и кончая Тремя вальсами пресыщенного щёголя, Эрик Сати сочинял из-под рук — и под руки специально для Рикардо Виньеса. Скорбно и отвратно констатировать столь унылый и ординарный факт: едва ли не всё «пианистическое» наследие Сати появилось вследствие случая или стечения обстоятельств (буквально говоря, по нужде, а не по воле или необходимости).[3] И с другой стороны, большинство пьес 1913 года буквально насквозь пропитаны диалоговым обстоятельством их появления, точнее сказать, они обладают почти всеми свойствами дис’позиции и оп’позиции участвовавших в них трёх персон (неодушевлённого рода и не единственного числа). Кроме автора (в порядке убывания), виновниками торжества следуовало бы посчитать (старательно загибаем пальцы): «одобрение Виньеса», «присутствие Равеля» и «отсутствие Дебюсси». — Без лишней скромности, приведённая формулировка (наподобие святейшей троицы) полностью исчерпывает начинку этого пирожка (с луком и яйцом), который часто называют мерзейшим словосочетанием: «фортепианные пьесы периода мистификаций и пародий».
- Пожалуй, было бы превосходно ограничиться этой фразой и закончить свою статью...
- Но увы, находясь на этой территории, я обязал себя принимать не’превосходные решения...
- Пожалуй, было бы превосходно ограничиться этой фразой и закончить свою статью...
А потому продолжу, единожды начавши с Рикардо Виньеса (или Виньéса, как его упрямо звали французы)... Этот пианист (достаточно тонкий и остро...умный) достался Сати прямо-таки напрямую, «в наследство» от коротышки-Равеля (после исторических концертов 1911 года, главным лозунгом которых была типичная передовица из парижской газеты: «кто первым изобрёл импрессионизм»).[комм. 10] Ситуация тем более двусмысленная и даже пикантная, что оный Равель (вместе со всей своей форте’пьянной музыкой), равно как и оный Дебюсси (каждый в свою очередь), также «достались» Рикардо Виньесу «от Сати», хотя и не столь прямым путём... — Если учесть, что оба этих «коронованных импрессиониста» составляли не только основу репертуара и репутации испанского пианиста Виньеса, но и его круга общения. И вот, наконец-то, судьба (опять-таки в лице Равеля) столкнула его с «перво’источником» и предтечей тех, кого он постоянно наигрывал. Фабула этого анекдота выглядела забавной и почти курьёзной, тем более, что оба соучастника новой компании (и Сати, и Виньес) об этом странном «истечении обстоятельств» не только отлично знали, но и не раз обсуждали (между собой или во время застолья)... Ещё одним полем обсуждения (только значительно более тонким и ценным) стали новейшие «музыкальные трюки» Сати, написанные специально для Виньеса. Словно два масона из тайного общества «свидетелей предтечи», они оба отлично знали, о чём здесь идёт речь (сугубо между нами!) — и при случае старательно прятали ехидную улыбку в усы...
- Не без того, конечно, чтобы Сати знал об этом предмете значительно больше... И точнее.
- В конце концов, совсем не пианистово это дело: слишком много знать.
- Не без того, конечно, чтобы Сати знал об этом предмете значительно больше... И точнее.
Здесь мы увидим «Подлинные вялые прелюдии (для собаки)», которые великий пианист Рикардо Виньес превосходно исполнил 5 апреля 1913 года (в зале Плейель). А ещё «Автоматические Описания», чей успех был значительным 5 июня 1913 (но уже в Консерватории), и которые тот же Рикардо Виньес играл с таким таинственным видом, что всем присутствующим было непреодолимо смешно. Многие из публики, не в силах больше терпеть, стремглав выбегали из зала и уже больше не возвращались...
По поводу названных пьес автор выразился ещё и так:
«Я написал «Автоматические Описания» по случаю собственного дня рождения, как нетрудно понять по их названию. Это произведение продолжает «Подлинные вялые прелюдии», но только уже не для собаки, а для меня лично».
«...Совершенно очевидно, что среди слушателей все Плоские, Напыщенные и Надутые получат удовольствие самое ничтожное.[комм. 11] Разумеется, они будут изрядно злиться, багроветь и пыхтеть. Ну и пускай они подавятся своей бородой! И пускай они всласть попрыгают на своём брюхе!..»[3]
— Эрик Сати, текст из годового каталога издательства Эжена Деме [комм. 12] (декабрь 1913)
Между прочим, чуть ниже в этой статье (не лишённой нарочитой позы со слоновой дозой авантажного эпатажа) Сати характеризует самого себя как «фантазиста» среди музыкантов, человека заведомо несерьёзного, причудливого и даже «невероятного». В конце концов, таким словом в Париже 1913 года называли скорее эстрадных артистов и куплетистов (наподобие Михаила Савоярова, тоже изрядно любившего кликать себя «фантазистом» или «фантазником»). Правда, Сати громогласно утверждает, что именно такие люди — «бравые и весьма подходящие», в отличие от всех прочих: Плоских, Напыщенных и Надутых.[11] В этом тексте хорошо заметно, что автор ищет тон для новой для него беседы с публикой, — и очевидно пытается говорить как можно яснее..., временами, доходя до состояния автоматической примитивности.
|
- Вот потому-то для него так важна обратная связь: реакция (сначала) пианиста, (а потом) и зала...
И здесь снова есть: на что обратить внимание. Не раз..., и не два, Сати будет вспоминать и настаивать на своём частном определении (заведомо опрощённом), когда всем присутствующим должно быть «непреодолимо смешно» при одном только звуке вялых прелюдий или автоматических описей. Во всяком случае, именно такая реакция входит в число неизменных ценностей автора..., и каждый раз он искренне расстраивается, если/когда не слышит из публики ответного смеха, автоматически полагая, что, в таком случае, попросту «провалился» на концерте. Не смея и не имея ничего возразить подобной внутренней терминологии & системе ценностей (в высшей степени невротической, с позволения сказать), только замечу (сугубо на полях шляпы), что под ней тщательно скрывается нечто значительно более важное..., хотя и не лишённое доли того же автоматизма.
- Поскольку музыкальная ткань «Автоматических Описей» сплошь состоит из «интеллектуальной» игры.
Не без (скрытого, явного) отвращения я употребил это мерзенькое «интеллектуальное» словечко. Само собой, к намерениям и результатам Сати оно (в принципе) не имеет отношения. Но вот к публике..., этой материнской носительнице любых форм массовой отрыжки, пожалуй — дá. И как раз с ней, со своей «внутренней» публикой Сати и играл в автоматические ребусы, большинство из которых зашифровано столь глубоко и старательно, что достичь цели возможно только таким же, автоматическим путём: скорее, через мозжечок, чем через мозг. С недюжинной виртуозностью Сати разрабатывает свою главную тему, наболевшую за два десятка лет вынужденного молчания, попутно пользуясь пианистом (по имени Рикардо) как своим тайным доверенным и соучастником, которому отлично известны основные перипетии импрессио’низменной истории музыки последних десятилетий. — Чтобы не говорить слишком длинно, повторяясь как дятел, только замечу, что здесь (как нигде) проявляет себя пожизненная склонность Эрика к заполнению музыки (буквально говоря, напихиванию до краёв!) глубоко несвойственными для неё символами и заведомо чуждой информацией: такой, которую по своей природе это неконкретное искусство менее всего приспособлено нести. — Повторяя свою трижды испытанную и сто раз повторённую формулировку, могу только сызнова поднять старинную тему уникальности & единичности (трёх) каноников в музыке, где «Скрябин – больше чем композитор, его музыка — не более чем пинцет и ланцет, инструменты для вскрытия & уничтожения мира во вселенском оргазме. А Сати – меньше чем композитор, его музыка — не менее чем пинцет и ланцет, те же инструменты (только в других масштабах) для сведения счётов с этим миром и его людьми»...[13]
- Пожалуй, здесь самое время остановиться, чтобы, наконец, не выдать какую-нибудь тайну
(желательно, государственную, конечно)...- Такие оговорочки, как правило, случаются сами собой, так сказать, автоматически
(и безо всякого желания автора)...
- Такие оговорочки, как правило, случаются сами собой, так сказать, автоматически
- Пожалуй, здесь самое время остановиться, чтобы, наконец, не выдать какую-нибудь тайну
Несмотря на некоторые (мнимые & мнительные) разночтения, «Подлинные дряблые прелюдии для собаки» и «Автоматические Описи» (как бы я сказал, ради пущей надёжности) были впервые исполнены Рикардо Виньесом — в зале Плейель 5 апреля 1913 года на концерте, организованном Национальным музыкальным обществом. Для автора и пианиста это была как бы генеральная репетиция, нечто вроде обкатки на публике. Основная же премьера (вторая) состоялась ровно двумя месяцами спустя (5 июня) в зале Эрар, в концерте Независимого музыкального общества.[11] По всей видимости, Сати придавал этому событию какое-то совершенно особое значение (отнюдь не автоматическое)..., — впрочем, этот трюк не уникален: в точности так происходило всякий раз, когда речь шла о Новых Сочинениях, смысл и действие которых были для него особенно важны: как проба и отдельный опыт.
- И в самом деле, в первых двух сочинениях нового стиля вполне было: чтó попробовать и на чём потоптаться...[комм. 13]
Рикардо Виньесу...
Мой добрый Старик.
Это громадное удовольствие для меня – ещё раз от души поблагодарить Вас за то, что Вы смогли сделать из моих скромных «Электрических вызовов» <(sic!)>...[комм. 14]
Без посредства Вашего высокого таланта, мои маленькие штучки и выходки наверняка показались бы слишком мелкими и незначительными. Вы не можете поверить, Вы сами не можете понять, до чего же превосходно Вы играли! Спасибо Вам ещё раз, мой старый сообщник; вот он, я здесь! – и поглядите сверху на меня, на Вашего старого, искренне признательного Вам...[3]
— Эрик Сати, из письма Рикардо Виньесу (Аркёй, 6 июня 1913 г.)
Пожалуй, в этом при’ватном тексте есть на чтó обратить внимание..., и даже, быть может, показать издалека маленький деревянный ключик к подлинному (дряблому) пониманию: чтó есть «автоматическая опись» (как в единственном числе, так и в трёх лицах). И прежде всего, сразу же бросается в глаза (и уши) особенный тон автора: показательно (показнó) аффективный, почти восторженный. Двух мнений здесь не может быть: автор был явно удовлетворён (своим) опытом: проба удалась. И удалась — на славу. Новый способ (музыкальной) шифровки информации не только работал, но даже... давал — восхитительно прямое действие (Action directe). Говоря прямым языком, «маленькие штучки и выходки» имели большой успех..., что также немаловажно (особенно, если учесть полное отсутствие на сцене конкретных слов или предметов)...
И в самом деле, так было: 5 июня 1913 года в зале Эрар «Автоматические Описи», сыгранные Рикардо Виньесом, (три маленькие части общей длительностью меньше пяти минут) сорвали — аплодисменты (почти овацию). Удивительное дело: местная публика даже потребовала двух бисов (и это на трёх крошечных пьесках).[11] Автор имел все основания быть довольным и — считать, что его новый способ шифровки — «сыграл».
|
- — Но в чём же он состоял, этот новый способ?..
- Очень трудно отвечать на вопрос, который уже многажды отвечен...,
- — и выше, и ниже, и сбоку за углом...
- Очень трудно отвечать на вопрос, который уже многажды отвечен...,
- — Но в чём же он состоял, этот новый способ?..
Ну хорошо..., значит, попробую ещё раз... Повторяю для особо непонятливых (особ). — Для начала вспомним историческую формулировку музыковеда-Филенко: «...в последующих довольно многочисленных фортепианных пьесах 1913 года не только названия и ремарки, но и сама музыка смешна, хотя в них пародирование и карикатура превращаются в самоцель, а смысл и адрес пародии не всегда понятны и убедительны. Так, например, в трёх «Автоматических надписях» <...> гротескно использованы всем известные мотивчики модных в то время песен и бытующие танцевальные ритмы, издёвка над которыми усугубляется множеством неожиданных, подчас нелепых своим несоответствием музыке пояснений и предписаний».[6] Несмотря на всю (очевидную) ограниченность профессионального текста, он даёт неплохое (хотя вполне автоматическое и примитивное) описание: чтó собой представляют «Автоматические Описания» в понимании обывателя..., по крайней мере, по части кодировки символов и зёрен смысла. И прежде всего, самым простым, цельным и точно бьющим в цель способом становится — конкретная цитата. — Причём, бытовая, заведомо «сниженная» и (наверняка) вызывающая в памяти слушателя конкретные слова (разбитные и не всегда приличные, вероятно), которые поются на этот «мотивчик». К слову сказать, этот приём спустя одиннадцать лет будет тупиковым образом развит и припечатан Эриком в своём последнем (фактически, предсмертном) опусе под говорящим названием «Спектакль отменяется» («Relâche», с подзаголовком «обсценный балет», прямо указывающим на его цитатную среду). Однако дорогой профессор Фи. обнажила только вершинку пирамидки (практически, самое остриё или пику), ни словом не обмолвившись о той звуковой среде, в которой появлялись означенные мотивчики и прочие звуковые провокации смыслов. — Тонкая, мелко проработанная (почти крохоборная) ткань «Автоматических Описей» вся сплошь состояла из разных отсылок, флажков и символов: подобно аккомпанементу, более густому и жёсткому, чем самая тема (или мелодия). И прежде всего, отсылки эти были (напомню ещё раз) — «...пинцетом, тоже инструментом для сведения счётов с этим миром и его людьми»...[13] Тому, кто хоть немного понимает..., достаточно кинуть короткий взгляд в начало, на первые фразы первой части, чтобы увидеть всё (ушами)... Лёгкий, словно бы оскоплённый ритм парижского танго, и на его фоне... — собственной персоной — они, одутловатые и просроченные господа импрессионисты (господа «де» & «ра»), два велiких и прославленных эпигона — своего ничтожного и никому не известного учителя, «ерика первого».
Да... И всё же, хотелось бы спросить..., м-м-м..., напомните пожалуйста, г-жа Филенко, а как называется первая часть «Автоматических Описей»?..
— Что? «Sur un bateau»?..., — неужели? Вы так думаете?..., или нет, «Sur Un Vaisseau», кажется, так?.. Да... Короче говоря, «На Лодке»...
— И что, по-прежнему ноль, zéro, — никаких мыслей? Ничего это нам не напоминает..., не навевает..., не наводит..., на ум?
— Ах, что за досадный, вечно дурацкий «наум»..., и всякий-то раз он умудряется отсидеться в стороне. В тени развесистой клюквы...
— Ну..., раз так, тогда немножко намекну, если будет угодно слышать.
Вернее сказать, ещё раз загляну в шпаргалку и повторю (как маленькие заклинания) помните? — «Равель, Дебюсси»... «Морис, Клод»...
— Нет?..., по-прежнему ничего? ну хорошо... А если напомнить ещё несколько слов, например: «море» (от рассвета до полудня), «игра воды»... и — поверх всего этого, «Sur Un Vaisseau» — Она, утлая посудина, лодка, баржа (чтобы не вспоминать про «барку»)..., грубым и обшарпанным днищем своим вечно скребущая непорочную (и такую непрочную) водную гладь Im-pres-si-on. Всего-то два звука..., для начала. А дальше (поверх водной поверхности) начинается — работа. Ав-то-ма-ти-чес-ка-я. Кропотливая. Крохо’борная...
- — Довольно слов..., если охота знать — слушайте. Там, у него — всё — сказано.
- Решительно всё. Причём, сказано прямым текстом. Хотя и музыкальным (не всегда)...
- — Довольно слов..., если охота знать — слушайте. Там, у него — всё — сказано.
Пожалуй, позволю себе ещё несколько ре’марок — вместо «пятого оттиска». Чтобы, так сказать, окончательно припечатать законченный автоматический отпечаток... Попробуем сделать несколько шагов на зад и вернуться к тексту письма Сати — Виньесу... На следующий день после концерта, получив бодрящий «электрический» заряд успеха своего новоприобретённого метода, автор пытается продлить своё праздничное ощущение, перекинувшись со своим исполнителем-сообщником парой зашифрованных фраз. Словно бы оговорившись в названии своего сочинения, которое он называет «Vocations électriques» (Электрические вызовы), он с первой же строчки письма делает ещё один (автоматический) услов(лен)ный знак своему тайному агенту (пианисту), чтобы вызвать у него (из него) вос’поминание (конкретно) о второй части «Автоматических Описей» (Sur Une Lanterne). Буквально говоря, автор затевает маленькую игру «в слова» или ассоциации (автоматические)..., часть из которых неминуемо скрыта от стороннего наблюдателя (в том числе, и меня), поскольку касается известных только между ними конкретных фраз, сказанных (повторенных) во время репетиций, и особо (вполголоса) отмеченных маленьких событий (ассоциаций), случившихся 5 июня 1913 года во время концерта, а также — после него... И всё же, кое-что (из «электрических призывов» Сати) уловить можно... Автоматически напоминая Виньесу о второй части («На Фонаре», чтобы не сказать «От Фонаря»), довольный автор вызывает из памяти многочисленные ремарки для исполнителя, щедро расставленные в нотах, которые, словно бы напрямую вытекая из названия, все от первой до последней сформулированы в электрической (точнее сказать, пр..осветительной) терминологии: «Не зажигайте ещё раз... — Посветите немного перед собой... — Ваша рука против света... — Погасите...» Причём, все эти намёки и полу’намёки, в свою очередь, представляли собой не более чем ширму, очередную игру, обманку, автоматическую описку — в конечном счёте, «авторскую шифровку»...
|
И вовсе не случайно (не впустую и не зря) Сати называет (и разумеет) своего визави «сообщником» (не иначе, масоном своего нового тайного знания). Несомненно, Виньесу было очень многое известно (можно даже сказать: «он слишком много знал», в том числе и на предложенную тему «электрического призыва»... вплоть до призвания или приговора). И вся световая завеса (ремарок для пианиста) в данном случае («сызнова и опять») служила не более чем очередной миной-ловушкой, лучезарным фокусом или мнимым признанием (до фонаря)..., поскольку главная аллюзия («Автоматическая Опись») этого предмета находилась совсем в другой области, (также смежной с пресловутым импрессионизмом и импрессионистами) и связанной, скорее, с расхожим инвективным выражением (чтобы не сказать: мотивчиком) «mettre à la Lanterne», кстати сказать, имеющим точную кальку (такую же расхожую) на русский язык (и такое же действие). Несомненно, связанное с универсальностью человеческой природы... — Одну минутку..., сейчас скажу всё, до конца... — Хотя, право слово, куда проще было бы просто послушать эту пьесу (вторую «Автоматическую Опись»), где всё видно насквозь. И даже слышно, в полном согласии с новым методом «музыкальной композиции» Эрика Сати... Основным материалом (цитатой, расхожим мотивчиком), на котором построена вторая «автоматическая пьеса», более чем красноречиво послужил рефрен разнузданной (пардон, революционной) «Карманьолы»..., знаменитой песенки карманников, под которую во времена радикального террора массовым образом убивали аристократов..., размазывая их мозги по мостовой или попросту вешая... на фонарях, тех самых.[11]
- Ещё одна прямая (и очень тонкая) отсылка — назад, к шикарным и «просроченным» господам импрессионистам...
- Исключительно для тех, кто понимает..., хотя бы на уровне намёков..., Автоматических.
- Ещё одна прямая (и очень тонкая) отсылка — назад, к шикарным и «просроченным» господам импрессионистам...
Вероятно, было бы не лишним заметить, что в 1913 году «электричество» ещё оставалось некоей экзотикой или «знаком будущего», не окончательно занявшим привычное ныне место будничного антуража жизни, ничуть не лучше меблировки (в форме электрического стула, вероятно). Постепенно наступая на повседневную жизнь города, оно, тем не менее, сохранило в себе яркий, силовой (будоражащий и даже шоковый, наподобие удара током) элемент особой зажигательности и новизны. К примеру, итальянские футуристы хроническим образом использовали прилагательное «электрический» для создания модернистского (или модернового) колорита. Таковы, к примеру, «Электрические куклы» Маринéтти или «Электрические стихи» Говóни.[11] Само собой, употребляя техническое и силовое словечко по отношению к музыкальной пьесе, Сати лишний раз чувствовал во рту покалывающий привкус вчерашнего успеха (несомненно, до крайности электризующего — особенно, после стольких лет унылого аркёйского поста), но также (и, возможно, прежде всего) особую новаторскую силу (освещающую, освящающую и двигающую) своих «Автоматических Описаний».
|
— С другой стороны, было бы крайне зловредным не заметить или недооценить сам по себе факт обращения к этой теме. Пожалуй, именно тогда, в конце 1912 года Сати начал активно разрабатывать внутри себя всякую и всяческую «автоматику» в области искусства: приём не только новый, но и модерновый — во всех смыслах этого слова. Причём, понимая её не буквально, по-импрессионистски, как например, это сделали спустя пять-семь лет по следам «учителя» Онеггер (со своим «мировым паровозиком») или Мийо (в каталоге сельхозмашин), а — во всех возможных и невозможных ипостасях: находящуюся и внутри, и поверх вещей. Говоря в утилитарно-прикладном смысле слова, «Автоматические Описи» открыли очередной ящик Пандоры и начали линию непрерывных пятилетних вариаций Эрика Сати на тему самой разной (скрытой и явной) машинерии и автоматики в области искусства — во всех её мыслимых (& немыслимых) формах и нормах. Вне всяких сомнений, именно они, эти мозговые экзерсисы (у станка) приведут спустя два-три года к возникновению полно’масштабной конвейерной (автоматической) музыки, только в силу случая получившей название «меблировочной», а затем выльются в скрытую внутреннюю механику «Сократа» (несомненно, находящегося поверх вещей, а равно и поверх истории..., включая свою собственную). Пожалуй, этим можно было бы и ограничиться, чтобы не составлять напоследок некое подобие каталога «автоматических взрывов», если бы эта дорожка на своём противоположном конце не привела к появлению ещё одного шедевра, предсмертной «Синема» и, как следствие, спустя ещё сорок лет (уже без автоматического присутствия автора) — полномасштабного «минимализма», опиравшегося своим нижним концом на весь грандиозный павлиний хвост последствий «Автоматических Описей».
Причём, из текста и кон’текста остаётся очевидным (безо всяких всплёскиваний руками и прочих преувеличений), — что маленькие пьески 1913 года сохранили именно такое, исключительное для своего Автора, значение «внутреннего открытия» даже спустя десяток лет, — точнее говоря, до конца жизни. Тем более отчётливо это заметно, что Сати вообще довольно быстро охладевал к уходящим в прошлое (назад) сочинениям. Однако внутри этих «Автоматических Описей», видимо, сидел какой-то тонко настроенный электрический механизм, постоянно напоминавший, зажигавший, тревоживший и будировавший — как новое достижение, прорыв. Говоря прямым текстом: реванш, победа (над самим собой), выход на более высокий уровень... — Открывая письма Сати спустя восемь, девять, десять лет, с удивлением находишь в них почти тот же тон, едва речь заходит об «автоматических» пьесах. — Хотя..., в 1922 году это был уже совсем не тот Сати. И совсем не тот мир... — Казалось бы, целая вечность прошла после первого исполнения «Подлинных вялых прелюдий (для собаки)», смыв без следа всё прошлое, что было тогда, раньше. — Кошмарная пятилетняя война. — Единственный скандальный спектакль «Парада» посреди города, почти осаждённого. — Судебное преследование автора. — Открытие «Сократа» и Меблировочной музыки...
- Нет, это был уже совсем не тот Сати. Почти старик. Больной, усталый... И накануне «отмены» своего последнего спектакля...
Жану Вьенеру...
Дорогой столь талантливый Друг. Доброго дня
Как я доволен тем, что вы рассказываете мне об «Автоматических Описях». Фарт! Они будут хохотать – & ещё и много. Да.[комм. 15]
Виньес мне их очень хорошо играл — & заставлял «кататься» зал Консерватории — но я уверен, что вы будете ещё сногсшибательнее.
Фарт, фарт! — снова говорю я. Да...[11]
— Эрик Сати, из письма Жану Вьенеру (Аркёй-Кашан, 2 сентября 1922 г.)
— Разрядка. Облегчение. Читай: немного сплетен..., ради маленького дивертисмента. Словно бы слегка разряжая слишком густую окружающую среду, означенный концерт с «Автоматическими Описаниями» во главе угла состоялся 30 октября 1922 года в зале Гаво. Спустя день Сати ещё раз поблагодарил Жана Вьенера, сообщив письмом, что тот сыграл «как ангел» (автоматический, видимо). Кроме всего прочего, на том концерте присутствовал некий лысый и красивый комо’зитор по фамилии Стравинский...,[комм. 16] известный любитель автоматических произведений, — и «был очарован», если я правильно понял своего драгоценного хронического предтечу...[3] — Пожалуй, ради такого слушателя имело смысл..., постараться. — Ну..., хотя бы самую малость. Например, в косметических целях..., чтобы немного снизить & понизить тон (а может быть, и тональность) моего автоматического обсуждения, равно как и того концерта в зале Гаво, с излишком механического. Собственно говоря, именно в этом сочетании (нарочно лапидарном) и состояла основная выдумка (и затея) Жана Вьенера, которой был так доволен мсье Эрик... Пожалуй, маленький дивертисмент здесь можно было бы и закончить. Достаточно..., для начала. И — наконец..., тем более.
- И всё же, не следовало бы слишком обольщаться. Потому что Главное Слово ещё не было сказано...
- Попросту говоря, я его пропустил (посеял) — среди тех двух, которые попали под раздачу первыми.
- Как кажется, подобные предосудительные поступки ещё никому не сходили с рук просто так.
- Попросту говоря, я его пропустил (посеял) — среди тех двух, которые попали под раздачу первыми.
- И всё же, не следовало бы слишком обольщаться. Потому что Главное Слово ещё не было сказано...
Опись ... — Дел
( авто’матическое до следование )и ругался авто’матом...[1]
( Мх.Савояровъ )
|
А
« Автомати́ческие О́писи » Эрика Сати (или «Descriptions Automatiques», чтобы не вдаваться в излишние подробности) — так называется компактный пятиминутный эксцентрический цикл из трёх фортепианных пьес, сочинённый одним из первых (точнее говоря, третьим) в ряду пианистических миниатюр довоенного «периода (пародий и) мистификаций». Неожиданным образом, этот крошечный опус впитал в себя несколько внутренних открытий Эрика Сати в области музыкальной идеологии, эстетики и символики, в очередной раз опередив своё время на пять, десять и сто лет, так и оставшись неразгаданным — вплоть до вчерашнего дня (пока не появилось на свет моё диссертационное эссе под классически выстраданным названием «Опись Дел»). Само собой, кроме собственно расшифровки авторского текста (часть, более всех прочих сокращённая в моей статье) и анализа языковой ткани (как вербальной, так и формальной), здесь была проведена масштабная работа над ошибками и предыдущими неудачными описями. К слову сказать, их основной недостаток заключался в недостаточной автоматичности. Исключительно для тех, кто понимает..., или хотя бы научился читать (в обратном порядке). Или вовсе без него.
- Таким образом, теперь мне осталось только закончить начатое дело (по его описи).
- Исключительно на том жалком клочке пространства, которое осталось после всего.
- Таким образом, теперь мне осталось только закончить начатое дело (по его описи).
Descriptions... Automatiques... — можно прочесть на титульном листе этого зимнего опуса Эрика Сати. «Descriptions Automatiques». Два слова..., — но где же, в таком случае, третье?.. К тому же, главное (если верить автору), которое (кроме всего прочего) настойчиво повторяется — трижды на протяжении всех трёх автоматических описей. С Большой Буквы Б (как и всё здесь)... И всякий раз на первом месте (для тех, кто уже догадался). Разумеется, разгадка проста до неприличия..., как и всё. Тем более, — автоматическое.
- Вне всяких сомнений, это оно... Короткое и незаметное. Как точка. Да...
- Прекрасное и неделимое..., совсем как в любимом «трио из двоих, в полном одиночестве» Эрика...[3]
- Вне всяких сомнений, это оно... Короткое и незаметное. Как точка. Да...
3.«Sur» — вот что осталось (забытым и никем не замеченным) напоследок. После всего. И превыше всего, как ни странно было бы это слышать... И в самом деле, она ведь так и осталась не(раз)решённой..., та самая загадка & проблема «подчинения», «падежа» и «предлога» (во всех смыслах слова, с позволения сказать), которая столь неудачно была разрешена г-жой профессором (Фи.) в пользу трёх «надписей» (на фонаре, от фонарей, до фонаря...) — Что же касается до блистательного мсье Шнеерсона, то он перед собой и вовсе не ставил такого вопроса (ведь в его тексте даже и речи не шло о каких-то «частях» среди упомянутых «Автоматических описаний»).[7] И всё же, они были..., как ни крути эту странную автоматику. Трижды (3-жды прописью!) Сати изволил написать (Descriptions) в своих нотах «Sur»..., а если быть более точным, то даже «Sur Un...» (Vaisseau, Lanterne, Casque). Повторяя и настаивая (на той же воде)...
- — Казалось бы: ну и что же из того?.. Да в том-то и дело, что ничего.
- — Ни-че-го..., чтобы не сказать: на постном масле.
- — Казалось бы: ну и что же из того?.. Да в том-то и дело, что ничего.
«Sur», пускай даже написанное с Большой, очень Большой или Большущей буквы, и в самом деле имеет в качестве одного из значений (самых простых и нормативных) — «На». Казалось бы, простой русский предлог: «на́», получи, — и ничего больше из него не высосешь. Можно даже составить автоматическую опись..., а затем начертать его с ударением и восклицательным знаком, если угодно, вот так: «На́!..» — и сызнова ошибиться (как было в случае «fi» нашего дорогого советского профессора). Потому что (кроме простого перевода) этот странный французский предлог «Sur», как оказывается, имеет при себе ещё кое-что сверх положенного.[комм. 17] Например (чтобы не говорить о подлинно дряблой этимологии): значение..., происхождение..., звучание... и даже (как это ни странно) — смысл. Последнее, пожалуй, выглядит совсем уж отвратительно. Не говоря уже об истории вопроса, которая в данном случае «сыграла» едва ли не первую скрипку..., — автоматическую, разумеется. Впрочем, о скрипках чуть позже, когда рассветёт... Хотя бы немного. — Потому что..., как мне кажется, в первую голову следовало бы (хотя бы) открыть словарь. Или даже не открывать, попросту прочистив старые извилины войлочным ёршиком — от известковых отложений.
|
Предлог «Sur», прежде всего, по своему происхождению, намерению, звучанию и смыслу — означает доминирующее или пространственное положение некоего предмета «сверху» или «над» чем-нибудь, указанным — ниже. В том числе (имея в виду), преобладание или перевес: количественный, качественный или принципиальный. Без ложной скромности: таков (помимо сознания или знания) автоматический знак..., точнее говоря, даже символ: «sur», — тем более, поставленный в столь особенном контексте..., и к тому же, продуманный & придуманный этим Автором (мягко скажем, пожизненно склонным к игре слов и смыслов) и, наконец, по(д)вешенный — трижды на первом месте, сверху, да ещё и с Большой Буквы. Собственно, ничто не мешало Эрику в данном автоматическом случае иметь..., прошу прощения, — поставить сюда какой-нибудь другой предлог «на»..., благо, их (на языке и во рту) предостаточно. — И тем не менее, он имел только этот, и поставил только этот..., и в итоге у нас перед носом постоянно маячит этот его навязчивый «Sur Un»..., поверх одного, да ещё и вполне конкретного предмета... — страшное дело! И что, разве ещё не всё (и ещё не всем) понятно? — Мадам..., мсье..., и даже мадемуазель... Даже и говорить-то дальше не хочется. Конечно, следуя нормативным правилам рассуждения, разговора, логики — «Автоматические надписи» вполне могли быть «на фонаре», но вот «Автоматические Описи»... навряд ли. Скорее всего, описи или описания бывают «чего-то» (фонаря, лодки, каски)..., если речь идёт об инвентаре или бухгалтерии. Но если говорить по сути или даже о глубине вещей (явлений)..., пожалуй, тогда и появляется сакраментальное «Sur Un»..., сколько бы о нём ни твердить. Само собой, в большинстве случаев (тем более, таких тяжёлых... случаев) не может быть перевода калькой: с бумаги на бумагу, с языка на язык, с головы на голову... И всё же, «Автоматические Описи» сверху лодки, над фонарём или поверх каски — пожалуй, дают понять куда больше, чем тривиальные (поверхностные) надписи на них. — К тому же, составляя три музыкальные «описи дел», месье Сати специально прибегнул к «автоматическому» приёму, чтобы заранее отмести подозрения в пресловутом «импрессионизме» — и, одновременно, составить к нему (читай: прежнему себе!) — ещё одну оппозицию: ехидную, едкую и мелочную. С одной стороны, (якобы) удалив центральную персону творчества (субъект впечатления — impression) и заменив её на пресловутый «автомат», простой регистратор истории, событий, ассоциаций, связей... С другой стороны, заранее описывая нарочито будничные предметы: вместо моря — посудину, вместо лунного света — фонарь, вместо шляпы с пером — каску. Причём, составляя автоматическую опись не привычной поверхности предмета, а — поверх неё, словно бы отскребая прилипшие на ней (за века и тысячелетия французской или человеческой истории) «культурные отложения»: будь то водоросли..., или старые сапоги повешенных аристократов, или чечевичную похлёбку; публичные дома или показательный канкан для военных... — Отдалённо, (но только очень отдалённо!) метод «автоматических описей» напоминает некое принципиально «новое искусство» (более чем дряблое), описанное двумя десятками лет позднее в рассказе Андрэ Моруа «Рождение знаменитости» под именем идео-аналитической школы...[19] — Казалось бы, всё ясно..., конец, можете идти. Достаточно.[комм. 18] И даже прибавить сверху больше уже нечего.
- И всё же, не стану лукавить: здесь остаётся и кое-что ещё..., поверх всего сказанного.
- Или же в точности напротив того: кое-что снизу..., на изнанке основного вопроса.
- И всё же, не стану лукавить: здесь остаётся и кое-что ещё..., поверх всего сказанного.
Дариусу Мийо...
Соблаговолите, Дорогой Друг: я не смогу пойти сегодня вечером, & умоляю Вас представлять меня. На выходе я столкнулся с группой «Фальшивый-Дада»: они прошли мимо с мрачными перекошенными рожами, но мне... ничего не сказали.[3]
— Эрик Сати, из письма Дариусу Мийо ( 16 июня 1924 г. )
Всего за год до смерти написаны эти автоматические строчки. Во время премьерных дней предпоследнего балета Сати «Приключения Меркурия», когда Андре Бретон и послушная ему шпана из группы «Фальшивый-Дада» (как их назвал Эрик) фактически организовали квадратно-гнездовые скандалы, дебоши, драки, крики и свист в зале, а затем (в конечном счёте) и — провал спектакля. Словно бы попав в совершенно другой мир — из глубоко довоенного 1913 года..., с его «Автоматическими Описями» (поверх предметов). — И вдруг, откуда ни возьмись, двадцатилетние хулиганы, которые едва не побили при выходе из театра... Дым до небес. Дадаисты, будущие сюрреалисты... Всё сказанное (выше) очень похоже на какой-то сон, дурной сон... Собственно, не óн ли сам это и был?.. — Как одна из несомненных вершин ежедневного автоматического состояния.
- — Ах, мой дорогой друг. Бросим пустые речи..., кто старое помянет (ну..., ты знаешь).
- Потому что все подобные процессы происходят — сугубо автоматически. И, как правило, без описи...
- — Ах, мой дорогой друг. Бросим пустые речи..., кто старое помянет (ну..., ты знаешь).
«Sur»..., — я хотел сказать. Да, это слово, вернее сказать, это короткое и хлёсткое словечко, которое так тяжело, почти невозможно перевести на русский язык (надо иметь достаточный предлог!..) и которое (спустя полвека после «автоматических описей») — неожиданно превратилось в расхожее жаргонное словечко на русских языках. Такое французское, такое искусственное, такое удобное и ловкое. Применимое практически ко всему, что происходит (или не происходит) в жизни... Вернее сказать, поверх неё. Словно соскабливая вековые отложения (иногда даже «культурные»), слой за слоем. Всего одно короткое словечко. Да... «Сюр...», — я хотел сказать. То, чего ещё не было. Будущее течение в искусстве, одно из самых ярких и известных в XX веке. — То самое, которое взяло своё начало от него, от Эрика Сати, (того са́мого, между прочим, которому они ничего не сказали, спасибо, что не побили!) — вернее сказать, от его балета 1917 года «Парад»..., а ещё вернее сказать, от манифеста «Новый Дух», который был написан специально к премьере «Парада» Аполлинером (теперь, в 1924 году уже — давно покойным)... Именно там, в этом программном тексте к эпатажному спектаклю Пикассо-Сати-Кокто впервые появилось новое словосочетание sur-realisme, когда Аполлинер назвал происходящее на сцене не просто реальностью, а сверх’реальностью, которую публика «должна будет научиться любить и понимать». — Вот так, просто и обаятельно: «должна научиться»..., и — точка.
|
- Поверх лодки..., поверх фонаря..., и даже поверх каски...
- Удивительно сказать, но ещё удивительнее вспомнить...
- Третий год шла война (и как же далеко она <за>шла!)
- Удивительно сказать, но ещё удивительнее вспомнить...
- Поверх лодки..., поверх фонаря..., и даже поверх каски...
В конце концов, и чем не сверх’реальность. Выше всякого понимания. И даже — соображения... Особенно это заметно теперь, после всего. Потому что..., оглядываясь назад, несравненно удобнее оценивать & оценить прежнее будущее время, которое (как показывает унылая тётушка-практика) уже давно осталось в прошлом. — Именно там (совсем как днём под фонарём) становятся значительно виднее и причины, и следствия, и даже их сакра(мента)льная взаимосвязь, подвергать сомнению которую дозволяется только государственным органам... Желательно, карательным. Или, на худой конец, право... охранительным. — Полагаю, после всего сказанного, мне вполне могут инкриминировать буйное помешательство (или тихий кошмар). И в самом деле, какая здесь может быть связь: где «Sur Un Casque», а где — «Sur-realisme»?.. Мало ли на свете слов, начинающихся (в конце) с одного и того же звука..., процесс почти автоматический.
- — Вот именно что: «автоматический»!.., большое спасибо за напоминание.
Впервые..., да, очень приятно слышать... В 1919 году (кажется, это было ещё раз впервые, если мне не изменяет память), 25-летний суковатый дядюшка Андре Бретон в своей дурацкой книге (совместной с Филиппом Супó) под названием «Магнитные поля» использовал некий метод письма, который впоследствии получил название «автоматического». К слову сказать, так называемые «сюрреалисты» (вместе со своим «Sur-Realism»’ом) в те времена ещё не существовали, точнее говоря, представляли из себя «недосушенные зародыши», среди которых выделялись две враждующие (почти воюющие) группировки «Дада»: одна (правоверная) под условным предводительством Тристана Тцары, а другая (бандитская и хулиганская) — бретоновская. Собственно, именно потому «правоверный» Сати и назвал мрачно проследовавших мимо и «не побивших его» театральных хулиганов группой «Фальшивый-Дада». Что же касается до Сверх-реализма и сверх-реальности, то Бретон объявил себя Папой нового течения как раз в те времена, в 1924 году. В прежние семь лет это звучное словечко (прикарманенное суковатым дядюшкой) существовало только в виде балета «Парад» (май 1917 года) и пьесы Аполлинера «Груди Тирезия» (поставленной в июне 1917). Спустя год, раненый в голову автор скончался (от последствий испанки), и существовавшая в его воображении (под простреленным лбом) сюр-реальность раз и навсегда осталась бес’хозной..., если не считать одной мелочи (в трёх частях)...
- Надеюсь, кое-кто уже смог ... догадаться, на какую «мелочь» я намекаю?..
Э.Л.Т.Мезансу...
Наш «Спектакль Отменяется» на 27 ноября. Мы заранее мобилизуемся в два лагеря, потихоньку роем окопы и устраиваем прочную позицию. Известная банда стреляющих «Задниц» наверняка найдёт, над чем скандалить и браниться. Для них это... совсем небольшая проблема. Дубина Бретон уже заранее трясётся, как дьявол в освящённом и благословенном дерьме (дерьме доброго священника). Да...[3]
— Эрик Сати, из письма Э.Л.Т.Мезансу ( 21 октября 1924 г ).[комм. 19]
Автоматическое письмо..., «сюр»-реальность... Не слишком ли много совпадений на три крошечные пьески?.. Меньше пяти минут... Больше десяти лет... — И всё же, «невероятно» поверить. Казалось бы: где эти ничтожные «Автоматические Описи», а где велiкий и ужасный Sur-реализм, спустя десяток лет возвысившийся (почти) до небес, поверх всего мира. Под облака... — Плевать. Сколько верёвочке ни виться... Всё равно: одно к одному... — Пожалуй, сызнова всю эту автоматическую сверх’историю можно было бы списать на «деструктивные наклонности» необузданного «фантазиста» (читай: автора..., впрочем, не стану уточнять, какого из них),[11], если бы у меня не было алиби. Да..., причём — железного алиби. — Вот именно!.. Самого настоящего!.. Неподдельного!.. И даже задокументированного в «источниках»..., как любят все эти... «Плоские, Просроченные, Напыщенные и Надутые». И даже... как любил он сам, прекрасный Эрик..., «лысый от рождения» (удивительно приятно себе представить это алиби, ах, какая прелесть!..., только подумать, самое настоящее а-ли-ли-би-би!..) Потому что, стыдно сказать, как показало вскрытие, вовсе не один я догадался об этой сакраментальной связи — буквально говоря, автоматической (по своей описи дел) и плавающей..., не побоюсь этого слова, прямо на поверхности... Точнее сказать, — даже поверх неё. Преодолевая любую защиту... Sur-Un-Casque, — для тех, кто умеет читать. Хотя бы немного.
|
И здесь я, едва ли не впервые в жизни..., слегка снимаю поверх головы свою старую как мир шляпу (не каску, нет), чтобы отвесить (исключительно издалека) свой прощальный поклон m-me O.V. (как она привыкла себя именовать... в последнее время, по автоматическому лекалу известного мсье E.S.). — Не будучи в полной мере засушенной и надутой носительницей клановых титулов (настоящий Аматёр своего дела), она, со своей стороны, также сумела преодолеть перегородки дряблого профессионального сознания, чтобы произнести несколько слов..., всего несколько слов на ту же (автоматическую) тему. — Практически, тему с вариациями (чтобы не вспоминать про Диабелли, само собой). Всего одним предложением, (не предлогом, нет) всего в одном маленьком комментарии..., всего лишь к письму одного странного «композитора музыки», написанного в 1913 году известному «пианисту трёх пьес»... И здесь, сделав шаг назад, я приведу фразу милейшей мадам-синьоры Орнеллы Вольты целиком и дословно... Во-первых, из-за её несомненной краткости (дивная добродетель, которой напрочь лишена моя статья, почти уголовная по размеру)..., во-вторых, ради той прекрасной автоматической описи дел, что угадывается там, высоко над её поверхностью... и, наконец, в-третьих — ради маленького & красивого кон’траста с нашей маститой профессоршей Фи., с которой я (чисто автоматически..., прошу про’щения) начал свою автоматическую опись дел. И пускай исчерпывающая фраза станет чем-то... вроде малой триумфальной арки. От начала и до конца. Поверх нашего с Эриком текста. Словесного. Музыкального. И — ещё одного, находящегося высоко над головой и, одновременно, глубоко под кожей любого явления. Которое, как следствие, всякий раз оказывается висящим где-то там, на фонаре, над существом вещей, «Sur Casque» & «Un Шляпой» человеческого материала... Итак, Вам слово, дорогая г-жа Орнелла: «...С другой стороны, название «Автоматические надписи» (выбранное Сати, чтобы подчеркнуть факт, что это произведение было плодом соединения музыкальных идей, которые спонтанно возникли в его сознании), впервые ссылается на понятие автоматизма, которое десятью годами позже станет одной из излюбленных тем сюрреалистов»...[11]
- Вот, собственно, и всё, что я (не) хотел бы сказать. Действуя исключительно в русле предложенной Эриком темы.
- И продолжая (volens-nolens) начатую им ровно сто лет на зад «Автоматическую Опись Дел».
- Вот, собственно, и всё, что я (не) хотел бы сказать. Действуя исключительно в русле предложенной Эриком темы.
Ничуть не удивлюсь, если какая-нибудь очередная клановая дрянь (из числа «Плоских, Напыщенных и Надутых», конечно) спустя какие-то годики слепит отсюда ещё одну просроченную автоматическую «дис’сертацию», само собой, не позабыв как следует лягнуть, отоспаться и затем удовлетворённо выпасть в осадок, — таким образом, обеспечив себе почётное место «Sur Une Lanterne»... Ну что ж..., мило, мило. — Пожалуй, здесь имеется неплохая нота (сугубо автоматическая), чтобы как следует закончить свою непраздничную опись дел. Поверх вещей... и голов.
- Слегка подытожив (ради маленького удобства) всё сказанное «выше»..., поверх слов и музыки... мсье Сади...
А
« Автомати́ческие О́писи » (или «Descriptions Automatiques», как предположил их автор) — так называется пятиминутный фортепианный цикл из трёх пьес, сочинённый Эриком Сати в начале 1913 года для концертного исполнения пианистом Рикардо Виньесом. В результате напряжённой внутренней работы автора, (как предшествующей, так и последующей) эта маленькая и словно бы «проходная» вещь, неизменно веселившая публику, неожиданно оказалась знаковым произведением, предвосхитившим и давшим начало сразу нескольким крупнейшим явлениям (и течениям) в мировом искусстве нача́ла, середины и даже конца XX века.
- — И прежде всего, в творчестве самого́ Эрика Сати «Автоматические Описи» спустя три, пять, десять лет привели к возникновению особенной «автоматической» музыки, только в силу случая получившей именование «меблировочной», а с другой стороны, положили начало содержательному методу внедрения сторонних смысловых зёрен в форме цитат, в полной мере сделавшему последний обс’ценный балет «Спектакль Отменяется».
- — С другой стороны, «Автоматические Описи» проложили изнутри себя длинную линию следования всех искусств (не только музыки!..) к будущему методу «автоматического письма» дадаистов, а затем и возникновению собственно сюр-реализма, особой технологии искусства, обозначившей своё место поверх (или сверх) реальности. — Что и не требовалось доказать..., ограничившись автоматической описью указанного маршрута.
- — И наконец, самая тема индустриализации, механизации и автоматизации творческого процесса поначалу открыла путь для музыкального конструктивизма (следуя насквозь через последующие открытия Сати), затем — на полвека и более предвосхитила появление минимализма (в музыке и не только), в конце концов, упёршись в разнообразные способы механизации творческого процесса, включая автоматическое написание музыки, а также компьютерную стохастику или алеаторику.
- — С другой стороны, «Автоматические Описи» проложили изнутри себя длинную линию следования всех искусств (не только музыки!..) к будущему методу «автоматического письма» дадаистов, а затем и возникновению собственно сюр-реализма, особой технологии искусства, обозначившей своё место поверх (или сверх) реальности. — Что и не требовалось доказать..., ограничившись автоматической описью указанного маршрута.
- — И прежде всего, в творчестве самого́ Эрика Сати «Автоматические Описи» спустя три, пять, десять лет привели к возникновению особенной «автоматической» музыки, только в силу случая получившей именование «меблировочной», а с другой стороны, положили начало содержательному методу внедрения сторонних смысловых зёрен в форме цитат, в полной мере сделавшему последний обс’ценный балет «Спектакль Отменяется».
уместилось внутри трёх крошечных пьесок Эрика Сати,
которые при рождении получили, на первый взгляд,
странное и даже нелепое название : « Автоматические Описи »...
«Поверх Судна», «Поверх Фонаря» и «Поверх Каски».
|
Ком’ ментарии (автоматические)
Ис’ сточники (автоматические)
Лит’ература (тоже автоматическая)
См. так’же (авто матом)
— По большой нужде можно сделать (авто-матом) какое-то за’мечание, « s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »
| ||||||||||||||||