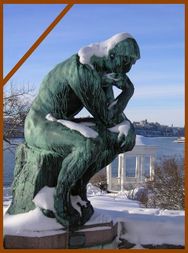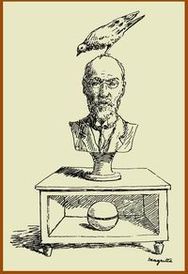A p p e n d i x - 1
Боже, боже, как меня вчера несло!..
Видимо ― затмение прошло...[1]
( М.Н.Савояровъ )
« Дни Затмения »
- ( в неподлежащих и прилагаемых сказуемых )
| ➤ |
...Август в Красново́дске. Тридцать семь в тени. Город кажется подслеповатым ― видимо, потому, что всё здесь прячется от солнца: веранды и верандочки, лоджии и окна закрыты фанерными, бумажными, любыми заплатками. Тень не спасает. Разъезжают машины с надписью «Питьевая вода», всюду жёлтые цистерны ― «Морс», и единственная лужа, которую мы видели, была то ли бензиновая, то ли нефтяная. И единственный за месяц дождь ― три капли на руке испарились, не упав на землю. Горячее море. Горячий ― внутри ― арбуз. Когда в гостинице включат воду, из всех кранов идёт горячая... <...> Общее ощущение нереальности, фантастичности... Киноплёнка хранится в термосах...
|
|
|
— Ольга Шервуд (репортаж со съёмок фильма «Дни затмения», 1988 г.) |
| ➤ |
Мне кажется, что наш фильм ― это наш режиссёр, и всё тут не случайно. Если хотите, это моя собственная версия-силлогизм. Мне так проще вписаться в пространство и время «по Сокурову»...
|
|
|
— Алексей Ананишнов (из премьерной аннотации фильма, 1988 г.) |
| ➤ |
А Сокуров мне скажет: грандиозную поправку в замысел вносят люди ― иногда и сверхзадача корректируется. И Алексея, и Эскендера никто не мог бы здесь заменить. Реальный человек является предметом искусства. Поэтому я снимаю в основном непрофессионалов ― в большинстве актёров слишком много тренированности и не хватает жизни. Фантастика нашей картины не в том, что подобных ситуаций нет ― их сколько угодно, абсурдных, странных, а в том, что людей таких почти нет. Очень хочется, чтобы они были...
|
|
|
— Эскендер Умаров (из премьерной аннотации фильма, 1988 г.) |
| ➤ |
...Никогда прежде я не работал с композиторами так много, и я был поражён его <(Юрия Ханона)> пониманием поставленной задачи и исключительным, удивительно чётким и точным результатом работы — прямым попаданием в цель. Всё — и оркестровка, и аранжировка, и выбор инструментов — всё было сделано с потрясающей точностью и в соответствии с замыслом. Думаю, что «звук» в фильме, не меньше чем зрительные образы, призван не столько эмоционально будоражить и встряхивать зрителя, сколько занять своё независимое семантическое значение. Духовность фильма обретает себя — в звуке...[31]
|
|
|
...Yuri Khanin, a young composer, this year a graduate of the Leningrad Conservatory managed to do everything about the orchestration, arrangement and choice of instruments in a very precise way. It was done with an ideal exactitude. Never before had I worked with composers so much, and I was really struck by his understanding. <...> I think that sound, no less than the image, should produce not only emotional impact, but is to have an altogether independent semantic meaning. The spirituality of the film as if finds its expression through the sound. And spirituality would not emerge by itself. If you might sometimes fail to keep alive the memory of a visual image in your mind and in your heart the soul would never forget sounds... ( From Alexander Sokurov’s press-conference on September 26, 1988. Journal «Ars», №12, 1988. Latvia )
|
|
|
— Александр Сокуров, 26 сентября 1988 г. (журнал «Арс») |
| ➤ |
Недавно я узнал, что усилиями энтузиастов готовится объёмная программа, цель которой сделать авторское кино Сокурова доступным для зрителей. И при этом столкнулся с нескрываемой реакцией протеста и возмущения некоторых своих коллег на студии. Меня это настораживает: откуда такой снобизм? Лично мне не кажется, будто в «восхождении» Сокурова есть элемент саморекламы. Но даже если это и так ― не вижу криминала. Напротив. А как иначе нам, художникам, защищаться?..[32]:2
|
|
|
— Алексей Ге́рман, «...я со счастьем смотрю, как Сокуров берёт кинематографические рвы и барьеры» (из рекламной газеты «Резонанс», 1988 г.) |
| ➤ |
Мне-то кажется, что Сокуров ведёт свой спор со Стругацкими. У них вечная мысль: с одной стороны ― о малости человека рядом с огромностью Природы, Космоса, рядом с вечным Нечто... А с другой ― гордость человеческого духа, который, несмотря на безусловную, понимаемую человеком обречённость, всё равно не склоняется перед этим Нечто, всё равно говорит: «Нет!» И в этом смысле мне позиция Стругацких гораздо ближе, чем позиция Сокурова...[32]:2
|
|
|
— Наталья Венжер, «Дни затмения»: после просмотра (из рекламной газеты «Резонанс», 1988 г.) |
| ➤ |
Меня мучает мысль о душевнобольных в этом фильме. Хочу разобраться. Сумасшедший дом существует внутри жизни нормальных реальных людей, которые более страдают, более мучаются, чем больные. <...> Может быть, смешение нормы и болезни ― это и есть характеристика того времени, той действительности, в которой мы живём? Смешение наций, смешение культур, смешение душевнобольных с нормальными, но доведёнными до отчаяния людьми...[32]:3
|
|
|
— Владимир Маканин, «Дни затмения»: после просмотра (из рекламной газеты «Резонанс», 1988 г.) |
| ➤ |
Концептуально важен у Сокурова звуковой ряд. В картине сложно сосуществуют восточные и западные мелодии. Потому что для Сокурова оппозиция «свой» ― «чужой» (враждебный) принципиально неприемлема, остро-современна. В картине он её снимает как ложную, как насилие над культурой. Правомерна иная оппозиция: «свой» ― «другой» или «свой» ― «иной». У Сокурова это очевидно.[32]:3
|
|
|
— Андрей Шемякин, «Дни затмения»: после просмотра (из рекламной газеты «Резонанс», 1988 г.) |
| ➤ |
Звук у Сокурова ― это половина фильма. Потрясающе! Вспомните эпизод смерти Снегового ― этот постоянно ноющий звук, который вобрал и жару, и этот почти наркотический голос ― постоянно, непрерывно поверх всего, над этой смертью... Это поразительно. А потом всё неожиданно переворачивается ― оказывается, какой-то смотр, конкурс. Оказывается, это люди собрались для организованного развлечения ― и это фантастически! Для меня звук в этой картине ― это течение, стихия...[32]:3
|
|
|
— Юрий Норштейн, «Дни затмения»: после просмотра (из рекламной газеты «Резонанс», 1988 г.) |
| ➤ |
Сокуров начинает сначала, из дней затмения, ищет опоры для первого шага, понуждая своего зрителя перевести опыт искусства в свой личный обыденный опыт, узнать о себе с позиции мифа и культуры. С каждым человеком фильм будет вести свой диалог, вызывать на раздумье. И это, принятое в себя, почувствованное и осознанное, дополнит саму реальность, сделает её более цельной, плодотворной. Фильм Сокурова говорит от имени искусства, его традиций, его предназначения. В многоголосии современности это необходимый голос, ― голос художника, голос человеческий...[32]:4
|
|
|
— Ирина Шилова, «Свидетельство из дней затмения» (из рекламной газеты «Резонанс», 1988 г.) |
| ➤ |
У Стругацких режиссёр нашёл нечто для него важное, то, что можно определить как завязь замысла. Нашёл сводящую с ума жару, вот это томящее ощущение, что человек находится как бы под увеличительным стеклом, в той огненной точке, где, как под лупой, сконцентрированы некий неведомые и повелительные начала.
Сокуров, вслед за Андреем Тарковским с его «Солярисом» и «Сталкером», обратившись к фантастике, искал здесь «подъёмную силу», позволяющую одолеть притяжение обыденного, искал своего выхода в Космос...[32]:5
|
|
|
— Вера Шитова, «Возвращение к тайне» (из рекламной газеты «Резонанс», 1988 г.) |
| ➤ |
Мы видим, как в Малянове ― этом красивом, очень красивом юноше ― зарождается огонёк духовности, видим, как органично вызревает в нём чувство долга, как превращается он в русского интеллигента в лучшем смысле этого слова. Повторяю, мы присутствуем при самом начале этого процесса. Процесс ― за пределами фильма. <...>
Сокуров и Арабов поставили лабораторный опыт, за чистоту которого можно ручаться. Ведь не среда формирует Малянова: герой фильма находится в полном культурном и духовном вакууме. Он помещён в условия, где отсутствует цивилизация... <...>
Авторы не меньше своего героя поражены тем размахом, разгулом азиатчины, в который он попал. Дикие нравы. Языковой барьер. Раскалённые камни. Стены, не спасающие ни от жары, ни от загадочных ядовитых тварей, ни от любопытных взоров. Странное безвоздушное пространство, в котором оказывается каждый попавший в эти жуткие условия европейский человек. Висящая в воздухе, никем не изречённая, неизвестно откуда исходящая угроза.
Из интервью Сокурова мы узнаём, что это автобиографическое: он провёл детство в том самом городе, где снимался фильм. Из интервью Арабова догадываемся, что это ещё и метафора: Малянов символизирует собой целое поколение, попавшее в отвергающую его среду, поколение самодостаточное, саморазвивающееся и бесконечно страдающее. Как бы то ни было, мы сочувствуем не только Малянову, но и этим тёмным, забитым (традициями и условиями жизни) людям. Это, пожалуй, один из самых гуманистических фильмов последнего времени.
Возможно, кто-то не согласится с такой оценкой и не увидит в «Днях затмения» ничего, кроме желания поиздеваться над бедностью наших окраин. Но, надеюсь, даже он, этот недоброжелатель, согласится с тем, что окраины наши действительно бедны, убоги и нуждаются в живительном притоке цивилизации. В этом смысле фильм А.Сокурова и Ю.Арабова ― фильм удивительно реалистический (не случайно же они изъяли из литературной первоосновы ― повести Стругацких ― все фантастические элементы).
Арабов, Сокуров ― и реализм? Представьте себе, да. Даже самое авангардное искусство, кино в том числе, всегда стоит на твёрдой почве реальности...[32]:5
|
|
|
— Андрей Мальгин, «Гуманистический реализм» (из рекламной газеты «Резонанс», 1988 г.) |
| ➤ |
...Неведомое ранее мне волнение испытываю, когда представляю себе блестящее будущее совсем ещё молодого, но уникально талантливого композитора Юрия Ханина, ленинградца. Сквозная мелодия пластинки, как одинокий голос, живущий в человеке, напоминает о величайшей грусти размышлений о конечности жизни и о величии одухотворённой талантливости — это фрагменты сочинений Ханина к фильму «Дни затмения».[комм. 30] Скорбное бесчувствие нашей жизни должно отступить перед величием гармонии искусства...[34]
|
|
|
— Александр Сокуров, из аннотации к пластинке «Одинокий голос человека» («Мелодия», 1988 г.) |
| ➤ |
...Любители фантастики Стругацких, как и в случае со «Сталкером» Тарковского, должны будут примириться, что увидят не экранизацию повести, а совершенно самостоятельное кинопроизведение, обладающее самостоятельной ценностью. Надо сказать, что основная идея литературного источника, идея о том, как трудно творческому человеку в мире административного невыносимого давления... — вот эта идея взята целиком и перенесена в совершенно новые условия и звучит вполне убедительно и производит даже ещё более страшное впечатление, чем испытывает читатель повести, которого отвлекают от чтения какие-то привходящие обстоятельства, проблемы, поставленные автором, загадки. В фильме Сокурова нет никаких загадок. В нём нарисован странный и страшноватый мир, в котором человек должен жить, работать, творить несмотря ни на что, а это очень непросто...
|
|
|
— Борис Стругацкий, (из радиоинтервью, 1989 г.) |
| ➤ |
Притча «Дни затмения» А. Сокурова (сценарий Ю.Арабова по повести братьев Стругацких «За миллиард лет до конца света», «Ленфильм»). Герой— молодой учёный, медик и немножко медиум. С виду Малянов (А.Ананишнов) — тренированный парень в джинсах, очень современный. Он безусловная реальность в мире фильма, где всё колеблется на грани условности, фантастики, ирреальности. Чувствуешь себя как в пространстве Бермудского треугольника. Вот-вот окажешься в другом измерении. Экран пробует запечатлеть ещё и тот слой бытия, который называют подсознанием. Так что не удивляйтесь, когда поймёте, что симпатичный мальчуган рядом с Маляновым — самый настоящий ангел. С крылышками.[36]
|
|
|
— Елена Стишова, («Советский экран», 1989 г.) |
| ➤ |
Смыслы проступают, мерцают один сквозь другой в зыбкой многослойности фильма. Перед финалом неведомые «они» как бы выходят из-за кулис и материализуются на экране со странной конкретностью: ржавые шестерни и передачи зари индустриализации, укладка камней, тяжёлый ручной труд, малопроизводительные механизмы — едва ли «натура», более метафизика. И музыка Юрия Ханина — не совсем музыка, скорее ритм барабана, какое-то бесконечно длящееся звучание, вскрики и перебои меди, сила и бессилие, дисгармония; явление, как бы пойманное и явленное в звуке, простая механика тоталитарной машины в силовом поле мировой дисгармонии. Символ? Метафора? Грубый шов на осциллирующей ткани картины?..[37]
|
|
|
— Майя Туровская, «Дни затмения, или мерцающая аритмия» (1989 г.) |
| ➤ |
...Атмосфера в зале накалялась не меньше, чем во время рок-представлений, а больше всех неистовствовали те, кто на концертах рок-групп, похоже, никогда не были, а если и были, то вели себя там куда скромнее. Впрочем, волны нарастающего скандала могли бы, наверное, стихнуть, разбившись о монолит торжествующе-спокойного оркестра. Однако здесь же рядом, за невесть как возникшим на сцене канцелярским столом, разместился некто, молниеносно сводящий на нет всякую торжественность, не говоря уже о спокойствии — и «невечерним» своим видом (партикулярное платье, чёрный, видавший виды портфель и тёмные же очки), и главное — хорошо продуманной программой действий. Водрузив на подмостки стол, он отнюдь не собирался мирно за ним восседать, скорее — присесть на минуту-другую, а остальное время — курсировал меж исполнителями, подвывая, голося, вступая в бесконечные перебранки с публикой: «Мужики! Стреляю на голос!», и в ответ получая самое разнообразное: от «Браво!», «Бис!» и «Да здравствует Ленинградская консерватория!» — до «Пошёл вон!» и «Давай металл!».
Почему-то всё это называлось «Ханинскими чтениями», а за тёмными очками скрывался, как не трудно догадаться, сам Ю.Ханин.Ф.,[комм. 31] <...> получивший в Западном Берлине первого европейского «Оскара» — «за лучшую музыку к фильму».
Если и в самом деле у стен есть уши, то на всё услышанное они отреагировали престранным образом: рассказывают, что ещё долго в ДК Завода им. Ильича творилось нечто невообразимое — самопроизвольно врубались прожекторы, начинала вращаться сцена, а однажды без всяких видимых причин, но со всеми вытекающими последствиями сработала пожарная сигнализация...[38]:16
|
|
|
— Лариса Юсипова, «Мужики, стреляю на голос» («Спутник кинозрителя», 1989 г.) |
| ➤ |
...Что касается прозы, то, будь её автор кем-то другим, о ней бы разом радостно заговорили.[комм. 32] Но автор её — всё тот же Ю.Ханин.Ф., по натуре и принципу анти-тусовщик, пока что упорно избегающий публичности. Наверное, не случись работа на фильме Сокурова, европейское признание и последовавшие за ним концерты, приуроченные к премьере «Дней затмения», то и как композитор он оставался бы известен только в очень узком кругу. <Вот что он сам говорит по этому поводу:>
— Сначала реакция была примерно такая: «Я?! В кино?!» Но потом посмотрел «Скорбное бесчувствие» и решил, что с автором этого фильма можно <попытаться> плодотворно работать... У меня свои представления о кинематографе, своя программа, где важен мотив непрерывного музыкального действия, причём не «музыка к фильму», но фильм на музыку. С этим я и пришёл к Сокурову.
«Оскар» «Оскаром», но всё же «фильм на музыку» — не амбиции ли (тем более, так и напрашивается «юношеские»)? Похоже, что нет. Скорее, чёткое представление о том, что именно и ради чего он делает, без которого вряд ли были бы возможны восемь часов музыки плюс балет, опера, фильмы, проза, живопись, философские трактаты...
К тому же идея «непрерывного музыкального действия» воплотилась вполне: в прологе к «Дням затмения», той сáмой «лучшей музыке», из-за которой Ю.Ханин Ф. и стал лауреатом. Собственно, это не есть музыка к фильму в привычном смысле, это одна мелодия, возникающая в самом начале будто из выжженной солнцем земли, вобравшая в себя всю эту землю, то, что за ней, и то, что над ней, и ту бесконечную свободу, к которой устремились авторы фильма... Совпадение композитора и режиссёра, происшедшее на «Днях затмения», беспрецедентно и вряд ли случайно. При всей эпичности это, может быть, самая личностная, самая доверительная картина Сокурова, тот самый автопортрет, за который художник берётся в середине жизненного пути. И Ханин, по собственному его признанию, писал музыку не к сценарию, которого тогда не читал, не к фильму, о котором имел смутное представление; он пытался зафиксировать ощущение «творческой физиономии» Сокурова, впечатление от первого разговора с ним. Не отсюда ли то удивительное «попадание», столь поразившее и зрителей, и авторитетное берлинское жюри, и самого режиссёра?..[38]:16-17
|
|
|
— Лариса Юсипова, «Мужики, стреляю на голос» («Спутник кинозрителя», 1989 г.) |
| ➤ |
«Одним из трёх композиторов» Юрия Ханина назвал Союз кинематографистов. После музыки к фильмам Александра Сокурова «Дни затмения» и «Спаси и сохрани» было признано, что Ханон — «один из трёх композиторов, вошедших в номинацию за 1988 год». Я тоже не знаю, что такое номинация, но ещё двумя вошедшими были Шнитке и Гребенщиков. Запад, как водится, оценил Ханина выше, присудив в том же году и за ту же музыку «Евро-Оскара», и не сомневаюсь, что «Полидор», «ЭМИ» или «Филипс» запишут Ханина раньше, чем наша «Мелодия»...[39]:26
|
|
|
— Дмитрий Губин, «Игра в дни затмения» (вступление к интервью, 1990 г.) |
| ➤ |
— Будешь ли ты писать музыку для нового фильма Сокурова?
— Конечно, нет.[комм. 33] Стыдно сказать, но «Дни затмения» стали для меня разочарованием совершенно жесточайшим, потому что Сокуров с музыкой элементарно не справился и она как таковая в фильме — отсутствует. Видимо, наткнувшись на подавляющий... яркий музыкальный результат, которого он никак не ждал (в этом, кстати говоря, Сокуров сам не раз признавался), режиссёр попросту решил «изолировать» композитора внутри фильма..., так сказать, выделить для него отдельное «гетто». Если присмотреться, это видно невооружённым ухом. Пока идёт сюжет, посреди дней затмения ходят какие-то герои, музыка молчит. Но зато когда действие прерывается... Там есть три музыкальных клипа, которые реально заняли то духовное место, которого в фильме попросту нет. Может быть, потому они и произвели такое ударное впечатление на разные жюри. Клип — это не музыка для фильма, а наоборот, фильм для музыки. Чувствуешь разницу, что здесь главное? Но зато куда хуже дело было со следующей работой. Видимо, наученный на горьком примере, режиссёр решил не повторять таких ошибок. Из двух часов музыки, написанной для «Мадам Бовари», которая теперь называется «Спаси и сохрани», Сокуров оставил не более десяти минут (очень тихо, едва слышным звуком) — очевидно, для того, чтобы она такого впечатления уже не производила. При том, что поначалу я вообще отказывался работать над вторым фильмом и Сокуров в самом деле упросил меня. Он сказал, что для него это мечта всей жизни: «сделать фильм непрерывного музыкального развития». И заказал больше двух часов музыки. Это кошмарное количество: больше чем в любом музыкальном фильме. Настоящий «гроб с музыкой». И вот что осталось: кот наплакал. Однако некоторая часть музыки всё же была реализована Безрукову в его фильм «Эутаназия»,[комм. 34] что в переводе значит «лёгкая смерть», подразумевается — самоубийство. Интересно было бы знать: кто из нас в этой истории самоубийца?..[39]:27
|
|
|
— Юрий Ханон, «Игра в дни затмения» (интервью, 1990 г.) |
| ➤ |
— А сколько, если не секрет, ты действительно получил за музыку к «Дням затмения» и «Спаси и сохрани»?[комм. 35]
— О..., это слишком печальная повесть, не хуже Ромео и Джульетты. Призна́юсь тебе, я сам потратил массу времени, чтобы ответить на этот вопрос..., хотя бы самому себе. И всё равно — не удалось: настолько высокая и непознаваемая для меня материя — финансы. Понимаешь ли, какая забавная штука: Александр Николаевич Сокуров умудрился меня дважды на... (прости, это нехорошее слово). В общем, суди сам: факты, факты и ничего кроме фактов... — Для «Дней затмения» товарищ режиссёр мне заранее (ещё до начала съёмок) заказал сорок минут музыки. Это невероятно много..., особенно если учесть, что речь идёт о студенте четвёртого курса. Эти 40 минут музыки я написал (хотя поначалу никакого договора даже в глаза не видывал, работал просто так, на честном слове и на одном крыле). Затем контракт мне всё-таки выдали, сжалились,[комм. 36] но там почему-то было написано: «12 минут по 60 рублей». Понимаешь ли, какая штука, мне вообще трудно на такие «купюрные» темы разговаривать. Всю жизнь я плюю на деньги, у меня их попросту нет, но здесь я совершенно ничего не понял. То ли это шутка, то ли подстава какая-то..., — при всех ситуациях в жизни я постоянно предпочитаю вести себя прямо, и сам тоже прям как палка: очень не люблю, когда меня обманывают или оставляют в недоумении. Тем более, что у нас с Сокуровым ещё до начала работы заранее была договорённость предельно чёткая: все вопросы по взаимному сотрудничеству решать напрямую между собой, прямым текстом. И тут вдруг такой милый фокус..., трюк (как говорил Сати в таких случаях). — Ну в общем, пожал я плечами. Некрасиво. Затем состоялась запись музыки, когда режиссёр услышал мою работу и был в самом деле потрясён (это его собственные слова). Он совершенно не ожидал услышать ничего подобного. И вот (дальше следи за моими руками), после записи, когда «внезапно» выяснилось, что я сочинил для кинокартины какую-то «гениальную музыку непреходящего исторического значения», у меня отняли предыдущий контракт и дали следующий, где было указано уже двадцать минут музыки по шестьдесят рублей за килограмм. В конце концов, как ты понимаешь, мне оплатили чуть меньше половины сделанного. При том что, пойми, для меня это всё вообще была филькина грамота! Они вполне могли бы указать в договоре: «45 минут по два с полтиной за штуку в зубы...» — и всё!.., я был бы совершенно доволен. Потому что без обмана. А так..., какая-то чушь получилась. Некрасиво и некрасиво... Дальше — ещё забавнее. По договору к «Спаси и сохрани» (она тогда называлась просто «Мадам Бовари») мне было заказано кошмарное количество музыки: 112 минут — и уже по семьдесят рублей за кило, — причём, на сей раз и в контракте тоже были записаны в аккуратности два эти числа. Как в аптеке: чин чином, 112 на 70, умножаем в уме, (хотя я не знаю, может быть, на самом деле нужно было делить?..) получаем 7 тысяч с какими-то длинными хвостами. Но вот ведь какая незадача: и здесь мне опять заплатили вдвое меньше, причём, без малейших объяснений. Даже не снизошли «до гения», в своём велiчии. На деньги-то мне наплевать, понимаешь, они мне руки жгут..., почти всю сумму я сразу же отдал своему «другу детства», когда он создавал ассоциацию кооперативов (чтобы меня не обвинили в рекламе, назову её для пущей безопасности «Керн»).[комм. 37] Там они благополучно и канули: то ли в бездну, то ли в Лету. А сам вот уже пару лет перебиваюсь тем, что кое-как зарабатываю на жизнь перезаписью кассет с программным обеспечением для игрового компьютера «Атари»... Очень наглядно получается, не правда ли?..[39]
|
|
|
— Юрий Ханон, «Игра в дни затмения» (интервью, 1990 г.) |
| ➤ |
...по какой-то нелепой случайности (причём, хорошо известно, какóй) мне на своём веку пришлось повидать немало кинорежиссёров..., прежде чем я плотно закрыл двери и окна. Признáюсь, мало кого из них я принимал всерьёз. Очень мало. И запоминал..., тоже... очень мало. Теперь-вот приходится вспоминать. С усилием. Ради этого списка. — Пожалуй, таков и Виталий Манский. Он всегда очень высоко’духовно разговаривал (или, по крайней мере, старался). Всегда. И при мне — тоже. Я ему пытался не мешать (как говорится, в своё время мне вполне хватило и сокуровской «духовности»). Пожалуй, теперь припоминаю только одно, из его слов, сказанное в 1990 году, кажется, осенью это было. «Когда смотришь этот великий пролог, первые кадры «Дней Затмения», там невозможно разделить музыку, изображение, всё сливается в единый поток громадной силы воздействия. Это идеальное кино, я мечтал бы когда-нибудь сделать с Вами нечто хотя бы отдалённо подобное»... — Очень он красиво говорил: прямо, рот откроешь, да и заслушаешься. Но увы, я был очень плохой слушатель: у меня на всё был один ответ: «я в кино не работаю». — И вдруг, «двадцать лет спустя» я (почти случайно) узнаю́, что оказывается — он сделал. Сделал «нечто подобное» (велiкому прологу). Оказывается, в его фильме «Тело Ленина» — есть какая-то моя музыка. Не знаю какая. И даже не знаю: насколько «велiкая». Фильма не видел. Ленина тоже не видел. И даже его тела... — С тех пор я никого из них больше не видел. — Ай да Манский!.. Сердечное тебе спасибо, духовный братец....[41]
|
|
|
— Юр.Ханон, «Персонариум» (Виталий Манский, 1990-2013 г.) |
| ➤ |
Невозмутимый, бесстрастный отшельник — какого чёрта он делает в среднеазиатской пустыне? Писать о нём как о герое — всё равно что описывать день за днём бурные события из жизни буддистского монаха, сто лет проживавшего в глухой пещере. Плещущиеся вокруг него события — дезертир пробежал, мертвец заговорил, ангел пролетел — скорее, видения, явленные ему одному, как те, что осаждали Симеона-столпника. Но в этом теле супермена с замеревшими чувствами накопилось столько психической энергии, что её хватило на уничтожение целого города, истаявшего в финальных загадочных кадрах.
Герой отменил реальность за её полнейшей ненадобностью. И если у крупнейших режиссёров поведение героя действительно есть лишь метафора их киноманеры, то можно предположить, что в один прекрасный день Сокуров отменит и сам кинематограф...[37]
|
|
|
— Михаил Трофименков, «Сеанс» (№8 за 1993 г.) |
| ➤ |
В фильме вовсе пропали или оказались смягчены многочисленные научно-фантастические символы. Загадочные события не рассматриваются с позиций фантастики. От присутствия иных миров здесь только и остаётся, что луч гигантского прожектора, высвечивающий ночью спящий поселок, или зловещая тень, на секунду загораживающая солнце и подтверждающая: нечто огромное взирает на нас сверху (затмение из названия превращается в проходной образ). Единственный явный внеземной элемент в картине не имеет отношения к книге: долгий полёт камеры в начале фильма, словно чей-то взгляд из приземляющейся на выжженную землю летающей тарелки. Его можно сравнить с воздушным путешествием в прологе «Андрея Рублёва» Тарковского. Впрочем, значение этих сцен диаметрально противоположно: у Тарковского полёт символизирует побег от ужаса жизни на Земле и жестокости человеческой природы, в «Днях затмения» — стремление приблизиться к страданию человечества, слиться с ним, топтать ту же жёлтую пыль, мучиться под одним палящим солнцем, дышать тем же удушливым воздухом...[37]
|
|
|
— Фредерик Джеймсон, «Советский магический реализм» (1996 г.) |
| ➤ |
Был написан сценарий, Саша уже собирался его снимать. Конечно, я чуть-чуть ревновал, а потом он стал думать-думать и вдруг ко мне обратился: «Юра, я что-то не могу снимать». Я говорю: «Что такое?» — «Да, понимаешь, совершенно неинтересны учёные вообще». Я говорю: «Ну как, ведь у тебя тут основа фабулы — учёные». Он говорит: «В том-то и беда, я не могу это снимать. Напиши что-нибудь на эту тему, но как-нибудь гуманизируй материал». Он жил тогда в маленькой комнатке на Петроградской стороне, в коммунальной квартире. Стали думать — главный герой, кем бы мог быть? Вдруг явилось — врач. Где родился? Где-то в Поволжье, давай, допустим, что в Горьком, и он по распределению заброшен в Среднюю Азию. И вдруг родился довольно какой-то странный сюжет, который имеет резонанс и перекличку с сюжетом Стругацких. У Стругацких была вот эта космическая сила, которая препятствует открытию. А у нас вот эта мусульманская среда явилась так же некой силой, которая исторгает из себя людей из другой культуры, в частности, русских. И вдруг оказался некий конфликт не в том плане, что мусульмане и Восток гонят русских, нет, а в том, что это две стихии отчасти несовместные в культурном смысле, в историческом. И вот родился такой странный сюжет о горстке европейцев в мусульманской стране, которые не понимают эту страну, не понимают этого народа, и народ, который их не понимает, которые как бы поодиночке пропадают из этого странного города, расположенного в песках...
«Дни затмения» и «Круг второй» — лучшее, что получилось из нашего с Сокуровым сотрудничества. Во всяком случае, я больше других люблю именно эти фильмы...[42]
|
|
|
— Юрий Арабов, «Механика киносудьбы» (из интервью, 2000 г.) |
| ➤ |
...Сам же Ю.Х., иронично оглядываясь на прошлое, незаметно для всех работает на будущее — вдали от косной академической среды и вульгарной тусовки. Его музыка к «Дням затмения» и спустя десять лет остаётся новаторской и, страшно сказать, гениальной. Ю.Х. говорил, что писал эту музыку не к сценарию и не к киноизображению, а к лицу Сокурова. Поэтому первый — он же основной — музыкальный фрагмент был назван композитором «Одна, отдельно взятая голова». Эпический пафос «Дней затмения» задан именно интонацией этого фрагмента. Камера парит в небе, сквозь детские голоса прорывается протяжный вопль (это не баба орёт, а сам Ю.Х.) и стихает вместе с ударом о землю. И начинается музыка...
Сокуров просил написать «что-нибудь для аккордеона». Это — действительно «что-нибудь». Пошлейший мотив из одного, разложенного на арпеджио, гармонического аккорда подвергнут деконструкции. Инструменты оркестра, дуя в одну дуду, тем не менее, фальшивят и кривляются на фоне тревожных вторжений ударных, имитируя сложность и многозначность, а в финале разрешаясь наконец «тёплой», внятной и примитивной мелодией. Однако это не карикатура — просто композиторская рефлексия по поводу некоторых музыкальных интервалов и пауз. Она вызывает ответную рефлексию зрителя по поводу отдельных кадров, панорам и монтажных стыков.
Сотрудничество с Сокуровым продолжилось на Спаси и сохрани, но из полутора часов студийной записи в фонограмму фильма вошли только девять минут. Лучшим музыкальным эпизодом из этой малости является сцена в опере, где спародирован «итальянский дуэт». Он исполняется на оперном «волапюке»: вырванную из стихотворения фразу «вчера расстались мы с тобой, я был растерзан» тенор надрывно повторяет, всё время повышая градус, а сопрано веско подтверждает о si!, после чего оба голоса сливаются в невообразимой мешанине из горьких слов (уже на итальянском) и сладостных звуков. Композитору удалось перевести слова «скрипки рыдают» на язык нот. Недаром в ложе кто-то из персонажей шепчет: «Ханин сегодня неподражаем». Сесиль Зервудаки в упоении запрокидывает голову и закатывает глаза. Провинциальный театр блещет мишурой. В сущности, эта сцена и есть воплощение пошлейшей мечты, погубившей Эмму Бовари...[44]
|
|
|
— Ирина Любарская, «Новейшая история отечественного кино» (киноэнциклопедия, 2001) |
| ➤ |
Фильм «Дни затмения», снятый по мотивам повести знаменитых советских писателей-фантастов братьев Аркадия и Бориса Стругацких, перенёс действие в Среднюю Азию, где молодой русский доктор лечит детей и пытается что-то писать. Молодой современник на жизненном перепутье у Сокурова впервые появляется именно в этой картине, открывающей своеобразную кинотрилогию. <...> Фильм вошёл в 100 лучших фильмов столетия, отобранных Европейской киноакадемией.[комм. 38]
|
|
|
— Александра Тучинская, (из аннотации к фильму) |
| ➤ |
«Ампир» от трилогии смерти отделяют два важнейших игровых фильма: «Дни затмения» и «Спаси и сохрани». И на обеих этих картинах режиссёр сотрудничал с композитором Юрием Ханиным.
Именно Ханину (с 1993 года Юрий Ханон) принадлежит самая запоминающаяся музыкальная тема «Дней затмения» — полётная вальсообразная композиция с солирующим аккордеоном. Целиком (чуть меньше 7 минут) она звучит в начале картины,[комм. 39] а ближе к концу фильма повторяется основной её мелодический сегмент.
В принципе, начальная тема — это «конспект» всего музыкального ряда «Дней затмения». В ней есть и фрагменты азиатских народных тем (в дальнейшем в фильме будет звучать довольно много традиционной восточной музыки — уже независимо от авторской партитуры Ханина),[комм. 40] и элементы конкретной музыки, и наслоения разнохарактерных звуковых образов (мрачные гулкие удары, детский смех, отдалённое женское пение). Но самый яркий момент композиции — когда из всего этого многообразия, хаотичной эклектики вырастает мелодия аккордеона. <...>
Вместе с тем Ханин оказался категорически не способен к работе именно в кино, к созданию музыкальных образов под руководством режиссёра и в соответствии с его концепцией. «Дни затмения» он просто не понял и обвинил Сокурова в том, что тот паразитирует на его музыке: [39]:26-27
«...„Дни затмения“ стали для меня разочарованием совершенно жесточайшим, потому что Сокуров с музыкой не справился и она как таковая в фильме отсутствует. Там есть три музыкальных клипа, которые реально заняли то духовное место, которого в фильме нет. Может, потому они и произвели впечатление на разные жюри...»
Неспособность понять режиссёрский замысел и неготовность способствовать его воплощению привели к тому, что за исключением участия в двух проектах Сокурова (в «Днях затмения» и, минимально, в «Спаси и сохрани») Ханин больше никогда не работал в полнометражном кино.[комм. 41]
С 1993 года композитор ведёт отшельнический образ жизни, не публикует новых музыкальных произведений и никак не способствует исполнению своих старых сочинений...[45]:27-29
|
|
|
— Сергей Уваров, «Музыкальный мир Александра Сокурова», 2010 |
| ➤ |
Апокалиптическое мироощущение, предчувствие надвигающейся катастрофы, которая сметёт всё внешнее, наносное, сотрёт саму цивилизацию, давно погрязшую во лжи и потерявшую смысл существования, гениально выражено в финальном кадре «Дней затмения»: главный герой, безнадёжно одинокий и лишившийся единственного друга, стоит в пустыне и смотрит в долину, где расположен город. Но вот один миг — и города уже нет, а долина пуста, как будто никаких людей там никогда и не было.
«Дни затмения» создавались в разгар «перестройки», когда «воздух перемен» ощутили даже люди далёкие от политики. И фильм Сокурова вполне можно трактовать как предчувствие окончания советской эпохи. Один из главных символов картины — гигантское каменное изваяние: звезда, серп и молот, возвышающееся посреди гор. <...>
Можно сказать, что музыка Юрия Ханона выполняет роль призмы или очков, через которые мы смотрим на видеоряд Сокурова. Роль оригинальной музыки в «Днях затмения» можно сравнить с ролью цветового фильтра, через который снят весь фильм (его использованием достигается желтовато-серый оттенок картинки).[45]:30-31
|
|
|
— Сергей Уваров, «Музыкальный мир Александра Сокурова», 2010 |
| ➤ |
Именно поэтому музыка в сокуровском кино — это не чьи-то сочинения (даже если что-то даётся целиком), а собственные режиссёрские пересочинения. Видеоряд трактуется им как ещё один партитурный голос. Вслед за замикшированной до полу-узнаваемости музыкой он зафильтровывает и изображение до «сонорных» пятен, при этом монтируя видеоряд подобно строительству музыкального синтаксиса — своего режиссёрского, который он навязывает музыке или заставляет её течение контрапунктировать картинке. Примеров тому тьма, но хит на все времена — знаменитый эпизод из «Дней затмения» с музыкой Юрия Ханина. Кстати, из сказанного становится понятной размолвка последнего с Сокуровым и последующая успешная работа режиссёра с Андреем Сигле. У музыки не может быть двух композиторов, а Сокуров сам изобретал композиторские идеи, оставляя за номинальным автором музыки лишь задачу обёртывания этих идей в звуки.[46]
|
|
|
— Владимир Раннев, «Композитор Александр Сокуров», 2011 |
| ➤ |
Один из самых удивительных художников, когда-либо сотрудничавших с Александром Сокуровым — Юрий Ханин. Эксцентрик, провокатор и доктринёр, он в одночасье стал звездой (как раз благодаря киномузыке для Сокурова) и так же быстро исчез с музыкального Олимпа страны, предпочтя медийной известности отшельничество в оранжерее экзотических растений.
Ха́нин (позже — Хано́н) — это псевдоним. Оригинальная фамилия композитора — Соловьёв-Савояров. Он родился в Ленинграде в 1965 году, в 23 года окончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции. Уже тогда его заметил Александр Сокуров — и пригласил написать музыку к «Дням затмения».[комм. 42] В 1988 году Юрий Ханин получил специальный приз жюри Европейской Киноакадемии за лучшую музыку (к «Дням затмения»). Это событие стало сенсацией: на только что созданной международной кинопремии (её стали неофициально называть «европейский Оскар») отмечают прежде неизвестного советского композитора!
Основная тема фильма впервые звучит в прологе, накладываясь на документальные кадры, снятые в Туркмении. Выразительная мелодическая линия в исполнении аккордеона рождается из шума, каких-то отдалённых ударов и отчаянно-протяжных звуков струнных инструментов, завершающихся воплем самого Ханина. Мелодия развивается нарочито наивно, даже немного банально, но с постоянными задержками, топтаниями на месте, сбивками — иногда ностальгические интонации аккордеона как будто улетают в пугающую пустоту-хаос и тонут там. Беря за основу вальсовое движение,[комм. 43] Ханин оттягивает появление каждой новой фразы мелодии, вставляя после окончившейся фразы несколько «лишних» тактов, в которых мы слышим только аккомпанемент. Щемящая тоска, потерянность и робкая надежда, предчувствие катастрофы, ощущение скованности, увязания в этом звуковом болоте, но одновременно и осознание космической безбрежности — в одном музыкальном образе Ханин смог сконцентрировать весь богатый многогранный эмоциональный мир «Дней затмения».
Важно, что композиции Ханина никогда не становятся «аудио-дубликатом» сцен фильма, в которых они используются, но рождают иной эмоциональный слой — впрочем, настолько органичный, что без него те же кадры полёта, например, представить уже невозможно. Функцию оригинальной музыки в «Днях затмения» можно сравнить с ролью цветового фильтра, через который снят весь фильм (его использованием достигается желтовато-серый оттенок картинки).
Наряду с музыкой Ханина в «Днях затмения» фигурируют также классические произведения и популярные песни. В их числе «Баркарола» из «Сказок Гофмана» Жака Оффенбаха, фортепианный романс Шумана Fis-dur Op. 28 №2, русская народная песня литературного происхождения «Выйду на улицу», западная версия песенки про трёх поросят (та же, что звучит в «Скорбном бесчувствии») и музыка народов Средней Азии. Классические фрагменты несут совсем иную смысловую нагрузку, нежели новосочинённая музыка Ханина. Умиротворенное звучание произведений Оффенбаха («Баркарола» из «Сказок Гофмана») и Шумана (второй романс из «Трёх романсов для фортепиано» Ор.28) создаёт эффект отстранения, помогает взглянуть на финал фильма с позиции философского обобщения.
Сотрудничество Сокурова и Ханина продолжилось на фильме «Спаси и сохрани» (по роману Г.Флобера «Мадам Бовари»), однако в процессе работы над картиной между режиссёром и композитором произошёл конфликт (имеющий как личные, так и эстетические причины), поэтому музыки Ханина в фильм было взято очень мало.[комм. 44]
Единственный полноценный номер авторства Ханина, оставшийся в финальном варианте «Спаси и сохрани», символизирует пошлую мечту о красивой жизни. Он звучит в сцене, действие которой разворачивается в оперном театре. Эмма делает вид, что смотрит спектакль, но на самом деле беседует со своим любовником, пока её муж дремлет. В этом крошечном эпизоде Сокуров показал лицемерие и пустоту героев, что во многом удалось благодаря музыке. Во время диалога Эммы и её любовника мы слышим фрагмент показываемой на сцене оперы — дуэт, пародирующий итальянскую и французскую оперу XIX века. «Вчера расстались мы с тобой, я был растерзан» — повторяет снова и снова тенор, а сопрано ему отвечает: «о, si!» В конце номера голоса «возлюбленных» соединяются, и уже вместе они поют на итальянском. Банальность и нарочитая страстность здесь использованы как стилевой приём. То же самое касается и языка. Смесь «французского с нижегородским» (точнее, безвкусного итальянского с безвкусным же русским текстом) в данном случае подчеркивает высокомерие и пошлость провинциального светского общества, в которое Эмма так мечтает влиться.
В диссертации прослеживается судьба музыкального материала, написанного Ханиным для «Спаси и сохрани», но невостребованного режиссёром, а также кинематографические работы композитора с учеником Сокурова режиссёром Игорем Безруковым.
После тяжёлого и неприятного завершения работы с Ханиным Сокуров несколько лет не прибегал к помощи композиторов, создавая фильмы...[47]
|
|
|
— Сергей Уваров, «Музыка в режиссуре Александра Сокурова», 2014 |
| ➤ |
Оставим в стороне споры о природе экранизации и признаем за кинематографистом право на вольное, предельно вольное («по очень, очень отдалённым мотивам») прочтение первоисточника. Те немногие (из далеко не астрономической — всего в 700 тысяч человек — аудитории), что приняли постановку благосклонно, восторгались, надо полагать, не смелой эстетикой кинопроизведения. Почти параллельно вышедшая в отечественный кинопрокат «Красная пустыня» (1964) позволяла непредвзято убедиться, насколько слабыми были поползновения Сокурова передать то же, что лежало тяжким бременем на душах персонажей Микеланджело Антониони, ощущение тотальной некоммуникабельности — только в реалиях Союза нерушимого республик свободных.
То, что в разгар «перестройки» воспринималось смелым решением, чуть ли не проявлением гражданского мужества художника (что-де и заставило прибегнуть к изощрённой стилистике), ныне видится частью мощной программы манипуляции, нацеленной на узкий сегмент интеллигенции. Приход незваного гостя — дезертира с автоматом Калашникова в руках — читается прозрачным намёком на войну у южных рубежей СССР, тем более что преследующие его солдаты внешне совершенно неотличимы от воинов, нёсших службу в Афганистане. Вечеровский шёпотом рассказывает о тяжкой доле депортированных крымских татар, ни полсловом не обмолвившись о причинах соответствующего решения властей. То жалуется на судьбу, мечтая о времени, когда национальности не будут иметь значения, то недоумённо вопрошает, что его товарищ, русский, делает в чуждой глухомани. Сам же Дмитрий проводит специфическое научное исследование — изучает детей баптистов и старообрядцев, придя к выводу, что в семьях, живущих, следуя нравственным идеалам, болеют гораздо реже. Так «тонко» ставится знак равенства между религиозностью и высокой моралью, недоступной атеистам, какими бы хорошими людьми те ни были. <...> Это не добросовестная фиксация онтологической растерянности, охватившей позднее советское общество — и парадоксальным образом соседствовавшей с активно насаждавшейся сверху верой в спасительность перемен (в разрушение социалистического уклада ради воцарения капитализма). Это — попытка (быть может, неосознанная, но разве оттого легче?) мысленно приблизить дни затмения, ждать себя не заставившие. Причём метаморфозы с послужившим натурой Красноводском, переименованным в Туркменбашы, оказались не самыми страшными...[48]
|
|
|
— Евгений Нефёдов, «Дни затмения» (2017 г.) |
| ➤ |
Я прекрасно помню то большое впечатление, которое на меня оказала ваша музыка к Дням Затмения. Собственно я тогда был большим поклонником Сокурова, — но фильм меня разочаровал, — а музыка, напротив, поразила, очень и очень. Полная странной красоты и одновременно иронии, — она сразу врезалась в память и не отпускала несколько недель, постоянно прокручиваясь в голове...[49]
|
|
|
— Алексей Ботвинов, из письма (2018 г.) |
|
A p p e n d i X - 2
Ком’ментарии
- ↑ Предварю статью небольшим вступлением, прочитав которое, собственно, можно уже и не возвращаться к самому тексту... И не читать дальше, поскольку..., поскольку всё... главное, центральное и даже среднее — уже будет сказано здесь. Между строк, между слов, как это у них принято. Но и одновременно, — во строках и в словах, причём, с предельной прямотой, как это у них не принято (и не приятно). Итак, я начинаю, слегка отодвинув в сторону лист бумаги...
И прежде всего..., если говорить по сути вопроса, находящееся здесь эссе не только наощупь, как сказано выше, и вообще-то «не про фильм», но даже и «не статья» вовсе, а — тáк, пустяк..., среднего размера помойка, в которую её автор..., вернее говоря, обои авторов попросту скидывают всякий мусор и хлам, накопившийся за последние тридцать лет по изрядно захламлённой & «затемнённой» теме человеческого затмения. И делает это, прежде всего, чтобы впредь более не было нужды (ни малой, ни большой) носить взад-вперёд оную ворвань и рвань при себе, и каждый раз словно бы заново отвечать на пустые «био...графические» и эмпирио...критические вопросы всяких праздно...шатающихся, интере...сующихся и прочих де-пытливых. Но и кроме того, постоянно приходится иметь в виду непреложный факт, что никакой мусор (читай: повседневная жизнь, суета, окружение), сколь бы пустым и бес...содержательным он ни был, имеет (где-то там, внутри, за двойным дном) немалое или даже исключительное значение..., по крайней мере, в той части, где касается большого художника.
Причём, не следовало бы заранее слишком упрощать. Далеко... не (только) в том дело, что для настоящего генеративного типа (и такого же лица) не существует принципиального разделения на «мусор и не-мусор». Решительно всё (всякое, любое) ценное или неценное (по произволу или свободному выбору) в результате резонанса может стать исключительно важным материалом для построения отдельных кирпичиков Высшей реальности искусства. Кажется, уже давно стало дурным тоном цитировать повторённое до дыр «...когда б вы знали, из какого сора, растут стихи, не ведая стыда...» (автор строк неизвестен, подвиг его бессмертен, само собой). Однако, начиная эту страницу (то было раннею весной (как сказано ниже), в декабре 1990 года), я имел про себя ещё одну немало... важную деталь, обычно выскользающую из пальцев..., а затем — и вовсе ускользающую от внимания многочисленной когорты профессиональных исследователей и смакователей мусора (биографов и историков культуры, к примеру), армия которых с каждым годом всё более пухнет и раздувается... И вот, значит, о чём я здесь толкую...
Как говорил (во времена слишком старые) ещё один праздно’цитируемый автор (имя которого я также не хотел бы лишний раз упоминать всуе, тем более — здесь, в этом священном месте), «...и видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк...» — Выразившись излишне образно и не без дешёвого эффекта, тем не менее, поэт имел в виду под своей изысканно-ольховой метафорой некий внутренний предмет, хотя и простой, но достаточно увесистый, который далеко «не у всякого человека» имеется. При посредстве этого предмета (несомненно, лишнего для подавляющего большинства представителей рода человеческого) некое условное лицо может получить практически ничем не ограниченную свободу в манипуляции собственным миром. Любое умозрительное или умозримое событие (даже самое пустое или мусорное) при посредстве незначительных манипуляций может совершенно поменяться в своём весе, смысле и местоположении, в какой-то момент сделавшись, скажем, центральным или определяющим (как минимум) для одной из участвующих сторон. Причём, вероятность подобного поворота событий многократно возрастает, когда в некоем сюжете (отношениях) участвуют люди искусства (или, тем более, люди Большого искусства), в немалом своём числе — высокие инвалиды духа, наделённые очевидными излишками тонкой натуры и такого же воображения.
Именно потому, как мне (наивно) кажется, в отношениях (и тем более, в продуктивных отношениях) между артистами (или художниками..., в широком смысле слова) особенно неуместны такие массовые и, к (моему большому) сожалению, считающиеся совершенно нормальными проявления человеческой натуры как неискренность, невнимательность, лживость, небрежение, подлость, вредность, грубость и прочие частные варианты необязательного зла, которым несть числа. (Разумеется, я не говорю о так называемых «артистических коллективах», вроде театров, оркестров и прочих «академий», скорее напоминающих муравейник с пауками и тараканами, чем сообщество людей искусства, — по сути, это безнадёжные кланы ремесленников и рассадники заразы, не более того). — Вступая в отношения уникального сотрудничества с А.Н.Сокуровым, я заранее видел его несомненную инвалидность и рассчитывал именно на неё, будучи уверенным, что на свете не существует иных гарантий для взаимного понимания и чистого поведения. Только внутренний императив и участие в собственных словах. Именно здесь меня и ожидало главное разочарование: и если в инвалидности я ничуть не просчитался, то всё остальное оказалось фикцией. Между тем, мой будущий соавтор был заранее предупреждён со всей «прекрасной прямотой», что свой приход к нему на «Дни затмения» я считаю исключительной мерой, единственным событием и даже «прóбой» (читай: тестом) на совместную работу. В случае успеха он получил бы нечто уникальное, не ожидаемое и невероятное (прецедент), а в случае неудачи — повторения не будет. Казалось бы, открыв подобный «кредит доверия», я был (бы) вправе надеяться на такой же ответ. Пускай, не симметричный, конечно, но хотя бы — особенный и «не’дежурный». Как минимум, внимание и корректность в совместных вопросах и личном общении. Желательно, открытость и прямоту (о которых был предварительный уговор). И уж во всяком случае, отсутствие обычного небрежения, невнимания и подлости. Однако получилось всё ровно наоборот. Начавшись вполне дежурным образом, далее отношения претерпели только постепенную деградацию, — причём, невзирая ни на какой «успех», «прецедент» и прочие неожиданности жанра. И тем более показательной оказалась эта «проба», что дело шло — о двух Больших художниках. И кроме того, о двух инвалидах.
Как мне казалось, в таких особых случаях стоило бы сделать хотя бы минимальные усилия над своей человеческой натурой, чтобы не повторить в тысячный раз банальную историю «конфликта больших артистов», внезапно обнаруживших себя в неприятной луже известной субстанции. Тем более, что путь заранее был намечен и соблюдение трёх простых правил давало минимальные гарантии чистоты опыта. — И тем не менее, всё произошло как всегда. По обычной тропинке от необязательности до небрежения и далее в приятные пенаты тотальной подлости и лжи.
Причём, особую неприглядность все эти поступки приобретают только потому, что были попущены действительно крупным и тонким художником в отношении своего визави, другого артиста, — заведомо превосходящего его не только по характеру своей деятельности или таланта (что есть категория эфемерная и оценочная), но и — прежде всего — по масштабу личности, что выглядело особенно наглядным в развитии ситуации. А также — по её постепенным последствиям в течение трёх десятков лет. Включая раз и навсегда не’сделанные фильмы, не’прозвучавшую музыку, сожжённые книги и утонувшие партитуры. Именно это, последнее обстоятельство и придаёт, безусловно, «пустяковой и мусорной» истории с днями затмения, характер ещё одного личного преступления, не имеющего срока давности; а также очередного (примера) человеческого неразумия, проще говоря, глупости, когда на месте уникальной творческой возможности (читай: в том месте, где у Анны Андревны должны были образоваться, как минимум, стихи) приходится любоваться только грудой банального хлама и дерьма. А растёртая на ладони и сдутая «ольховая серёжка» не только навсегда останется пустяком, но ещё долгие годы продолжает засорять глаза досадной пылью и скрипеть на зубах гнилым привкусом обыкновенного человеческого скотства.
И тогда всё что остаётся после всего, — только пожать плечами (превыше недоумения) и почти с удивлением оглянуться назад, внезапно припомнив вечное..., невесть откуда выпрыгнувшее из детства: «дурак! чижика съел». — Закрывая за собой двери...
Впрочем, ведь и последнее (далеко) не предел..., как могли бы заметить некоторые особо проницательные особы (& даже особи, чтобы не промахнуться). — Но это, прошу прощения, повод уже совсем для другого разговора.
- ↑ Прошу понимать сказанное в точности так, буквально по написанному: «Из чистой деликатности. Чтобы не расстроить. Не оскорбить. И самому — не расстроиться...» — Ни одна из причин не прибавлена, не пропущена и не упущена. — В самом деле, мне было искренне жаль человека, который столько времени своей жизни потерял на производство подобной ерунды, оказавшись лицом к лицу с апофеозом собственной неубедительности и посредственности. Равным образом, мне было жаль себя, измученного за полтора часа в полутёмном зале (на полу), не имея возможности выйти вон. Значительно менее жаль было месяца, «впустую потраченного» на сочинение музыки к этой провальной лабуде: прежде всего потому, что решение было принято мною заранее и вполне сознательно как «провальное и позорное», но и потому, что изнутри у меня оставалось какое-то удивительно стойкое и упрямое ощущение, что всё-таки нет, не зря я потратил свои дни, часы и минуты уникальных сил. И главное, для тех, кто не понимает: среди моих мотиваций (промолчать) вовсе не было ни малейшей конъюнктуры. Например: не сказать ничего плохого и сохранить на будущее отношения с режиссёром, чтобы он и впредь продолжал мне заказывать музыку к своим, несомненно, велiким и эпохальным картинам. Пожалуй, для всякого нормального человека (композитора) именно такой (здравый) ход мыслей был бы наиболее ожидаемым. Тем более, для студента консерватории, едва успевшего получить диплом. Работа в кино вообще была самой желанной кормушкой для советских музыкописак, едва ли не самый лёгкий способ обеспечить себе непыльное безбедное существование плюс известность. До сих пор помню дивный анекдот, случившийся после гос.экзамена по композиции. Мой драгоценный профессор (Цытович) категорически настоял, чтобы «в довесок» к обязательной программе прозвучал и фрагмент из моей музыки к «Дням затмения». Ворча и морщась, я всё же подчинился (в конце концов, я не имел права мешать своему «спасителю», когда он говорил: «мне так будет легче достигнуть желаемого результата»). — После окончания заседания кафедры Владимир Иванович вышел, как всегда, потирая руки и поздравил меня, что «всё кончилось»..., а затем, в качестве довеска ко всему, передал мне просьбу (именно так, просьбу!..) Александра Мнацаканяна, декана теоретико-композиторского факультета ленинградской Ордена Ленина государственной Консерватории , а «по совместительству» ещё и ком’озитора. Он сказал буквально следующее, чем-то напомнившее мне анекдотический монолог из кинофильма «Здрасьте, я Ваша тётя!»: «...я сам старый киношник и понимаю толк в киномузыке. То, что сочинил Юрий — это лихо сделано. Высший класс. Теперь его завалят заказами, я не сомневаюсь. Если у него будут какие-то фильмы, для которых он не захочет сочинять музыку, пускай он — не забудет — про меня...» — Даже самому не верится такое читать. Но увы..., честное слово, я ничего не выдумал: так всё и было... «Also sprach Decanus». Уже тогда, категорически не собираясь продолжать карьеру кино’композитора и считая её глубоко позорной, я воспринял слова несчастного Александра Дерениковича как отборную бытовую пошлятину. Подобный способ выстраивания жизни и отношений с людьми мне всегда казался клановым, трафаретным и, как следствие, по меньшей мере — рвотным. Само собой, за несколько месяцев, прошедших между выпуском из консерватории и сдачей фильма — ничего не изменилось. И моё решение больше не работать в кино (включая Сокурова, разумеется) стало окончательным и бесповоротным. Тем более, что к нему добавилось ещё несколько обстоятельств, слегка выходящих за границы «Дней затмения» и, как следствие, за границы этой страницы. А потому вынужден поскорее оборвать этот затянувшийся комментарий. — Dixi, мадам.
- ↑ И в самом деле: видок у него..., неприглядный (мягко выражаясь). Изрядно потёртый (вторые руки), словно бы пожёванный и, в конечном счёте, конечно же, позорный. Попросту говоря, он именно такой: по-зор-ный (по своему основному свойству, как у них принято). И точка. — Разумеется, как бы я ни старался (в тот раз), как бы ни лез вон из кожи, пытаясь прыгнуть выше (их) головы, но в любом раскладе эта служебная деятельность не подлежит никакому принципиальному улучшению. И как была «музыка к фильму» делом недостойным и сугубо бытовым, так и останется — на все ближайшие времена, покуда не отсохнет. Останется... — Разве только за одним исключением... (которого в данном случае не было). Но в таком случае она будет уже называться немного иначе. Не «музыка к фильму»... — Нет.
- ↑ Грешным делом, мне это напомнило ещё одну изрядно нелюбимую мною историю коммерческой войны двух балетных парижских конкурентов, увенчавшуюся очередным bon mot. — Речь идёт о премьере «Болеро» Равеля в антрепризе Иды Рубинштейн, которая в гордом одиночестве исполнила под музыку танец семи покрывал, в конце концов, раздевшись до полного равеля. Цинично и неприязненно наблюдавший за этим спектаклем дядя-Серёжа (Дягилев) (кроме всего, совсем не любитель до женских прелестей, скажем это очень мягко), покуривая сигару и заложив ногу на ногу, по окончании выпустил очередное кольцо дыма, и со специфической гримасой подытожил увиденное: «она была голая и бездарная»... — Что тут скажешь? Одно слово: засранец. Само собой, всё сказанное не имело к «Дням затмения» (и их автору) ни малейшего отношения.
- ↑ Затем он сделал шаг в сторону, словно бы потеряв интерес к диалогу, но я остановил его маленьким и точным вопросом по поводу последнего «романа» его отца, где изрядное место занимают строки из савояровских Трубачей. Впрочем, и здесь я не снискал особого успеха: заданный дважды, мой вопрос так и остался без разъяснения (возможно, Алексей Юрьевич даже и не понял: о чём я его спрашиваю). — Впрочем, я особо и не настаивал, отлично понимая: навряд ли ему известен... или интересен ответ. Тот ответ, который я в любой момент мог получить из первых рук: от автора романа. Его отца... И моего — тёзки... И получил его. В одном слове. Буквально в одном. (Тётка)... — Впрочем, этот предмет уже слишком далеко отстоял от «пней затмения».
- ↑ К слову сказать, в точности из таких же «политических соображений» не сделали ни малейших возражений к фильму и братья Стругацкие (и не сняли свои фамилии со сценария), несмотря на тот факт, что фильм им «очень кисло понравился», — а от их чахлого первоисточника (повесть «За миллиард лет до конца света») в конечной ленте, кажется, не осталось и тени, в точности как во время убийственной августовской жары в Красноводске: Туркмения, брат. Родина режиссёра... — И здесь кроется одна из пожизненных черт Сокурова, который всегда умел удержаться в умеренной зоне противостояния (внутри клана..., и никогда не снаружи него), лавируя между разными интересами и возбуждая к себе максимально возможное сочувствие (но главное: содействие) из «политических соображений». С первого дня своего знакомства с ним, это его умение вызывало у меня вялую брезгливость и желание не прикасаться (сохранять дистанцию). По форме такое поведение можно было бы определить как широкое & опосредованное «интриганство», а по существу — как пожизненное присутствие в главном русле Homo socialis, одновременно стараясь выдать себя за индивидуалиста, «протестанта» и даже изгоя: только там, впрочем, где это может принести дивиденды.
- ↑ И не только словесно (обозначил), но и добавил, а затем и припечатал... средствами искусства. В первую очередь, своими «возмутительными» (по выражению Сокурова) «Публичными песнями» на премьерных показах кинофильма в Москве (2-5 декабря 1988 года). И мало того, что они назывались «Музыка Собак» (в честь дней затмения), так ещё и среди упомянутых песен была одна, имевшая все черты гимнической мелодии времён Третьего Рейха (включая директивное пение на немецком языке), которая так и называлась: «Его Дни Затмения» (триумфальная арка). — Пожалуй, трудно было бы изобразить издевательство более выпукло..., на общем мертвенно-бледном фоне (вне)очередного сокуровского шедевра. — Как мне видится со своего места, в конце 1980-х годов товарищ-режиссёр переживал настоящий «творческий кризис»..., чтобы не сказать упадок (вместе со всей страной, вестимо) и мне попросту «повезло» попасть на две, пожалуй, самые провальные его ленты. Впрочем, точно судить об этом не берусь, потому что после смертельной скуки педерастически-вялых «Дней Затмения» и натужно-кладбищенской «Мадам Бовари» больше не видел ни одной его «картинки», корзинки и картонки. Короче говоря, «игра в зрелище» мне очевидно не удалась. — Что поделаешь, дважды входить в эту дивную речку я заранее не собирался.
- ↑ И в самом деле, стандартное требование предоставить «торговый образец» (échantillon, — как сказал бы Эрик), будь то музыка, живопись или проза, всякий раз приводит в оторопь и, в общем-то, походит на обыкновенное хамство, когда некий безымянный издатель, распорядитель, директор чего-либо или «даже» режиссёр желает заранее удостовериться в «качестве» покупаемого товара (чтобы не продешевить или не промахнуться). Причём, желание это высказывается в точности как на базаре в воскресный день, вне всякого понимания субординации & контекста: с кем он, вообще-то, имеет дело и «ктó он сам такой» (говоря между прочим). Помню свою крайнюю досаду, когда один человек весьма ничтожный (сидящий задним местом в кресле главного редактора) для начала разговора запросил у меня «демонстрационный» отрывок (причём, немалый) из будущей книги «Скрябин как лицо». Ценой моего потерянного времени и с трудом сдерживаемой брезгливости к этому человеческому материалу, он получил его, пустой торгаш. Качество текста его (якобы) полностью «удовлетворило» (он «разрешил» мне работать дальше и подписал договор). А книгу он затем так и не издал, типичный подлец и врущий врач своего малого дела... — Примерно та же история приключилась и с «товарищем» Сокуровым. Ничего толком не поняв из «демонстративной» записи (само собой, человеку без слуха и опыта достроить такое здание было попросту недоступно), он был заранее «разочарован» в результате. Однако во время оркестровой записи всё перевернулось вниз ногами: бедный человек «испытал потрясение» от «невиданной музыки», которую уже единожды слушал (но не слышал). — Спрашивается, и какого чорта ему был нужен этот нудный отрывок? — Ответ всегда известен и прост как щелчок двумя пальцами. Человек нормы всюду одинаков: пошляк, болван и торгаш по природе, дворняжка, не знающая субординации, доверия и уважения к чужому труду. И по сей день просьбы «показать, прислать, предоставить» приводят только к одному: не изданные книги, не исполненная музыка, уничтоженные партитуры, — как следствие, всеобщий и равный мир скота живёт и побеждает. Впрочем, ненадолго. Скоро они доедят друг друга и отправятся вслед за Макаром... — Наконец, оставим эту тему: из неё больше ничего не высосешь. Попросту говоря, с той поры и до сего дня я считаю все подобные разговоры пустым трафаретным (рассеянным) хамством. За которое (в данном случае) моя (не)земная благодарность.
- ↑ «О..., моя бедная Франция...» — как восклицал (не без ехидства) в таких случаях герр-Альфонс. Следом за режиссёром был обескуражен & разочарован и я. И правда: никаким фантазийным «богатством» от сокуровских (музыкальных) пожеланий даже и не пахло. Они были тривиальны, стандартны и совершено плоски. — Впрочем, и вся эта средне-туркменская (красноводская) низменность меня с самого начала касалась крайне слабо. С подростковых времён словно бы привыкший ко всеобщему недомыслию и непониманию (привыкнуть к которым решительно невозможно) , я приучал себя попросту не обращать на них внимания: «делай что решил и будь что будет». — Оставшись наедине с партитурной бумагой и карандашом, я попросту плевал на всю образцовую дряблость и тупость начальной фазы этого затмения..., оставив в качестве «полезной» нагрузки только один, отдельно взятый «французский аккордеон» (с о-де-колоном). — И в самом деле, разве это так уж трудно, мой дорогой Эрик?.. Несколько лишних кнопок, старая шарманка, сурок и традиционная парочка мсье Савояровых вдогонку. — Курьёзно сказать, но этот начальный трёхминутный номер для аккордеона, голоса и оркестра носил рабочее (техническое) название «Де-душа» (или «феликс для оркестр»а). С названиями я там вообще не слишком церемонился: понятное дело, музыка была служебная, стало быть, заголовки не носили ни малейшей нагрузки для этих пьес одноразового использования. Нечто вроде туалетной бумаги. И само собой, я не только не имел в виду «тогó Феликса», но даже и не подозревал о его существовании (существовании, которого ещё не было, с позволения сказать). И всё же, сов...падение (п)оказалось курьёзным..., как и всё на этом свете.
- ↑ Чтобы не возводить напраслину, сразу скажу: «допрос» был недовольным, ворчливым, но не слишком-то строгим. По существу, дряблая беседа, не более того. Видимо, никаких «указаний» сверху на мой счёт не приходило (или их попросту не запросили по вялости нрава), а время было уже вяловатое, горбачёвское, когда иной бюрократ вполне мог «не рвать когти», если ему о том не спустят особого распоряжения. — Как говорится, спасибо что не 1937 год (там бы мне легко показали, «где Феликсы зимуют»).
- ↑ Обстановочка для работы, впрочем, была не лучшая. Наступал пятый курс (выпускной). — Нарастала агрессивная тупость вокруг дрянного диплома (который, к слову сказать, я писал не только для себя и не только за себя). Болезнь. Рвота от низкопробного человеческого материала... — в общем, всё как всегда. Дальнейшие анонсы излишни. Да и авансы тоже.
- ↑ Поначалу я просто посмеивался, глядя на манеру «мэтра и гения» держать себя каким-то «высоким интеллектуалом» (духовным и рафинированным), тем временем, внешне скрывая свои комплексы за подражанием Тарковскому (младшему, конечно). Этого своего кумира он копировал, временами, совсем курьёзно... Но с другой стороны, мне в сущности не было до этого никакого дела: я не был членом его съёмочной группы и не собирался работать впредь с этим человеком. — Хотя и портить с ним отношения также не входило в мои планы.
- ↑ Честно говоря, увидев впервые перед глазами подобную бухгалтерию, я обнаружил себя совершенно оконфуженным... И мало того, что вообще «получать деньги за творчество» (да ещё и сделанное по большому счёту) мне было дико и постыдно, так ещё и наблюдать «их нравы» в столь чудовищном формализованном виде: «22 минуты музыки (по 60 рублей за минуту)». — Впервые в жизни открыв контракт в смешанных чувствах: стыд, любопытство, брезгливость... — после всего осталось только гадостное послевкусие. По всей видимости, их нормальный способ существовать для меня был чем-то вроде оскорбления. Хотелось вызвать обидчика на дуэль, дать пару пощёчин, а затем уйти навсегда и больше не вернуться, забыть как тошнотный сон. — Чтó стало тому более причиной: савояровское происхождение, наследственный аристократизм, интеллигентские комплексы, высокая инвалидность или жестокое нежелание жить по их правилам, опускаясь до мира дворников и дворняжек... Здесь и сейчас, на полутёмной странице затмения — я намеренно обсуждать не стану. И ненамеренно тоже.
- ↑ Тем более наглядный случай, что почти все деньги, полученные за работу на сокуровских картинах, я из чистой солидарности отдал своему другу детства (Станиславу Амшинскому), когда он решил начать своё дело. Он же, не долго думая, попросту положил их к себе в карман, а затем, при первом же случае, умножил всю сумму на «ноль», — наверное, так ему было удобнее жить дальше. Собственно, он и до сих пор продолжает в том же духе, скрываясь от меня уже третий десяток лет. Ничего не скажешь, снимаю свою несуществующую шляпу: настоящий мещанин, патентованный петух своего маленького человеческого места... В последний раз я видел его в феврале 1996 года, могу даже сказать точнее (потому что оставил по этому бес...прецедентному поводу отдельную запись), было это 15 числа: «...Днём ко мне зашёл мрачный Троцкий с каким-то остановившимся взглядом, остекленевшими глазами и рассказал, (вот удивительно!) что ему не очень нравится чувствовать себя свиньёю, а потому (sic!) он постарается потихоньку вернуть свои долги...» — конечно, мне было очень приятно услышать подобное признание от «единственного друга» (после семи лет глухого молчания)... Но если судить по результату, — похоже, с той поры он втянулся в свой образ (который ему прежде не очень нравился), и сжился с ним до конца своей биографии. С тех пор больше никаких принципиально новых новостей от него не поступало, равно как не появлялся и он сам..., из вековых недр человеческой пре’исподней...
- ↑ Грешным делом, этот случай со столкновением «гонора и гонорара» мне чем-то неуловимым напомнил..., кого бы вы думали?.. Конечно, Эрика Сати. Не сразу, конечно (напомнил)..., но только три десятка лет спустя (рукава, штаны, три шкуры), когда я работал над книгой (в первой редакции) «Воспоминания задним числом». И вот тогда-то я наткнулся на одно подловатое письмецо некоего засранца по имени Жан Кокто (в адрес такого же <...> Сержа Дягилева), где прекрасный соавтор «Парада» издевается свысока (как ему кажется) над глупыми причудами аркёйского мэтра и одновременно даёт советы, как с ним полегче обойтись: «...теперь с Сати невероятно трудно управляться, так что я выжидаю удобную минуту. Это может произойти за столом или утром <...> Ты заплатишь ему аванс, и игра будет сыграна. Сати чувствителен только к деньгам, с одной только поправкой: для него 4 су примерно то же, что и 4000 франков. Так что если с ним всерьёз говорить о 5 франках, он и на то согласится. Я тебя прошу хранить это письмо в дальнем кармане...» — Пожалуй, всё сказанное в письме можно отнести и ко мне..., разве только с двумя маленькими поправками. Первая: в отличие от Сати, я вообще не в состоянии обсуждать деньги/грязь, будь то пятак или алтын. Это пожизненное клеймо..., как угодно, можно сказать: наследственного аристократизма, брезгливости или тяжёлых личных комплексов... — И ещё одна мелочь, о которой умолчал Кокто (по своей поверхностной глупости)... Так называемые «деньги», чаще всего выражая отношения между людьми, остаются только наклейкой, внешним зна́ком. А потому через них (при любой сумме и валюте) очень легко проявляется личное отношение. Именно к этому внутреннему эквиваленту и был так чувствителен Эрик. Пожалуй, любые четыре су или десять копеек запросто могли бы сойти (и сходили) за настоящую сумму..., но только при очень чистых отношениях. Правда, в таком случае, это был — кредит. За который мы оба (равно и я, и Эрик) спрашивали очень строго. — Или не спрашивали совсем.
- ↑ — Отлично понимаю, что при всей чёткости линии моего поведения («слово и дело!») & прозрачности задаваемых вопросов, мой характер мог показаться (и казался) «местным» обитателям весьма странным и диким. Раз и навсегда я оказался чужим в этом насквозь клановом мире, где десятки лет естественным и традиционным способом обращения оставалось небрежение, невнимание, неаккуратность, необязательность, где всякий должен был исполнять пожелания начальника (благодетеля и работодателя), но никто не отвечал за свои слова. — Помню своё состояние между брезгливостью и рвотой, однажды случайно оказавшись в прокуренном ленфильмовском буфете..., кажется, даже от стен там веяло делами, делишками и клановыми отношениями, которые решались здесь..., между своими в стае, «по-хорошему». Деньги-товар-деньги. Положение-имя-положение. Всё что я произнёс тогда самому себе: в первый и последний раз..., «никогда более». — Единожды появившись в этом мире, я покинул его, не задерживаясь: с чувством яркого облегчения. Не думаю, что я был первым таким (высоким инвалидом) в этих стенах. Но, пожалуй, единственным за последние годы, который дерзнул не просто уйти (или быть выгнанным), но ещё и «(не)благодарно» хлопнуть дверью... напоследок. Прости-прощай, благословенное человеческое дерьмо.
- ↑ Каюс... (Юлий Цезарь), но сколько бы лет ни проходило, я остаюсь неисправим: и сегодня всё такой же. Любой договор чести, любое данное слово считаю обязательным к исполнению. И каждое новое проявление обычного для людей рассеянного свинства принимаю как впервые: остро и болезненно. Словно «сто тридцать второе китайское предупреждение», никогда оно не станет последним и ничего не переменит в человеческой механике отношений. — И знали бы они, типовые клановые ублюдки, на что́ они себя обрекли, в конечном счёте, при посредстве элементарного неумения исполнять свои обещания и соблюдать соответствие слова и дела. Полиция, тюрьмы, агенты, сексоты, судьи, адвокаты, нотариусы, прокуроры, армии, чиновники, надзиратели, охранники, депутаты... (список «полных...» как всегда неполон), всю эту свору паразитов им приходится тащить на своих загривкам исключительно по одной причине: тотального неприсутствия (отсутствия сознания) при факте собственной жизни.
- ↑ Именно что!..., «удивления». Это потрясающе! Словно бы мы с ним ни о чём не говорили и не договаривались. Или договаривался я один, а его в тот момент (между нами) не было в том месте. Или был, но спал, к примеру, находился в бесчувственном & бессознательном (как всегда) состоянии... или был пьян до изумления. Короче говоря, пребывал в статусе недееспособности, когда не только не могут отвечать за свои слова, но даже и не помнят: о чём там была речь. Всякий раз меня поражает это дерзкое (почти наглое) неприсутствие человека при факте собственной жизни: полностью лишённый сознания и способности (желания) контролировать свои слова и поступки, он только так и может себя почувствовать хозяином положения. — Пожалуй, здесь я только могу лишний раз повторить свой окончательный приговор, вынесенный на границе чёрных аллей: « ███ ██ ████████ , ███ ».
- ↑ Памятуя о нашем с Сокуровым разговоре, я даже решился на кое-какую затею, не вполне для себя обычную. Условным образом можно было бы назвать её: дважды тест. Вполне справедливо предполагая, что вскорости у меня больше не будет никакого доступа к оркестрам и потому забежав немного «вперёд себя», я попросту «приписал» к числу партитур «Мадам Бовари» — ещё и первую (основную) часть из «Средней Симфонии» (фундамент, на которой держится вся её внутренняя конструкция). Для меня это было своего рода про́бой средней музыки (до того момента ни разу не исполненной) на «среднее ухо» и, одновременно, «контрибуцией» (скажем проще, реваншем или компенсацией за дурную, бесценную & бесцельную работу на «того дядю»). С другой стороны, средний тест предлагался и «заказчику». Раз уж он сказал, что «вернётся к этому вопросу», пускай послушает кусок из того «непрерывного музыкального развития», причём, так сказать, вчистую, не ведая, что перед ним находится тот самый предмет, которому суждено, вероятно, осуществить его «голубоватую мечту»... — Разыгравшаяся во время записи «среднего номера» сценка оказалась очень показательной и полной внутреннего смысла (очевидно, видимого только мне). С первых же звуков «Средней симфонии» Сокуров совершенно переменился в лице (именно так, я прошу понимать мои слова буквально). Он насторожился, весь как-то напрягся, собрался и даже несколько раз выбежал в студию к дирижёру (дать ему указания к исполнению, чего никогда с ним не случалось: ни прежде, ни затем). Наконец, дослушав первый дубль записи до конца, он повернулся ко мне и сухо сказал: «это очень сильный номер». Не глядя на него, я ответил в сторону: «нет, это не номер»..., и немного помолчав, добавил: «я Вам его не отдам». — В каком это смысле?.., — даже с некоторым вызовом удивился Сокуров. — А в прямом..., не отдам. Сами увидите, — такой он услышал ответ. А затем и в самом деле «увидел»... Но всё это произошло уже немного позже...
- ↑ «...почти два часа партитур..., а возможно — даже больше» — дело здесь идёт о том, что реальное время звучания этого музыкального кирпича до сей поры неизвестно (а потому и указываю только «расчётное», сделанное по метроному). В результате вялого развития последних событий остатка года — больше половины «музыки голубой мечты», написанной для «фильма непрерывного музыкального развития» так и осталось не исполненной. — Как говорил податель сего (ещё в подростковом возрасте): «голубые мечты» — они на то и голубые, чтобы никогда не становиться коричневыми. — Но увы, человеческий материал всё превозмогает. В том числе, и по цвету.
- ↑ Разумеется, не сам я выдумал и устроил эти идиотические концерты (на премьере нисколько не радующего меня фильма). Об этом меня попросил кто?.., — да, вы правильно догадались. Тот же человек, который мечтал о «фильме непрерывного симфонического развития»..., и тем же пастозно-духовным тоном. Получив, впрочем, снова отказ мотивированный кошмарной усталостью (а было это, кажется, в середине сентября 1988 года, когда ещё не были закончены все партитуры для «Бовари»), попросил снова. Затем подослал мне двух бешеных тёток из организации со странным названием «СоюзИнформКино» — и всё равно повторил свою просьбу. Раздосадованный (почти разъярённый) такой вопиющей неделикатностью, наконец, я согласился..., но предупредил, что программу буду определять сам, не потерплю никаких указаний, потому что делаю эти концерты — не только уступая его настойчивым просьбам, но буквально — из-под палки. По правде сказать, ситуация была отвратная, и даже вспоминать её сейчас несносно. — Полубольной от нечеловеческой нагрузки и усталости, я держался из последних сил, тем временем, получая всё новые и новые «поручения». — Наконец, эта кошмарная непрекращающаяся нагрузка привела к тому, что спустя полгода, в конце зимы 1989 года я по-настоящему сорвался и заболел. По-настоящему... заболел. На три года. С больницами, капельницами и прочей человеческой дребеденью. — Спасибо, «дядя-Саша»... Ещё раз спасибо, спустя тридцать лет. И продолжай дальше... врать про меня в том же духе, как это делал предыдущую четверть века.
- ↑ Разумеется, находясь всё время концерта на сцене, я не видел этой душераздирающей сцены. Мне её передавали затем свидетели (в частности, менеджер премьеры и служащий ДК ЗВИ), возможно, слегка преувеличив ради краски. Сам же я вовсе не воспринимал случившееся как «успех», почитая это слово пустым и суетным: из того плоского мира, где жил (и до сих пор живёт) мой заказчик. Ни до какой публики, славы и прочего мусора мне решительно не было дела. — Больной, злой и усталый, я только хотел поскорее отделаться от четырёхдневной премьерной обузы, которую, кстати сказать, мне сам Сокуров и навязал. Точно так же, как и свою «голубовато-розовую мадам Бовари». Говоря по существу, моя «Музыка Собак» стала окончательным актом раздражения и полной свободы от обязательств..., — в ответ на то систематическое небрежение и обман, который я имел от Сокурова в течение этих полутора лет ленфильмовского затмения.
- ↑ Присутствие в титрах фильма пресловутого «Юрия Ханина» и, как следствие, то же самое во всех прочих привходящих документах — результат очередного небрежения (на сей раз кордебалета труппы Сокурова). Когда мне был задан вопрос: как меня указывать в титрах, я сразу сказал, чтобы там светился «Юрий Ханон». Однако вездесущие ассистенты (Бога) как всегда забыли, затеряли — и очередная мелочная ошибка увенчала всю эту историю какой-то «чужой» фамилией. В результате искомый «Ханон» появился тремя годами позже — но уже не в титрах, а в будуарах и кулуарах... Потому что моя публичная деятельность к тому моменту полностью утихла & утухла.
- ↑ Между тем, ежегодная премия «лучшему композитору» прожила не слишком долго (для начала, всего четыре года). Пока Теодоракис приезжал «судить» и жаловать (а было это в 1989-1992 годах), премию присуждали, но затем, с «отбытием» старого грека, её упразднили на одиннадцать лет. — Сызнова её ввели только после полного «переформатирования» Евро-Оскара (в 2004 году) и с той поры она стала регулярной. Несмотря на всю несущественность этого комментария, я его оставляю здесь валяться так, словно бы в нём есть капля смысла.
- ↑ Толковать стандартное ехидство этой фразы как заблагорассудится я предоставляю всем желающим. Гарантия тому — моё невмешательство. Хотя... при всём роскошестве той ситуации, невероятно богатой завитушками, виньетками и загогулинами в стиле рококо..., толкований здесь может быть как минимум — трое (не считая обосравшейся собаки).
- ↑ Вовсе нет. Не фантастика. И не совпадения. — И пресловутый «Феликс», и невероятный дебош «Музыки Собак»..., всё это возникло в условиях надвигающегося слома советской системы, в свою очередь, породившего расшатывание всего цемента клановых отношений. Только это и позволило одинокому анархисту-выскочке каким-то невероятным образом проскользнуть (причём, без мыла) сквозь проржавевшие зубчатые колёса системы. Год, другой, третий..., и уязвлённая клановая система снова начала восстанавливаться, тем более, что анархист закрыл за собой дверь и больше не делал попыток прорваться. — Прежде всего, потому, что не было того места..., куда прорываться. Но ещё и потому, что решение было принято — однократное. Всего на один День... затмения. — Заранее не рассчитанное на второй, третий или шестой (дни).
- ↑ Кстати сказать, это наша наследственная савояровская черта. И Михаил Николаевич терпеть не мог, когда в публике царила тишина: любыми средствами добиваясь непосредственного ответа..., и не важно какого. Что фурор, что скандал, что размахай — всё лучше, чем благостная скука или очередной концерт. А спустя ещё десяток лет я не без удовольствия отметил, что и блаженный Эрик переживал свои концерты точно так же.
- ↑ Хотя..., к слову сказать, никогда не мог взять себе в толк, из какого заднего места они (к примеру, тот же Сокуров или Дима Губин) вытаскивали это дурковатое & стандартно-безличное определение (насчёт «трудного характера»). Ни единого разу я так и не услышал, в чём же, собственно, состояла его пресловутая «трудность»?.. — В том ли, что я позволил Сокурову себя обманывать: раз, два, три, а затем высказывал ему прямо в лицо всё что думал по поводу его небрежения и неаккуратности и, наконец, соглашался дальше работать над его выморочными «мечтами»?.. В конце концов, мой подход был всегда предельно прост: прекрасная прямота и прямое соответствие. Дал слово чести — выполняй. Не выполнил — извинись, исправь. Не извиняешься, не исправляешь — значит, бесчестный. Правда, пустословие насчёт «молодого композитора с трудным характером» быстро надоедало. И здесь, кроме шуток, я всегда обращался к ветхому опыту нашего старого (практически, Евангельского) знакомого, на строгий вопрос Понтия Пилата «правда ли, что называешь себя Царём Иудейским» отвечавшего с предельной кроткостию & краткостию: «Ты сказал»... — Вот так и я, изрядно наскучив слушать завиральные басни про «трудный характер», попросту выставлял перед фасадом говорившего — зеркало: ну..., уж если возводишь напраслину, да ещё и настаиваешь, что «трудный», так и получи на здоровье, будет тебе «трудный». — «Ты сказал».
- ↑ «Романс двух людей» и «Опера собак» (названия сугубо условные и служебные, по сценарию) были сделаны ad libitum в виде оркестровых обработок двух номеров из цикла «25 положительных песен на тексты А.А.Фета» — эту камерную вещицу г.Сокуров слушал в моей записи задолго до начала съёмок и сам выбрал несколько харáктерных вещей для будущего фильма. Музыкальные фонограммы были исполнены заранее, ещё весной 1988 года на специальной оркестровой сессии и сцены из кинофильма, соответственно, уже снимались под музыку.
- ↑ Для тех, кто проспал или только что пришёл, напоминаю ещё раз: категорическим водоразделом для высказываний Александра Сокурова стало 28 ноября 1988 года (церемония вручения первого приза «Феликс»). — После этого злосчастного дня (и ночи) сначала на «180 градусников» поменялся знак оценок Сокурова в мой адрес: из прежнего «гения или потрясающего композитора» я превратился в «малозначительного участника съёмочной группы» или «молодого музыканта с трудным характером», а затем (начиная с 1989 года) он и вовсе постарался не произносить этого паскудного имени. Само собой, с июня 1990 года позиция ещё более ужесточилась: был введён тотальный запрет на всякое упоминание. — Какова была моя реакция?.. В точности одинаковая. Мне что «гений», что «дурак»: пожизненно не люблю пустословия.
- ↑ «Ю.Ханин.Ф.» — именно под таким «лейблом» я был вынужден делать свою декабрьскую «Музыку Собак» («ханинские чтения», отчего-то упомянутые Ларисой Юсиповой — были только подзаголовком). Поскольку очередной «старший помощник младшего режиссёра» по небрежению всё-таки впилил в титры фильма ветхозаветную фамилию «Ханин», тётушки из «Союзинформкино» попросили меня придерживаться единой версии и не «менять» фамилию на концертных афишах. Ну и ладно, раз так. — Когда вся ваша жизнь ошибка, совсем не трудно подыграть на своей маленькой дудке.
- ↑ Говоря о «прозе», здесь Лариса Юсипова ведёт речь не только о тех отрывках и аннотациях, которые были опубликованы в премьерных материалах концертов «Музыка Собак», но и собственно о моих рассказах и повестях 1980-х годов. Прежде всего, в их числе: «Повесть о той жизни», «Костмалламырский синдром», «Чернеющий на срезе», «Маленький шедевр (эрзац)», «Рисунок головы» (роман-газета), «Трудная ещё повесть» и так далее примерно в том же духе.
- ↑ Здесь и ниже приводится не тот исторический & истерический текст (сокращённый и оскоплённый, отчасти), который был опубликован в июньском журнале «Огонёк» (№26 за 1990 г.), а первоначальный живой вариант интервью (расшифровка с моей редактурой), единственная публикация которого произошла спустя четверть века — здесь, за углом.
- ↑ «Реализована Безрукову»..., реализована — довольно странный, почти идеально коммерческий термин (с точки зрения обывателя). Как правило, под этим словом полагается — элементарная продажа. Однако в данном случае — было совсем не так. Поскольку десятиминутная пьеса (под скоромным названием «бледная голова») была реализована не только «безруким», но и вполне «безденежным» способом. Практически, в дар на эутаназию (к сожалению, фильм вышел уникально бледным, как та голова). Таким образом, здесь имеет место очередное очковтирательство из серии: «я занимаюсь провокаторством и обманом». Причём, совершенно неясно: с какой целью. — А вот..., как хочешь, так и понимай. (С.Кочетова. «Юрий Ханон: я занимаюсь провокаторством и обманом» (интервью). — СПб.: газета «Час пик» от 2 декабря 1991 г.)
- ↑ Пожалуй, здесь я только могу отвесить глубокий человеческий поклон..., для начала — восхитительному корреспонденту, конечно. Заранее & почти наизусть зная курьёзную ситуацию с гонорарами на «Днях затмения» и «Спаси и сохрани», а также (ничуть не хуже) изучив мой характер и пожизненное обыкновение «прекрасной прямоты», — всё же задать такой вопрос... Дивный, сногсшибательный «профессионализм», не говоря уже о личном отношении к уважаемому «анфан терриблю». Само собой, нормальный человек в большинстве случаев попросту ушёл бы от точного и конкретного ответа, ограничившись (в той или иной степени) обтекаемыми замечаниями. И уж точно не стал бы заострять & выносить сор из сарая. Но не таков был этот Ханон, само собой. И здесь уж, пожалуй, мне придётся отвесить второй глубокий человеческий поклон — на сей раз самому себе, конечно. Ответить с такой сногсшибательной прямотой и исчерпывающей конкретностью, словно бы разговариваешь не с пятимиллионной абстрактной аудиторией огонька, а со следователем по делу или, как минимум, близким дру́гом. — Собственно, ведь в точности так оно и было. Я попросту беседовал со своим ближним..., человеком, который пожизненно признавал во мне «гения», как следствие (не ожидая от него вреда или подвоха), у меня не возникало ни малейших сомнений: как ему отвечать на его каверзные вопросы. — Только прекрасная прямота. И ничего больше. А потому и выложил (в очередной раз) всю исподнюю правду (вместе с подноготной и белыми нитками на изнанке) из ленфильмовских коридоров, кулуаров & будуаров. От которой не отказывался тогда, во время всех скандалов, да и теперь отказываться не собираюсь (было бы от чего, как говорится)... — Потому, пожалуй, таким особенно красивым и выглядел следующий «редакторско-редакционный» поступок: стребовать с меня ещё и подпись, аккуратно и педантично, под каждым листом интервью, словно бы заранее показывая своё недоверие (такое официальное, такое синтетическое), и с огоньком переводя все «стре́лки» — в другую сторону..., подальше от огонька (мол, наше дело тут — сторона). Словно бы я и в самом деле собирался подставить редакцию, ненароком «отречься» от своих слов, сбежать (& избежать ответственности) или срочно перекреститься в шотландского протестанта. Примерно так же выглядели — и все последующие (ничуть не менее красивые) поступки: столь же плановые и клановые, личные и отличные, которые последовали в течение будущих... двух, трёх, пяти десятков лет жизни бравого писателя, питателя и потребителя..., настоящего героя своего времени. Говорю всё это тихим и ровным голосом, с высоты своей собственной сегодняшней непричастности..., — без малейшего пристрастия или гнева, но только сожалея об этой (их, его) жизни, как всегда, одним лёгким движением руки превратившейся в кучку повседневного мусора. Словно грязная посуда после очередного корпоративного фуршета... — Спасибо же тебе, Дима. Ты был настоящий..., высокий профессионал: ничего личного..., ничего лишнего..., практически, при...рождённый главный редактор, f..h..m.
- ↑ К сожалению, это не совсем точная фраза (по факту). Контракт мне как раз не выдали, но только предложили подписать, после чего — забрали. С тех пор я его и не видел. Собственно, никакого договора по «Дням затмения» у меня нет до сих пор, — попросту говоря, никто не удосужился отдать мне второй экземпляр, полагающийся по всем правилам.
- ↑ — Что, «прекрасная прямота», говоришь?.. Ну хорошо, значит, продолжим. По прямой линии. Примерно таким образом, как это (у них) не принято делать..., в аналогичных случаях... Потому что (совсем не) забавная это была история, отчасти, похожая на лист Мёбиуса, очень скоро замкнувшийся окончательно. И если (говоря сугубо фигурально) первая половина композиторского гонорара этому автору попросту не была выплачена, то вторую — у него, не долго думая, свистнули (как рак на горе), ничуть не поморщившись. Как говорится, следите за руками. И не только — за ними... Этого «друга детства» (безо всяких скидок на оба слова) звали Станислав Амшинский, который учредил предприятие «Крейт» (сначала кооператив, а затем уже какие-то другие партийно-хозяйственные формы принял, одутловатые). Само собой, получив из моих рук «сокуровские» деньги (имевшие очень подходящий для такого случая лейбл «спаси и сохрани», не так ли?), искомый «друг» очень скоро превратился в «не друга», а ленфильмовские деньги без особого стеснения умножил на ноль (ничего особенного, между прочим, это была типовая «коммерческая» операция). Собственно, и сегодня, спустя три десятка лет этот «детский друг» остаётся моим почётным & персональным должником «союзного значения», пожалуй, самым красивым из них — как с фасада, так и изнутри. Особенно, если учесть, что речь идёт о подростковых годах: едва ли не самое важное и продуктивное время, которое никогда не забывается, оставаясь живым и актуальным до последних дней. — С трудом могу себе представить, каким образом человек, не будучи конченым сукиным сыном (смелая гипотеза), может спокойно продолжать жить с таким впечатляющим грузом (не)мелкой подлости за плечами. И главное: по отношению к кому?... Вдвойне позорно: дважды променять драгоценный жемчуг на кусок жирного петуха.. Пожалуй, здесь у меня в запасе остаётся последнее слово: сапропель..., и больше ничего. Донное отложение. Типичный потребитель, мещанин, живущий только здесь и сегодня, а в итоге — нигде и никогда. В сущности, ничего страшного. Всего лишь: диагноз. В любое время вокруг — миллионы, миллиарды именно таких людей нормы, и никуда от них не деться, они поистине вездесущи (как господь бог) и парят буквально повсюду: начиная от п’резидента и кончая — его двоюродной бабушкой.
- ↑ Насчёт «100 лучших фильмов столетия, отобранных Европейской киноакадемией» — по-видимому, это (слегка) испорченный телефон. В 2000 году, отмечая наступление нового столетия, гильдия кинокритиков России (не Европы..., нет..., и даже не Казахстана) внесла «Дни затмения» в список лучших кинолент отечественного киноиндустрии (за весь предыдущий век её существования). А насчёт «Европейской киноакадемии» — история была попроще, как мне кажется (хотя с тех пор я не следил..., и со свечкой не стоял). Насколько я осведомлён (всё из того же вечного источника), академия вручила дядюшке Сокурову оный «приз Феликс» (sonderpreis der Juri) за лучшую музыку... и на том сочла красноводский инцидент исчерпанным. — Тем более, что Туркмения — не Европа.
- ↑ «чуть меньше 7 минут» — это не совсем точная бухгалтерия автора книги. Хотя узнать о неточности ему было мудрено, очевидно (разве только от самого Сокурова). Выше я уже описывал этот эпизод, когда основное условие соавторства (участие в монтаже) единственный раз оказалось выполнено — причём, исключительно по технической причине: одного музыкального номера физически не хватило на начальную сцену фильма. Как следствие, получившиеся семь минут были смонтированы из трёх отрезков (с имитацией нормальной репризы, вестимо), в результате чего получился единый музыкальный эпизод с частичным применением заявленного мною метода «резонансного монтажа».
- ↑ Здесь, пожалуй, уже слишком много всего намешано..., а потому я вынужден, потупив глаза, отказаться от части приписанного мне чрезмерного богатства. Прежде всего, от «традиционной восточной музыки», конечно. В звуковую дорожку её напихал звукооператор (человек примитивный и дисциплинированный, попросту выполнявший распоряжение своего «начальника»), стало быть, моей вины в том нет, слава богу. Равно и «детский смех» мне совсем не к лицу (особенно, если хотя бы смутно представлять себе: что есть я). А вот «гулкие удары» (большой кассы) и «отдалённое женское пение» (основная часть из которого, видимо, исполнялась с моего голоса) отрицать не стану. Пускай будет...
- ↑ В данном случае я не считаю нужным комментировать или возражать автору: его текст в целом транслирует (хотя и в смягчённой форме) отлично известный мне взгляд со стороны Сокурова (который с наступлением 1989 года вообще не упоминает моего имени). Замечу только, что часть утверждений фактически ошибочна, а в другой наблюдаются проблемы с логикой. И тем не менее, в целом всё соединяется в общую достоверную картинку, — правда, при одном условии, что мне было бы позволено поменять в тексте несколько слов (причём, не обязательно на обсценные или инвективные).
- ↑ Мелкое (несущественное) уточнение: как уже неоднократно было сказано выше, музыку к «Дням затмения» этот «незначительный член съёмочной группы» написал далеко ещё не «окончив Ленинградскую консерваторию по классу композиции», а вполне пребывая на четвёртом курсе, а затем — летом... «в пересменок».
- ↑ Ещё один несущественный комментарий: забавный ритмический & психологический приём (чтобы не сказать: трюк), который автор применил в этом музыкальном номере, привёл к странному результату: «Феликса» регулярно называют «вальсом» (вынужден в скобках признаться, что всегда терпеть не мог этот предмет), при том, что в нём нет даже малейшего намёка на трёх’дольность. — Квадратнейший период с ортодоксальным размером в четыре четверти (вместе со всеми упомянутыми странностями), тем не менее, с первого же звука производит впечатление парящего вальсирования. — Ну да и бог с ним..., хоть «тангой» назовите, лишь бы сызнова в кино не затаскивали...
- ↑ И здесь, в конце всего, мой отдельный поклон Сергею Уварову за то кристаллизованное понимание всей маленькой «мистерии затмения», которое у него появлялось постепенно, словно бы шаг за шагом (причём, совершенно самостоятельно!..) продвигаясь в прежде закрытую для него оранжерейную область экзотических растений... Особенно же показательно наблюдать на конкретных примерах, как его оценки менялись (так сказать, дрейфовали) в течение почти десятка лет. — И тем более (драго)ценная история, что свою первоначальную позицию он получил напрямую из рук Сокурова, а со мной — и ныне остаётся вполне незнакомым. Как мне кажется, главный перелом здесь наступил во время издания книги Сергея (цитированной выше) и его знакомства с текстом «Воспоминаний Задним Числом», местами написанном кровью. — Ещё раз спасибо Сергею за этот дивный артефакт чистаго со’общения...
Ис’сточники
- ↑ 1,0 1,1 М.Н.Савояров, «Обратно» (1913). «Замётки и помётки» к сборнику «Кризы и репризы» (1907-1927 гг.) — «Внук Короля» (двух...томная сказ’ка в прозе). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2016 г.
- ↑ Иллюстрация — «Чёрный квадрат» Альфонса Алле, (каким он мог быть). Псевдо’реконструкция (февраль 2009) картины 1882 года, показанной в октябре того же года на выставке «Отвязанного искусства» под названием «Драка негров в подвале глубокой ночью» (название приведено не точно, к тому же — намеренно). Reconstruction de Khanon, fe 2009, — archives de Yuri Khanon.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Эр.Сати, Юр.Ханон. «Воспоминания задним числом» (яко’бы без под’заголовка). — Сан-Перебург: Центр Средней Музыки & Лики России, 2010 г. 682 стр.
- ↑ «Сочинения Козьмы Пруткова». — Мосва: «Художественная литература», 1976 г. — стр.35 (Эпиграмма №I).
- ↑ 5,0 5,1 В.А.Екимовский. «Автомонография» (издание второе). — Мосва: Музиздат, 2008 г., тираж 500 экз., 480 стр. — стр.359
- ↑ «Ницше contra Ханон» или книга, которая-ни-на-что-не-похожа. — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки», 2010 г.
- ↑ А.Стругацкий, Б.Стругацкий. День затмения; Сталкер; Машина желания; Чародеи. — СПб.: Terra Fantastica, 2002 г. – стр.133-212.
- ↑ Иллюстрация — последний генеральный секретарь ЦК КПСС, последний председатель президиума Верховного Совета Михаил Горбачёв на трибуне мавзолея. Фото: вероятно, май 1987 года
- ↑ Хуан Рамон Хименес «Испанцы трёх миров»: Избранная проза. Стихотворения. — Сан-Перебур: изд(ев)ательство Ивана Лимбаха, 2008 г.
- ↑ Иллюстрация — Сокуров, Юриздицкий, ассистент и Ананишнов во время съёмок кинофильма «Дни Затмения». — Красноводск (Туркмения), август 1987 г.
- ↑ 11,0 11,1 Юр.Ханон, «Мусорная книга» (том первый). — Сана-Перебу́ра: «Центр Средней Музыки», 2002 г.
- ↑ Мх.Савояров, Юр.Ханон. «Избранное Из’бранного» (худшее из лучшего). — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2017 г.
- ↑ Иллюстрация — Копозитор и каноник Юрий Ханон на своём месте (на фоне ряда атрибутов жизни & деятельности). — Сан-Перебур: ноябр 191 г., прт.
- ↑ Н.Г.Чернышевский. «Что делать?» (роман, без вопроса). — Мосва: Гослитиздат, 1954 г.
- ↑ Иллюстрация — Сокуров, Ананишнов и Юриздицкий во время съёмок кинофильма «Дни Затмения». — Красноводск (Туркмения), август 1987 г.
- ↑ Иллюстрация — титульный лист сценария кинофильма «Дни Затмения» с дарственной надписью и «рисунком» Сокурова. — Ленинград, Ленфильм, 1987 г.
- ↑ Даниил Хармс. «Горло бредит бритвою». — Рига: Глагол, 1991 г. — 240 с.
- ↑ Иллюстрация — некий А.Н.Сокуров во времена съёмок кинофильма «Дни Затмения». — Красноводск (Туркмения), август 1987 г.
- ↑ Л.Ю.Юсипова. «Мужики, стреляю на голос». — Мосва: «Спутник кинозрителя» №9 за 1989 г. — стр.16-17
- ↑ 20,0 20,1 20,2 Юр.Ханон, «Тусклые беседы» (цикл регулярных статей, еженедельная страница обструктивной критики). — Сан-Перебург, газета «Сегодня», апрель-октябрь 1993 г.
- ↑ А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» (роман в стихах). — Полное собрание сочинений в 16 томах. — М.; Л.: издательство АН СССР, 1937—1959 гг. — том 6 (глава 8.II)
- ↑ Иллюстрация — Статуэтка премии «Феликс» (European Film Awards). — вручённая 26 ноября 1988 года в Западном Берлине на первой церемонии «Европейского Оскара». Yuri Khanon : für die Beste Musik
- ↑ Ил’люстрация — Пригласительный билет на премьерные дни кинофильма «Дни Затмения» (Мосва, ДК ЗВИ, 1-10 декабря 1988 г.) со змеиной «емблемой» фильма (made in «СоюзИнформКино»).
- ↑ Иллюстрация — Станислав Б.Амшинский, друг детства и должник (скрывшийся в кустах), в руки которого перешли почти все сокуровские гонорары. — Лениград: ~ апрель 1987 года.
- ↑ И.В.Гёте, Л.В.Беховен. «Сурок» (песенка савояра, соч.52 №7, 1805 г.) — Мосва: «Музыка», 1976 г.
- ↑ Юр.Ханон, Аль.Алле, Фр.Кафка, Аль.Дрейфус. «Два Процесса» или книга без-права-переписки. — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2012 г. — изд.первое, 568 стр.
- ↑ А.А.Ахматова. «Песенка» (из сборника «Вечер», II). Собрание сочинений в 6 томах. — Мосва: Эллис Лак, 1998 г.
- ↑ Юр.Ханон. «Скрябин как лицо» (издание второе, до- и пере’работанное). — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки» 2009 г. — том 1. — 680 с.
- ↑ Иллюстрация — Yuri Khanon, «Direction» (sculpture, objet, Saint-Petersbourg (France), 24 mars 2014) — лабораторная иллюстрация (крыса) в минимальном духе, сделанная для текста монографии «Минимализм до минимализма».
- ↑ Иллюстрация — Картина (или коллаж, если угодно) Сапека «Дымящая Джоконда» была впервые выставлена на Второй парижской выставке «Les Arts Incohérents» (Отвязанных искусств) в октябре 1883 года. — Из книги: Coquelin Cadet. Illustration of «Le rire», edition 1887, page 5.
- ↑ А.Н.Сокуров, из материалов пресс-конференции (26 сентября 1988 г.) — Рига: журнал «Арс» (Латвия), № 12 за 1988 г.
- ↑ 32,0 32,1 32,2 32,3 32,4 32,5 32,6 32,7 «Дни затмения», буклет «Резонанс» (редакторы: В.Глазова, Я.Либерис, С.Сваровская). ― Мосва: ВО «Союзинформкино», тираж 40 000, сентябрь 1988 г.
- ↑ Иллюстрация — Картина (или коллаж, если угодно) Сапека «Мона Лиза с трубкой» была впервые выставлена на Второй выставке «Les Arts Incohérents» (Отвязанных искусств) в октябре 1883 года. — Из книги: Coquelin Cadet. Illustration of «Le rire» edition 1887, page 5. (Юрий Ханон-2009 — реставрация и подкраска).
- ↑ А.Н.Сокуров, из аннотации к пластинке «Одинокий голос человека» (фонография сокуровских фильмов). — Лениград: «Мелодия», 1988 г.
- ↑ Ил’люстрация — «Мыслитель» Родена (Rodin «Le Penseur») реплика. — Sveden, Auguste Rodins «Tankaren», copie. Terrassen pa Waldemarsudde, Stockholm.
- ↑ Елена Стишова. Краткие анонсы. — Мосва: «Советский экран» №1 за 1989 г.
- ↑ 37,0 37,1 37,2 Майя Туровская, «Дни затмения, или мерцающая аритмия». В сборнике: Сокуров, книга вторая. — Сан-Перебур: «Сеанс», 2006 г.
- ↑ 38,0 38,1 Лариса Юсипова. «Мужики, стреляю на голос». — «Спутник кинозрителя» №9 за 1989 г.
- ↑ 39,0 39,1 39,2 39,3 Д.Губин «Игра в дни затмения» (Юрий Ханон: интервью). — Мосва: журнал «Огонёк», №26 за 1990 г. — стр.26-28
- ↑ Иллюстрация — Auguste Rodin, «Le Penseur», sculptures en bronze (1880-1882), — ещо одна копия, установленная в Национальном Музее города Киото.
- ↑ Юр.Ханон, персонариум (персональные дела на сайте «Yuri Khanon com)». — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 1990-2013 г.
- ↑ «Механика киносудьбы»: Юрий Арабов (интервью на радио «Свобода» с Сергеем Юрьененом). — Мосва: Кинозал «Свободы», 2000 г.
- ↑ Иллюстрация — René Magritte, Portrait d'Erik Satie (1958). — Reproduit en regard du poeme «A la gloire d'Erik Satie» dans E.L.T.Mesens, Poemes 1923-1958, Terrain Vague, Paris, 1959.
- ↑ И.Ю.Любарская. «Новейшая история отечественного кино» (1986-2000 гг.) Кино и контекст. Том III. — Сан-Перебург: «Сеанс», 2001 г.
- ↑ 45,0 45,1 С.А.Уваров. «Музыкальный мир Александра Сокурова». — Мосва: Классика-XXI, 2011 г.
- ↑ Владимир Раннев, «Композитор Александр Сокуров». — Сан-Перебург: журнал «Сеанс» №11 от 7 октября 2011 г.
- ↑ С.А.Уваров. «Музыка в режиссуре Александра Сокурова», автореферат диссертации (на правах рукописи), научный руководитель — М.А.Сапонов. — Мосва: 2014 г.
- ↑ Евгений Нефёдов, рецензия на фильм «Дни затмения» (на сайте AllOfCinema.com, 31.01.2017).
- ↑ Алексей Ботвинов, из партикулярного письма от 6 но 218 г. (публикуется с разрешения автора).
- ↑ Иллюстрация — «ТриАнон» (авторское «фото автора» для буклета лазерного диска фирмы «Olympia», было сделано в ответ на просьбу г.директора б.ж.хр.фирмы Е. при условии п.х.), archives de Khanon.
- ↑ Иллюстрация — Юр.Ханон, зарисовка со сцены, (назовём её условно: «Два Ангела») выполненная 24 ноября 1998 года (до и) после премьеры балета «Средний Дуэт» в Мариинском театре (тушь, акрил, картон). Фрагмент: якобы «Белый ангел» — правая половина эскиза.
Лит’ ература ( в области затемнения )
- Д.Губин, Юр.Ханон. «Музей Вождей». — Лениград: программа «Монитор» от 8 апреля 1990 г.
- Д.Губин «Игра в дни затмения» (Юрий Ханон: интер...вью). — Мосва: журнал «Огонёк», №26 за 1990 г. — стр.26-28
- Юр.Ханон «Музыка эмбрионов» (интервью с Максимом Максимовым). — Лениград: газета «Смена» от 9 мая 1991 г., стр.2
- Юр.Ханон. «Лобзанья пантер и гиен». — Мосва: журнал «Огонёк» №50 за декабрь 1991 г. — стр.21-23
- Юр.Ханон, «Скрябин умер, но дело его живёт» (интервью с Кириллом Шевченко). — Лениград: газета «С...мена» от 13 ноября 1991 г., стр.7
- С.Кочетова. «Юрий Ханон: я занимаюсь провокаторством и обманом» (интервью). — Сан-Перебург: газета «Час пик» от 2 декабря 1991 г., стр.11
- Юр.Ханон. «Александр Николаевич (январские тезисы)...» (к 120 годовщине со дня рождения А.Н.Скрябина). — Сан-Перебург: газета «Смена» от 7 января 1992 г. – стр.6 (и последняя)
- Юр.Ханон. «Моя маленькая ханинская скрябиниана». — Мосва: журнал «Место Печати» №2 за 1992 г. — Приложение: к 120-летию со дня рождения А.Н.Скрябина, стр.102-135.
- Юр.Ханон: «Эрик-Альфред-Лесли, совершенно новая глава» (во всех смыслах). — Сан-Перебург: «Ле журналь де Санкт-Петербург», № 4 за 1992 г., стр.7
- Юр.Ханон. «Несколько маленьких грустных слов по поводу годовщины усов» — Сан-Перебург: газета «Смена» от 6 января 1993 г. – стр.7
- Юр.Ханон, «Разговор с психиатром в присутствии увеличенного изображения Скрябина», — Москва: журнал «Место печати», №4 за 1993 г.
- Юр.Ханон. «Скрябин как лицо». — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки» & изд.«Лики России», 1995 г. — том 1. — 680 с. — 3000 экз.
- Юр.Ханон. «Скрябин как лицо» (издание второе, до- и пере’работанное). — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки» 2009 г. — том 1. — 680 с.
- Юр.Ханон. «Скрябин как лицо» (часть вторая), издание уничтоженное. — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки & те же Лики России, 2002 г. — 840 стр.
- «Ницше contra Ханон» или книга, которая-ни-на-что-не-похожа. — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки», 2010 г. — 836 стр.
- Эр.Сати, Юр.Ханон «Воспоминания задним числом» (яко’бы без под’заголовка). — Санкта-Перебурга: Центр Средней Музыки & Лики России, 2011 г.
- Юр.Ханон «Русский Шумахер» (роман’с без слова). — Центр Средней Музыки, Сана-Перебур (no publier, en un an).
- Юр.Ханон «Савояры царя Авгия» (третий конденсат). — Сана-Перебур, Центр Средней Музыки, (no publier, en un an).
- Юр.Ханон «Альфонс, которого не было» (или книга в пред’последнем смысле слова). — Сан-Перебург: (ЦСМ. 2011 г.) Центр Средней Музыки & Лики России, 2013 г. — 544 стр.
- Юр.Ханон. «Вялые записки» (бес купюр). — Сана-Перебур: Центр Средней Музыки, 191-202 гг. (сугубо внутреннее издание). — 121 стр.
- Юр.Ханон, «Мусорная книга» (в трёх томах). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 191-202-221 гг. (внутреннее издание)
- Юр.Ханон. «Не современная не музыка» (интервью). — Мосва: жернал «Современная музыка», №1 за 2011 г. — стр.2-12
- «Ханон Парад Алле» (или малое приложение к большому прибору). — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2011 г.
- Юр.Ханон, Аль Алле. «Мы не свинина» (малая ботаническая энциклопедия). — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2012 г.
- Юр.Ханон, Аль.Алле, Фр.Кафка, Аль.Дрейфус «Два Процесса» (или книга без права переписки). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2012 г. — 624 стр.
- Юр.Ханон «Чёрные Аллеи» (или книга, которой-не-было-и-не-будет). — Сана-Перебур: Центр Средней Музыки, 2013 г. — 648 стр.
- Юр.Ханон, Аль Алле. «Не бейтесь в истерике» (или бейтесь в припадке). Третий сборник (второго мусора). — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2013 г.
- Юр.Ханон «Три Инвалида» или попытка с(о)крыть то, чего и так никто не видит. — Сант-Перебург: Центр Средней Музыки, 2013-2014 г.
- Л.А.Латынин, Юр.Ханон. «Два Гримёра» (роман’с пятью приложениями). — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки», 2014 г.
- Юр.Ханон «Книга без листьев» (или первая попытка сказать несказуемое). — Сан-Перебург, Центр Средней Музыки, 2014 г.
- Юр.Ханон, «ПАР» (роман-автограф). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2015 г.
- Юр.Ханон «Неизданное и сожжённое» (на’всегда потерянная книга о на’всегда потерянном). — Сана-Перебур: Центр Средней Музыки, 2015 г.
- Юр.Ханон «Животное. Человек. Инвалид» (или три последних гвоздя). — Санта-Перебура: Центр Средней Музыки, 2016-bis.
- Юр.Ханон, Мх.Савояров. «Внук Короля» (двух...томная сказка в п’розе). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2016 г.
- Мх.Савояров, Юр.Ханон. «Избранное Из’бранного» (худшее из лучшего). — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2017 г.
- Юр.Ханон, Аль.Алле. «Последний рассказ» (или надгробие гения). — Сан-Перебург: «Центр Средней Музыки», 2017 г.
- Юр.Ханон, Мх.Савояров. «Через Трубачей» (или опыт сквозного пре...следования). — Сана-Перебур: «Центр Средней Музыки», 2019 г.
- Юр.Ханон, Эр.Сати. «Малая аркёйская книга» (или скрытый каталог школы иезуитов). — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2021 г.
- С а в о я р о в ы : после слов ie. — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2023 г.
См. так’ же
см. д’альше →
 Авторы : Юр.Ханон & Yur.Khanon. Все права сохранены. Авторы : Юр.Ханон & Yur.Khanon. Все права сохранены. 
Auteurs : Yur.Savoiarov & Yur.Khanon.  All rights reserved. All rights reserved.
* * * эту статью может исправлять
только один из двух авторов.
— Все желающие кое-что поправить, —
могут переслать свои (по)желания
в условиях почти полного затемнения...
- * * * публикуется впервые :
текст, редактура и оформление :
Юр.Хано́н & чуть Yur.Khanon.
« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »
|
|