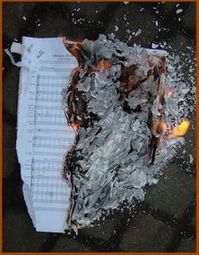Что сказал Заратуштра, ос.68 (Юр.Ханон)
( klerikalische Singspiel )ос.68, otr.198 ( zeitgewinn: ~ 127’ ) — пожалуй, только его дети... ( М.Н.СавояровЪ ) [1]
Чтó
— Also..., значит, получайте: потому что именно таково было название одной старинной церковной мессы, вернее говоря, двухчасовой грегорианской службы, а ещё вернее говоря — необычно объёмистого срамного водевиля (можно сказать, даже канкана), который мсье Ханон поставил (а затем и положил обратно), в своё время, на текст одной главы..., всего одной главы (можно сказать, даже главки) известной книги Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра». Полезная информация на этих словах заканчивается...
Потому что..., потому что затем (в исключительно вынужденном режиме) последует ещё несколько слов в анкетном ритме..., чтобы не оставлять мéста для сомнений — в их любой форме и проявлении. Просто сказать..., (почти) невозможно сделать. Поскольку уже сам обсуждаемый здесь предмет представляет собою нечто в высшей степени сомнительное: как в целом, так и в частностях. Поначалу можно заподозрить, что тотальное сомнение образует это (дивное) творение разума (ос.68), проникая сквозь него снизу доверху и слева направо. Начиная, скажем, от самого факта его существования (до сих пор никем не подтверждённого) и кончая противоположным фактом его исчезновения (до сих пор никем не документированного).[4] А посередине между первым и последним — остаётся неограниченная масса свободного места для (не)доброго десятка сомнительных деталей и частностей. Не имея ни малейшего желания перечислять их по порядку, назову только две..., первую и последнюю, начав от крайне подозрительной конструкции произведения и завершив — его умыслом, смыслом и назначением (неочевидным до самоотрицания).
Наконец, остановимся, чтобы слегка перевести дыхание... Полностью исчерпав терпение, я вынужден прекратить первую игру, — ровно для того, чтобы сразу перейти к третьей. — Попутно воспользовавшись подержанным советом Ангела Михаила, в категорической форме предлагавшего «отсечь от (своей) статуи» всё лишнее...[6] — Не исключая также и всего остального, напоследок. « Чтó сказал Заратуштра » [комм. 2] — маленькая церковная оперетта в двух актах (продолжительностью в пределах 127-130’ минут), написанная в августе-октябре 1998 года небольшим со’авторским коллективом в составе: проф. Фридрих Нитче (либретто) и кан. Юрий Ханон (музыка, оформление). В качестве твёрдой литературной основы для этого клерикального зингшпиля была взята (в оригинале, на ортодоксальном немецком языке) одна глава из центральной (как иногда считается) книги Фридриха Ницше «Also sprach Zarathustra»,[комм. 3] (или «Что сказал Заратуштра» — во второй ре(д)акции Ханона). — А может быть, даже и в третьей (наверное утверждать не стану)... 327. Тень Гамлета Написанная для камерного (бого)служебного состава, состоящего (круглым счётом) из шестнадцати исполнителей (человек), на самом деле, «Что сказал Заратуштра» вполне соответствует (лукавому) жанровому определению, данному автором этой очевидной «мессе» (слегка карманной, как и всё в позднем отсеке работ Ханона). Тем не менее, мы не видели на титульном листе ни одного мало-мальски похожего слова. Ни месса, ни псалом, ни литургия, ни даже кантата (равно светская и мирская) — заранее не омрачают процесс введения в (бого)служебные пределы «Что сказал Заратуштра», раз и навсегда обозначенной как «церковная оперетта» (а также «клерикальный зингшпиль» или «соборный водевиль»..., в зависимости от языка... оригинала).[комм. 4] По детальному рассмотрению также удаётся обнаружить, что произведение, с первой же страницы определённое в качестве состоящего из «двух актов», содержит в себе десять частей.
Приходится просто констатировать этот безрадостный факт, поскольку «церковная оперетта» слишком очевидным образом не состоит из «ровно десяти частей», хотя два акта в ней всё-таки имеются, несмотря на все усилия много...численных злопыхателей. — К счастью, сегодня у нас ещё остались кое-какие доказательства, чтобы опровергнуть клевету. Краткий перечень входящих в мессу разделов, а также их хронометраж, если не ошибаюсь, было не трудно найти на титульном листе партитуры, а сверх того, ещё и в некоей структурно неопределённой области, традиционно именуемой «содержанием».[7] — И вот что нам удалось там обнаружить, воспользовавшись временным отсутствием вахтёрши, сторожа и пятерых знойных службистов...[8]
...с точки зрения конструктивной..., сразу бросается в глаза некий (доведённый до предела) условный формализм в построении партитуры. Даже для тех, кто никогда не слышал музыки этого знаменитого & знаменательного водевиля (хотя, честно сказать, сегодня только с громадным трудом возможно представить себе настолько неотёсанного и бес...культурного человека), кажется крайне подозрительным первый акт, в котором каждое погружение в очередной номер (а всего их пять, как видно) продолжается ровно десять с половиной минут (~10’30’’) в темпе не-ве-ро-ят-но медленных фрикций,[10] специально для публики: будь то реальной или умо...зрительной. От себя же, будучи (хотя и в далёком прошлом) знатоком симфонического творчества этого автора, добавлю, что два крайних номера (вовсе лишённые номеров, как видно), по праву занимающие место увертюры (Ouveture) и финала (Eine kleine Nachmusik), также идентичны по своей фонометрии и хронометрологии, насчитывая ровно по тринадцать с четвертью минут каждая (~13’15’’).[комм. 7] Что приведённые числа во всех случаях — не случайные, можно не сомневаться. Порукой тому — мрачное каноническое и нумерологическое прошлое автора..., а также его двоюродной бабушки.[11] Пожалуй, не будем (напрасно) пытаться высосать сенсацию из указательного пальца...Юр.Ханон, Аль Алле. «Не бейтесь в истерике» (или бейтесь в припадке). Третий сборник (второго мусора). — Сан-Перебур: Центр Средней Музыки, 2013 г.
Если встретишь человека где-то на дороге – уйди от него. Но вот с точки зрения музыки..., я бы заметил, для начала..., что в построении её материи употреблён весьма странный (и глубоко формальный) приём. Причём, не просто употреблён, но — демонстративно..., каким-то нарочито грубым и механическим образом, так сказать, прямо в лоб. Потому что..., как бы это выразиться..., в общем..., при всей чрезвычайной красоте и оригинальности музыки, обрамляющей «церковную оперетту» спереди и сзади, вся она не имеет к произведению в целом ни малейшего отношения, словно бы взятые «совсем из другой оперы». Проще говоря, увертюра и финал выдержаны в жестоком стилистическом духе «не пришей кобыле хвост», так что пытливому слушателю остаётся только гадать: с какого конца следовало бы приступать к (со)участию в предлагаемой мессе. — На первый взгляд, подобное применение «Увертюры» и, тем более, «Финала» совсем не в традиции крупных цикловых произведений, будь то симфония, опера или, скажем, балет. — Как правило, увертюра служит чем-то вроде буферной зоны или предбанника спектакля, её назначение — выиграть время (для опоздавших), а также облегчить настройку или «разогрев» публики, исподволь подготавливая её к прослушиванию основного произведения. — Напротив того, финал обычно предназначен для подведения своеобразного итога (или «морали») законченного действия, в свою очередь, подготавливая публику к выходу вон из театра, концертного зала (или церкви).[комм. 8] И примерно такой же приём (о птичках говоря) нарочитого & механического сопоставления разнородных..., почти несовместимых стилей, блоков и идей — в свою очередь — образует изнутри и каждую из восьми частей «водевильной мессы» (или «церковной оперетты»). Собственно, здесь проявляет себя тот принцип, который и дал под’заголовок двух’часовой партитуре «Also sprach Zarathustra» (klerikalische Singspiel), каким-то чудом... некогда (в течение двух десятков лет, скажем условно) имевшей своё место в человеческом мире.
| ||||||||||||||||||||||||||||
– Только в платяном шкафу можно сделать хорошую карьеру... ( М.Н.СавояровЪ ) [1]
Д амы и господа!..., (прошу прощения..., надо бы в единственном числе). — Ещё раз...
ама и господин!.. Одна и один. Сугубо между нами. Доверительно и заверительно...[комм. 9]
— Also..., для всех остальных..., — итак..., и так (и этак) вы пожелали услышать об этом сочинении. Вы сообщили мне о своём желании. Вы пожелали его исполнить. Вы пожелали его записать. Наконец, вы пожелали, чтобы о нём узнали все..., все остальные. — Во всяком случае, вы..., вы так сказали. Разумеется, я вам не верю, потому что... (говоря в скобках) вы не ведаете, что говорите..., и ещё потому что... вы праздничные & праздные скоты и подлецы, не знающие своего места и права.[14] — И тем не менее, невзирая ни на что, я отвечаю на ваше по...желание: скажем, в последний раз, после всего.[15] — И ныне я всё-таки рассказываю вам (всего в двух словах): о том, чего нет и никогда не будет промеж вас... в вашем бес...конечно дряблом и убогом мире №2. Чтобы не загибать пальцы по порядку... Итак..., — повторю я ещё раз для всех остальных. Данное... (очень удачное слово)..., именно так: данное... с особой остротой (не)интересующее вас сочинение исполнено в странном жанре «церковной оперетты» (vaudeville d’eglise) и почти в точности соответствует этому определению. От начала до конца она (оперетта) или оно (сочинение) представляет собою непрерывное и педантичное сопоставление наиболее закостеневших форм ортодоксального грегорианского хорала (XXII век после РХ) с одной стороны, — и наиболее разнузданных форм венской оперетты (XIX век после НЖ) в лице, скажем, Франца Зуппе или Карла Целлера..., заранее выпуская из этого ряда Жака Оффенбаха или Шарля Лекока. Равно как и в обратном порядке... Тем временем, я продолжаю, стараясь не обращать внимания на спотыкания и невольные ошибки... — Итак..., считаю себя обязанным предупредить заранее. Данное сочинение (чтобы не переходить на какие-то другие) в высшей степени проникнуто немецким духом: снизу доверху и слева направо. Однако подчеркну особо: сказанное касается не характера музыки, которая в большинстве своём совершенно клерикальная, и только временами водевильно-космополитическая, но по твердолобой и неуклонной последовательности в наведении тотального порядка, чем-то неуловимо напоминающего армию Фридриха, короля Пруссии. Заранее (с)сужая предложенный масштаб зрения и воз’зрения, я бы сказал, что в лице партитуры «Also sprach Zarathustra» мы имеем лучший образец (практически, эталон) голштинской церковной оперетты.[комм. 10] ...Если бы меня по какой-то причине звали «Фридрихом», — Собственно говоря, здесь я не могу ничего противопоставить сказанному выше: приведённая в начале партитуры фамилия автора текста (Нитче), а также его имя (Фридрих) втихомолку говорят — о том же. Для всякого культурного типа последнего времени, это лицо конца XIX века являет собой очевидную рекомендацию и даже своеобразный знак качества. Несомненный продукт старинной смеси восточно-прусского, ост’зейского и кур’ляндского этнического начал, храмовый водевиль «Also sprach Zarathustra» вполне может считаться за первый известный образец (сублимации в высоком искусстве) глянцевого армейского сапога, традиционно попирающего христианские ценности.[14] — Не советовал бы принимать мои слова слишком близко к сердцу и другим субпродуктам.[17] В качестве основы взят текст всего одной главы (притчи) из книги Фридриха Нитче: «О молодых и старых женщинах» (специально привожу здесь..., сюда..., и отсюда... самый нейтральный вариант перевода). Однако, рано радоваться. Текст этот повторяется десятки раз... до мелочей — с невиданным упорством, которому могли бы позавидовать даже молящиеся тибетские буддисты. — И я вовсе не случайно привожу здесь такое сравнение. В самом деле, повторяемость на территории церковного водевиля «Also sprach Zarathustra» не имеет ничего общего с минимализмом, а также его иными производными или мельчайшими антагонистами. Любой символ веры, начиная от Credo и кончая Bredo требует бесконечного числа повторений от своих адептов, верных и неверных. До потери внимания, понимания и сознания... — Именно так молились наши ортодоксальные коммунисты (с потёртым томиком Ильича в руках). В точности так же поступали с текстами католических месс и христианские служки. — И тем не менее, не всё так г(л)адко. Упомянутая строкою выше, «всего одна из глав» книги Нитче «Так говорил Заратустра» в странной (бого’служебной) версии (vers Khanon) звучит два (2) часа и ещё семь (7) минут сверху. Даже беглого взгляда на эссе «О молодых и старых женщинах» достаточно, чтобы понять: использованное время поистине непомерно и может быть оправдано только неким культовым значением, придаваемым каждому слову. В полном подобии тому, как это случалось и ранее с фантазиями евангелистов или иными канонизированными текстами, наподобие Credo или Amen, где любой слог может стать поводом для протяжённой мессы. — Ради удобства публики «церковный водевиль» разделён на два акта: первый и второй, в виде главного итога которых регистрируется изменение сознания слушателя. Впрочем, такой результат, скорее всего, не входил в планы автора. Забота о публике — ничуть не достойное дело для Каноника. Не исключая, впрочем, и всех остальных... ...В любой ситуации существует такая правда, Состав исполнителей — сольный, слегка средневековый, как и полагается для грегорианского хорала, а также для тех случаев, когда речь заходит о молодых и старых женщинах (понимая их исключительно в абстрактном & философском смысле слова). Короче говоря, ансамбль соборный и мирской, вполне в традициях нашей матери (церкви имени святого Михаила), а также её нескольких сыновей (без уточнения). С другой стороны, состав исполнителей — тем более сольный, в полной мере кафе-шантанный, как и полагается для разнузданного канкана, играемого прямо на улице (или паперти), перед входом в мать нашу, церковь (также имени того Михаила). Короче говоря, музыканты должны быть в любую минуту готовы к очередному (числом восемь) перевоплощению: из клира в мир. Инструментальный инвентарь обозначен достаточно скупым образом, оставляя таким образом максимальное место для минимально неверных толкований и рефлексий. Глядя в партитуру, прежде всего, мы обнаруживаем в ней четыре (4) стандартных духовных духовых прибора: Flöte, Hoboe, Klarinette (in B) und Fagott. — Смотрим далее..., где угадываются ещё два человека, привлечённых, вероятно, со стороны (скорее всего, негры или местные портные). Они играют (руками и ногами) на восьми ударных устройствах, расположенных в две строки: Holzblock, Guiro, Peitsche,[комм. 11] Hi-hat, Tamburin, Kleine Trommel und zwei Tom-tom. Слегка утяжелённый струнный квартет (не)достойным образом венчает эту церковно-водевильную банду: zwei Violine, Violoncell und Kontrabass (mit C) — видимо, пятиструнный или со спущенным басом (не уточняется). К перечисленному комплекту зачем-то добавлено ещё и «церковное пианино» oder «концертный роял’» (по выбору первоосвященника), на котором должен играть тапёр (скорее всего, Эрик-Альфред-Лесли).[комм. 12]
Отдельного (грубого) слова заслуживают певцы, конечно. Как кажется (вернее говоря, как казалось ранее) при взгляде на партитуру, их — всего четверо или четыре: причём, все сняты & взяты из клира. Их лица..., — впрочем, не будем о дурном..., я думаю, эти две пары могли бы вдвоём составить отличный квартет из троих в полном одиночестве...[15] Перечисляю их здесь в порядке убывания: два церковных тенора (высокий и средний), благочестивый баритон и, наконец бас-профунд (глубокий). Если подвести бухгалтерию, получается странная цифра: пятнадцать (15) партикулярных игроков на музыкальных инструментах (а также на нервах). Однако в качестве двойной черты в аннотации к «церковной оперетте» сказано нечто иное... «Итого: всего 16 исполнителей». Кто здесь лишний..., или откуда появилось некое дополнительное (невидимое) лицо, так и остаётся неясным. Можно долго гадать..., или загибать в нерешительности пальцы, надеясь на чудо..., но его — не будет. Больше не будет. И меньше — тоже.
Do-o-o-omine miserere, Domine miserere no-o-o-o-ostri...,
Scryptum Post :
с видимым облегчением выдохнул он, покидая (очередное) молельное помещение..
| |||||||
|
Ком’ ментарии ( как )
Ис’ сточники ( и что )
Лит’ература ( сказал )
См. так’же ( что ещё говорил )
« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »
| |||||||||||||||||||