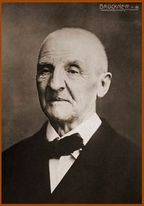Икона и Симфония (Борис Йоффе)
( побочные последствия одной болезни ) [комм. 1]
К Или — в форме, непосредственно переживаемой каждым: на той территории и в то время, когда я — это я...;[комм. 3] но, в таком случае, где же оно, это самое я, которое связует воедино все моменты моего бытия..., и какое оно? И вроде бы мелочь..., но всё же..., хотелось бы знать. Может ли и оно быть подвижным, изменчивым, текучим? Но если напротив: может ли оно быть неизменным, и что в таком случае собою представляет пресловутая Вечность, в которой оно пребывает?.. Сохраняется ли оно в случае болезни (или так называемой болезни), фрагментирующей я? Но сохраняет ли оно индивидуальные черты, будучи очищенным от потока случайной (предположительно, случайной) информации? Если да, то является ли оно своеобразной формулой обработки информации? Формулой, созданной, определённой самим этим непрерывно движущимся потоком? Узлом, воронкой, сохраняющей форму, статичность, определённость, но — не абсолютные, а только изменяющиеся более медленно, чем проходящий через них поток (поток-в-себе, способный, могущий проявить себя как то или иное в зависимости от свойств интерпретирующего восприятия — визуально, аудиально, тактильно и так далее..., всеми прочими известными человеку способами)?.. Относительно статичные, условно неизменные черты его, исходящие из функции потока информации и связанные с культурой и социумом, фиксируются особой комбинацией букв и цифр, привычной мантрой, повторяемой в течение всей жизни, когда всякий день, просыпаясь, словно бы заново обязан припомнить своё имя, дату, связи, ассоциации, долги и доходы: всё здесь происходит на уровне языка...[комм. 4] Да-да, я повторяю: языка как модели мира: безусловно, более гибкой, подвижной, но и короткой...[комм. 5] Другой, куда менее произвольный, более статичный и неизменяемый уровень я — это эмоциональные и интеллектуальные его характеристики, его способ, стиль, навык, инстинкт интерпретировать (информацию) и эмоционально реагировать (на неё). Следующий же уровень, связанный со страхом, болью, удовольствием, производный от агрессии и секса как источников (или потерь) энергии, оказывается одновременно — базисным, фундаментальным уровнем я, и вместе с тем — его (того же я) отменой или снятием. Самое же чувство единства с самим собой, причастности и непосредственного переживания своего идеального, неизменного я, оказывается глубоко вторичным: всего лишь функцией или мотивирующей иллюзией. Это чувство, на первый взгляд кажущееся столь непосредственным, по-видимому, в большой степени формируется той конкретной культурой, посреди которой рос и развивался субъект. Для современной западной культуры оно постепенно стало краеугольным камнем, центральным мифом индивидуальности, на поддержание веры в который направлены разнообразные ритуалы и словесные формулы. При этом раскрывается полный спектр, начиная от догматизации и пропаганды — и кончая свободной рефлексией, релятивированием и даже отрицанием я. Использование в философской рефлексии вербального языка с его чёткой моделью мира (как места, в котором расположены предметы, обладающие заранее известными свойствами и взаимодействующие друг с другом) неизбежно ведёт к тому, что каждый философ формирует язык как бы заново — что парадоксальным и естественным образом приводит..., — нет, вовсе не к однозначности текста, а напротив — к множеству его интерпретаций. Не’вербальные концепции, таким образом, изначально и сразу — несравненно более определённые, и (одновременно) менее определённые. Созерцая здание, скульптуру, картину, слушая музыкальное произведение, читая стихотворение (в последнем пункте вербальный язык утрачивает свои притязания на адекватность мироустройству), пресловутое я может оказаться в более тесном и непосредственном единстве с самим собой: быть, не зная, раствориться в восприятии как своём высшем или единственном назначении — и в этом словно бы обрести себя: пожизненно. Именно на такой результат (прямой или побочный), вероятно, нацелены и многие известные религиозные практики. С прекращением художественного (религиозного, мистического) переживания возникает новая необходимость вербализации, возвращающей к реальности культурного мифа. Опыт в этой точке заканчивается... и начинается знание, обеспеченное рассудком, памятью, преемственностью...[комм. 6]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
П
роблема оппозиции статического и динамического, вероятно, не столь значительна в культурах, ориентированных на представления о цикле. Здесь даже идеальное, неподвижное я легко может быть представлено как — замкнутый (или само’замкнутый) – процесс. Динамика — есть динамика возвращения, движение — форма статики. Повторяющаяся цепь священных событий статична, и колесо времени, тихо вращаясь, высвечивает их одно за другим; всё индивидуальное, личное находится на перефирии сферы, центр которой — циклический миф. Этой структуре идеально соответствует икона, позволяющая как бы человеческими — производными и подчинёнными непрерывному течению времени — глазами увидеть нечто высшее и неизменное.[комм. 7] Здесь немыслима не только катастрофа, но и событие вообще.
Катастрофой циклически оформленного мира становится догадка о его линейности.[комм. 8] С этого момента грамматические формы времени становятся подлинными властелинами мира. Прошлое (то, что уже было) не повторится никогда; а настоящее (то, что есть сейчас) — лишь предвкушение, преддверие того, что будет. Начинается многовековой (постепенный и поступенный) переход из иконы — в фотографию, долгий путь, «полный чудесных открытий»... Уже Джотто с его изменённым зрением изображает библейские события не как вневременные сцены некоей вечно повторяющейся мистерии, а вполне конкретные события, имевшие место один раз (единожды!) в определённое время в известном месте. И небо там было вполне синим (а не золотым), и ослик взмахнул хвостом, по потребности... Однако до подлинной фотографичности, имитирующей увиденный человеческим глазом срез действия, процесса, движения, и снимающей всякую сакральность — ещё бесконечно далеко (у Джотто изображённые события всё-таки имеют особый статус, это ключевые моменты, опорные точки: сказочные чудеса, откровения, легенды).
|
Синтез иконности и фотографичности возникает на рубеже XV и XVI веков — и оказывается глубочайшим прорывом, принципиальным достижением человеческого духа; прежде всего, в творчестве Ботичелли, Беллини, Карпаччио, Чимы, Грюневальда. Посмотрим в качестве ярчайшего & наглядного примера на музицирующих ангелов одного из мастеров предыдущего поколения (я имею в виду Бартоломео Виварини), — здесь нет ещё стремления схватить и удержать какой-то один определённый момент: ангелы всего лишь держат инструменты в руках, условно передавая вполне абстрактное представление о чём-то бесконечно-далёком и прекрасном: рисуя некую обобщённую и утончённую картину небесной музыки. — Совсем не то у Карпаччио, Беллини и их современников, запечатлевших, кажется, совершенно определённый звук, аккорд, интонацию, передавших разом и моментальное настроение музыкантов, и технические детали вполне конкретного эпизода в исполнении известного им произведения. Такими же схваченными в определённый миг кажутся и все остальные — основные — персонажи картины: поза, жест, взгляд... И дело здесь вовсе не в том, что художник старшего поколения не владел (или не овладел) ещё техникой имитации пространства на плоскости, моделирования света и тени, имитирующими видимое человеческим глазом, а только в том, что определённость, конкретная точность момента ещё не стала центральным эстетическим элементом. Но и следующие поколения художников, уже вполне виртуозно и профессионально владевших перспективой и светотенью, вовсе не отошло ещё от представления о вечном, неизменном и неподвижном. В этом совершенно особая сила их работ, сочетающих в себе конкретную моментальность и фотографичность — со строгой гармоничностью, идеальностью, статичностью композиции (даже в нарративных полотнах): здесь, словно в доме свиданий, встречаются и сталкиваются мгновение и вечность, индивидуальное и всеобщее, случайное и необходимое. Техника точного моделирования у них — лишь одно из выразительных средств, перспективное единство картины может многократно и разнообразно нарушаться, последовательно релятивируясь и создавая (как, например, у Чимы и Грюневальда) сложное наложение плоскостей, где некоторые персонажи, находящиеся поблизости или даже рядом, остаются словно бы незримыми и недоступными друг для друга.[комм. 9]
|
Кажется и хотелось бы поверить, что все эти мастера (не так уж их и много...) были титанами мысли, прозорливцами, сумевшими в едином своём умозрении соединить динамическое и статическое, линеарное и циклическое, вечное и сиюминутное, предопределённость и свободу. Но уже в следующий момент с ужасом видишь, что уже Тициан с какой-то особой умной и горькой трезвостью констатирует у самого себя полное отсутствие мистической интуиции или, проще говоря, веры... До предела честный и трезвый перед самим собою, он даже и не пытается имитировать магический символизм своих предшественников и учителей, — но создаёт глубоко продуманные «постановочные фотографии»,[комм. 10] драматические сцены, пронизанные динамикой, словно бы освещённые мгновенной вспышкой, — отдельные удержанные моменты в потоке происходящего (причём, моменты эти он выстраивает так, чтобы можно было, созерцая картину, реконструировать предшествующие события, проникнуть в чувства или намерения персонажей). Линеарное представление о времени устанавливается на века, и вместе с ним — представление о со-бытии, об ответственности, о свободном выборе и возможности влиять на остальной мир. Поток времени на поверку оказывается сетью причинно-следственных связей, прошлое — бесконечным множеством фотографических моментов, будущее — объяснением и оправданием прошлого и настоящего.
Время здесь становится не просто и-з-м-е-р-и-м-ы-м, но и более того — равномерно делимым и, тем самым, единым и общим для всех: бесконечно соединяющим и разобщающим. Все элементы мироздания в согласии синхронизируются между собой и подчиняются едино’направленному потоку времени. Неподвижное, неизменное, вечное переходит в разряд мифов, на соборах появляются... механические часы, которые, в принципе, понемногу заменяют не только ангелов, но и самого́ Бога...,[комм. 11] так что бедному Ницше уже и нечего было к ним добавить..., равно как и отнять.[4] Прежде неотчётливое и почти размытое я в новой схеме становится единственным и неповторимым, с ростом чувства индивидуальности возрастает и чувство её ценности. Живопись оказывается важным..., даже важнейшим средством поддержания нового культурного мифа и, в принципе, сводится к фиксации, сохранению моментов, отвоёванных у непрерывного событийного потока, свидетельством наличия прошлого и настоящего, непрерывно (каждую секунду!) преходящего... и переходящего в прошлое, а затем и сливающегося с ним.
Ко времени изобретения дагерротипа и последующего за ним распространения фотографической техники уже во многих поколениях господствовало представление о мгновении как объективной реальности, увиденной (разве только не фиксированной) человеческим глазом. Стремление передать непередаваемое, невидимое, неизменное остаётся присущим лишь немногим инвалидным художникам, в первую очередь — Рембрандту, Эль Греко, Веласкесу, ради создания особой реальности обращающимся в своих картинах к своеобразным сюрреалистическим техникам.[комм. 12] И всё же решительный и окончательный, как видится, поворот..., почти переворот приходит именно с повсеместным распространением фотографии. Это — фактическое освобождение живописи от функции фиксации окружающей жизни..., — освобождение, потенциально релятивирующее..., разрушающее основания веры в событийность и линейность времени, а вместе с ними — и в устоявшуюся систему отношений личность-история... Правда, поначалу самооценка художника, волшебным образом освободившегося от диктата имитации реальности, видимого момента, ещё — и с огромным ускорением — возрастает. На первое время ему ещё мнится словно бы пойманное его могучей рукой за хвост будущее, на проверку оказывающееся банальным квадратом, — нет, даже не чёрной темнотой Рембрандта, скрывающей за своей спиною всю полноту мира, но — пустым, как экран телевизора (одушевить квадраты силой своей жизни удаётся только Ротко).[комм. 13]
Всё творчество художников после’фотографической эпохи оказывается сплошь упрощением нового синтеза подвижного, моментального и неизменного, впервые найденного, вероятно, Сезанном: его работы — это одновременность предмета изображения, видимого, у’виденного, зафиксированного, сфотографированного, и — неподвижной плоскостной композиции цветовых пятен.
 Икона
Икона 
Симфонии
( глава последняя )
|
С
появлением Сезанна и его (в том числе — великолепных) последователей живопись, наконец, переставшая обслуживать миф об объективной реальности и линейном времени, после длительного перерыва вновь занимает место рядом с музыкой, вытеснившей её в качестве главного изобразительного инструмента метафизики — уже в XVI веке.
Начиная с (якобы «строгой») полифонии Ренессанса, проблемы, связанные с природой времени, изменчивостью и неизменностью, случайностью и закономерностью, идеей и материей и, в конечном итоге, сущностью и значением я, рассматриваются именно музыкой. Кажется, она попросту следует за живописью со значительным опозданием — и при всей неизбывной, постоянно возрастающей эмансипации линеарного, динамического, оказывается неспособной полностью отказаться от статики и неизменности. При этом именно она до такой степени стремится к освобождению от вербальности и социально-исторической контекстности, что может временами служить идеальным местом встречи я с самим собой (причём, практически в равной степени: как для композитора, так и для исполнителя или слушателя, разница между ними только в потребности или готовности). Сложно организованное время полифонии Ренессанса предполагает..., и равно полагает существование гармонии, порядка, закономерности, идеальной неизменности при относительном отсутствии синхронности; пожалуй, это звуковое явление можно сравнить со сложной, не-единой перспективой у поколения художников, предшествующего Тициану и Микеланжело. Единый моментальный фотографический срез времени не играет серьёзной роли ни у Окегема, ни у Жоскена, ни у Палестрины (она сводится к элементарной маркировке конца разделов). Музыка ни в коей мере не моделирует здесь становление, однонаправленный каузальный поток, разделённый на вехи-события.[комм. 14] Пресловутое я в пространстве звука наделено индивидуальностью и выполняет свою функцию в целом — без необходимости подчинения диктату единообразия.[комм. 15]
Дальнейшая поляризация происходит в музыке барокко, характеризующейся всеобщей, прикладной и даже утилитарной танцевальностью (между прочим, ещё один шаг в сторону свободы от вербального): время в таких условиях становится единообразным, общим для всех, измеримым, делимым и образующим структуру как в направлении малых единиц, так и в направлении крупных. Наконец, «коллективная» синхронность получает статус закона, аксиомы — но не ведёт сразу к примату линеарной модели времени: танец цикличен и, в конечном итоге, статичен (как некая постоянная ли заранее известная последовательность движений). Следствием принципа синхронности, или, лучше сказать, средством метрической синхронизации становится функциональная гармония, ведущая к завершению строительства тональной системы, релятивирующей линейную модель времени и, в конечном итоге, не только враждебную, но и противоположную ей. Если синхронность является аналогом перспективы (фигуры в изысканных позах с картин маньеристов начинают буквально двигаться в танцевальных залах), то тональная система — это неизменный, неподвижный идеальный скрытый принцип всякого движения и изменения. Синтез динамического и статического становится доступным непосредственному переживанию ещё в большей степени, чем на полотне, и до такой степени интенсивным, что музыка оказывается альтернативой вербализуемой картине мира во всей её социально-исторической красе.
|
Всё это великолепие достигает абсолютной полноты в творчестве Баха, ко всему прочему — сумевшего каким-то чудом — влить старое вино в новые мехи, соединив ритуальный годовой жертвенно-искупительный цикл ветхих земледельцев с представлением об одноразовых священных исторических событиях, а индивидуалистическое самоутверждение со смиренным аскетическим стремлением к растворению в вечном Абсолюте (...«credo in unum Deum»). Тональная система в его парадигме полностью раскрывает свой потенциал как неподвижное в сумме пространство, организованное вокруг равнозначных центров, связанных сложными гравитационными связями, поочерёдное доминирование которых создаёт непрерывную динамику, течение времени. Равновесие динамики и статики у Баха — связано с акцентом на статику: таковы и основные жанры (танец, хорал), такова и реализуемая им в формообразовании (в идеале — баховская фуга) концентрическая модель времени (произведение строится словно бы по центробежной силе: от изначальной формальной идеи к периферии — звучащему множеству, воплощающему, раскрывающему, раскрашивающему и украшающему исходную идею).
Величественный баховский синтез динамического и статического, прежде чем уступить место абсолютизации динамического начала, напоследок реализуется ещё раз Гайдном и Моцартом – практически, то же самое равновесие, разве только — с акцентом на динамике. Музыкальная форма мыслится как движение, процесс, развитие, последовательность взаимосвязанных событий, однако нет ещё нарративного, по сути, детерминистского принципа решения в конце (в финале) проблемы, поставленной ещё в начале. Начало и конец конструкции находятся в одной плоскости, одном замкнутом, циклическом пространстве; динамика, становление релятивируются полаганием игры, художественного произвола творящей личности. Если Баха вдохновляла некая заранее известная система знаний о мире, определённый культурный миф, то у Гайдна и Моцарта музыка оказывается моделью человеческой личности во всей её парадоксальности, — моделью тем более адекватной, чем менее она претендует на объяснение, вербализуемое знание, концептуальность. Кажется, эпоха этих двух композиторов — единственный остров свободомыслия, свободы духа от идеологии и догматизма в узком пространстве европейской культуры.[комм. 16]
Строгая событийность, нарративность, прямо-таки бешеная динамика оказываются стихией музыки у Бетховена и его многочисленно-бесчисленных последователей. Произведение становится процессом неуклонного исчерпания некоей проблемы, заданной в начале; процессом достижения последнего и окончательного решения. Строгая, точная, умная просчитанность этого процесса становится как бы невидимым дополнением, техникой создания иллюзии спонтанности, сиюминутности, неизвестности будущего и одновременно устремлённости к нему: таким образом, статическое начало оказывается как бы трансцендентным целенаправленному потоку становления. Это сразу и неизбежно поднимает и статус художника, как повелителя стихии, — и соответствует «пост-наполеоновскому» представлению об отдельно взятом человеке как вершителе истории. — Можете не сомневаться: отнюдь не случайно именно композитор оказывается, в конце концов, центральной и, одновременно, финишной фигурой в развитии европейского культурного мифа XIX века: Вагнер, конечно.
Бетховен в своём творчестве не просто предвосхитил, но и, по сути, исчерпал все основные возможности эстетики динамического (до Лахенманна включительно);[комм. 17] доведя до совершенства технику создания ощущения целенаправленной динамики, он создал также и прецедент буквального перехода и превращения отдельного элемента музыкального текста — во внешнее событие социально-исторической реальности. Конечно же, я разумею — финал Девятой Симфонии, когда начавшаяся, было, музыка словно бы прерывается вторгающимся извне волевым усилием. Эффект вполне театральный, почти кинематографический..., — как сказал бы всякий искусствоведческий специалист, привыкший всё на свете низводить до своего уровня... — Однако на деле всё выглядит гораздо серьёзнее: отсюда — уже рукой подать до превращения самого факта исполнения определённого произведения — в бесконечно значимое событие мира, мистерию, судьбоносное свершение или даже «вовсе» конец света, как это мыслили Вагнер, Скрябин, Обухов, Штокхаузен и многие другие.[комм. 18] Однако такое поворотное событие может иметь место всего лишь один раз,[комм. 19] и таковым, как это ни горько признать, оказалось вагнеровское «Вступление к Тристану и Изольде». — Движение, становление и динамика здесь превратились в самоцель, а экстатическое предвкушение — стало бесконечно длящимся состоянием (будущее желанно и недосягаемо). Прежнее я вместо эмоционально пережитого утончённого и углублённого умозрения — как в искусстве Грюневальда, Ботичелли, Баха, Моцарта, — релятивирующего будничное я вербализуемого мира, отменяющее его, — переходит к снимающей (или даже «отменяющей») личность стихии, неоформленной энергии. Вагнер с его дурманящим любовным напитком высвобождает эту стихию, прежде находившуюся под запретом, легализует её, утверждает, провозглашает... Словно в заранее назначенной точке «Ж» со всею неумолимой очевидностью — происходит облагороженный искусством поворот к „сексуальной революции“, — но не только к ней. Одержимая стихийной экстатической динамикой личность видит себя одновременно властелином истории, вершителем событий, — кошмарная иллюзия, почти немедленно потребовавшая массовых жертвенных обрядов войны и революции.[комм. 20]
|
Представление о человеке, деформирующем, преобразующем мир и самого себя во имя абстрактного (умозримого и умозрительного) будущего, не исчезли и после катастроф XX века, — разве только изменился набор ритуалов и заклинаний: теперь это — техническое совершенствование, утилитарная оптимизация мира и человека. И вчера, и сегодня этой концепции, стократ подкреплённой несомненными практическими успехами, не так уж и просто отказать в привлекательности (в особенности, потребительской)... И музыка, и живопись... всё более получают статус умирающих языков прошлого, как линеарная, динамическая модель со всеми её безумными притязаниями (между прочим, теперь и фотография стала манипулируемой, а с ней и — окончательно — всё прошлое), так и непонятые, неуслышанные в глухоте времени альтернативы ей, данные Шубертом и Брукнером.
Если у Бетховена и его последователей время представляется в виде горизонтальной оси, подобно историческому — и здесь уже не важно, с какой интенсивностью оно при этом может компримироваться — то произведение Шуберта подобно виде́нию или сну, длящимся по вертикали к будничной реальности.[комм. 21] Тональная система оказывается способной передавать не только движение вперёд, но и движение вглубь (или в высоту), когда одно событие не влечёт за собой другое, но является словно бы его хрупкой непрозрачной оболочкой, скорлупой. Статическое начало, неподвижность у Шуберта ассоциируется со смертью, одновременно пугающей и влекущей.
...Доминирование динамического начала, ставшее возможным с появлением тональной системы, постепенно перерастает её, перестаёт в ней нуждаться, избавляется от заложенных в ней статических элементов. Рассуждения о преодолении тональности связываются (опять же!) с именем Вагнера, хотя в предельно радикальной форме нарративность как формообразующий принцип, игнорирующий формообразующие свойства тональной системы, дан раньше, уже у Берлиоза. В после’вагнеровскую эпоху тональность снимается различными способами (уже у Скрябина модуляция заменяется смещением или транспозицией): переходом в размывающий всё ещё хорошо узнаваемые бетховенские контуры шпрех’гезанг и далее — к «шумовой» «новой» (всё в кавычках!) музыке, к модальности и, как её частному случаю, различным альтернативным способам деления октавы. Полнейшую же и окончательную свою реализацию тональная система находит у Антона Брукнера. Словно идеальной формы и размера лакированный дубовый гроб,[комм. 22] брукнеровская симфония начинается и заканчивается в заявленной тональности, и модуляционный план формальных разделов соответствует неким общим «бетховенским» правилам, — но..., прошу прощения..., но гармония организована так, что тоникой того или иного построения в следующий момент может оказаться практически любая тональность. На протяжении всего произведения любые тональные центры сияют в одновременности как звёзды на небосклоне, показывая себя во всех сложных взаимосвязях и являясь одновременно каждый — и центром и периферией.
Если шубертовское виде́ние эскапично,[комм. 23] — оформляя собою отказ несчастного я, рефлексирующего о смерти, от любой включённости в контекст, в историю, в общую временную горизонталь, — то брукнеровская симфония (включая и его Квинтет, между прочим) построен как осуществлённый во времени переход от одного неподвижного виде́ния к другому — от темы к теме — словно созерцание вечных сущностей (или разных аспектов единой сущности) обречёнными на временность, неизбывное движение, человеческими глазами.
...Если дальнейшая эмансипация динамического начала связана с постепенным отказом от тонального универсума, выпадением из него, то композиторы, не желавшие покидать этот универсум, так или иначе, ориентированы на брукнеровскую статику: вспомним, к примеру, Скрипичный концерт Берга, Четвёртую симфонию Шмидта или Третью Лятошинского...[комм. 24]
снова прозвучал в пустыне...
волей случая...
Излишние ком’ ментарии
и... такие же ис’ сточники
| |||||||||
Das Publikum verwechselt leicht den,
Was ist das Verhältnis zwischen Dynamischen und Statischen? Ist dann das Statische, das Unveränderbare des Ich eine Art Illusion, von der die Korrektheit der Ich-Funktion abhängt? Sind die Beständigkeit, Selbstgleichheit, Kontinuität des Ich auch vom kulturellen Mythos abhängig, also gleichzeitig ein individuelles und ein kulturelles Konstrukt? — Für das regelmäßige Funktionieren in der Kultur, in der Gesellschaft werden die unveränderbaren Züge eines Ich als Code fixiert, eine Zahlen- und Buchstabenkombination, ein Mantra für tagtägliches Wiederholen: beim Aufwachen muss man sich an seinen Namen, sein Geburtsdatum, Soll und Haben erinnern; hier spielt sich alles auf der Ebene der Sprache als Welt-Modell ab. Das Gefühl (die motivierende Illusion) der Identifikation mit sich selbst — mit dem eigenen idealen unveränderbaren Ich — kann man als den zentralen Mythos der westlichen Kultur sehen, ihr Eckstein. Dem Aufrechterhalten dieses Glaubens dienen vielfältige Rituale, wobei sich ein breites Spektrum offenbart: von der Dogmatik und Propaganda bis zur freien Reflexion, Relativierung und gar Aufhebung des Ich. Beim Betrachten eines architektonischen, plastischen, künstlerischen Werkes, beim Musikhören und beim Lesen eines Gedichtes (hier zieht die Sprache ihren Anspruch, ein adäquates Modell der Welt zu sein, zurück) kann das Ich in dem Prozess der Wahrnehmung, des ästhetischen Erlebens, sich selbst unmittelbarer erleben, als eine intensivere Einheit mit sich selbst: es kann sein ohne zu wissen. In dem intensiven Wahrnehmungsprozess löst sich das Ich auf — und findet dabei sein Wesen. Diesen Zustand zu erreichen dürfte auch das Ziel unterschiedlichster religiöser Praktiken sein. Hört dieser Zustand des ästhetischen (mystischen, religiösen) Erlebens auf, ist das Ich wieder auf die Sprache angewiesen, auf das Verbalisieren, auf die Realität als Konstrukt des kulturellen Mythos’. Das Erleben, die Erfahrung wird durch Wissen — Erinnern — ersetzt. Mit dieser Vorstellung werden die grammatischen Zeitformen zu wahren Herrschern des Seins. Das, was war, wird sich nie wiederholen, und das, was ist, ist nur die Vorahnung dessen, was sein wird.
Somit beginnt die Verwandlung der Ikone in die Fotographie, ein langer und spannender Weg. Schon Giotto zeigt die biblischen Geschichten nicht als überzeitliche, ewige Mysterien, sondern als einmaliges Geschehen, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort: der Himmel war blau (und nicht golden), der Esel wedelte mit dem Schwanz... Aber es ist noch
sehr lange bis zur vollständigen photographischen Imitation eines „eingefrorenen“ Schnitts eines Prozesses, einer Bewegung wie ein Auge es sehen würde — eine Imitation, die alles Sakrale aufhebt (bei Giotto haben die dargestellte Szenen noch einen besonderen Status, es sind Schlüssel-Momente, Wunder, Offenbarungen). Es setzt sich die lineare Zeitvortellung durch — für Jahrhunderte — und somit die Vorstellung von Ereignis, freiem Willen, individueller Verantwortung und der Möglichkeit, die Welt und die Geschichte zu beeinflussen. Der Zeitfluss wird als ein Netz kausaler Beziehungen konzipiert, die Vergangenheit als eine Unendlichkeit von photographischen Momenten, die Zukunft als Erklärung und Rechtfertigung der Gegenwart. (Fjodor Tjutschew) Die Zeit wird auch nicht nur prinzipiell messbar, sondern gleichmäßig unterteilt und somit einheitlich und gleichermaßen gültig für alle; alle Elemente der Welt werden miteinander synchronisiert und der in eine Richtung fließenden Zeit untergeordnet. Das Unbewegliche, Unveränderbare, Ewige wird als Mythos entlarvt, und auf den Kathedralen erscheinen Uhren, die letztendlich Gott ersetzen, sodass Nietzsche hier kaum etwas ergänzen konnte. Das Ich wird einmalig und unnachahmbar, mit dem Wachsen des Individualitäts-Gefühls wächst auch das Gefühl des individuellen Wertes. Die Kunst wird zu einem wichtigen Mittel, den neuen kulturellen Mythos zu untermauern, und beschränkt sich grundsätzlich auf die Aufgabe, einzelne Momente zu fixieren, zu bewahren, die aus dem Fluss des Geschehens herausgerissen werden konnten, und die die Existenz der Vergangenheit beweisen sollen — bzw. die Existenz der immer zur Vergangenheit werdenden Gegenwart. Zur Zeit der Verbreitung der eigentlichen Phototechnik herrscht die entsprechende Ästhetik schon seit vielen Generationen, und die objektive Realität wird eben als ein mit dem Menschenauge gesehener Moment verstanden. Das Streben, das Unsichtbare — Unveränderbare — wiederzugeben, bleibt nur wenigen Künstlern eigen: Rembrandt, El Greco, Velasquez, die auch einen gewissen Surrealismus pflegen.
Eine grosse Wende in der Kunst ist eben dem Verbreiten der Phototechnik zu verdanken: die Kunst wird von ihrer Aufgabe befreit, die sichtbare Realität festzuhalten, und somit wird auch der Glaube in die Struktur der Zeit als eine Ereignis-Kette relativiert — und somit auch das Beziehungssystem Persönlichkeit — Geschichte. Die großartige Synthese von Dynamischen und Statischen, die Bach geschaffen hat, wird noch ein Mal erreicht bei Mozart und Haydn: das nämliche Gleichgewicht aber jetzt mit der Betonung auf dem Dynamischen. Die Musikform wird jetzt als Bewegung, Prozess, Entwicklung, Abfolge von Ereignissen gedacht, aber noch ohne das narrative Prinzip, eine Anfangssituation konsequent bis zum Schluss zu verfolgen, zu entwickeln und endgültig zu lösen. Anfang und Ende liegen noch in der selben Fläche, in dem selben abgeschlossenen zyklischen Raum, die Dynamik, das Werden werden durch das Element des Spielerischen relativiert, durch die Anwesenheit der eigensinnigen schöpfenden Individualität. Wenn Bach von einem bestimmten Weltbild inspiriert war, einem Wissens-System, einem kulturellen Mythos, so ist die Musik Mozarts und Haydns ein Äquivalent, ein Modell der menschlichen Persönlichkeit in ihrer ganzen Paradoxie, das umso mehr adäquat wirkt, wie weniger es eine Erklärung, ein verbalisierbares Wissen, ein Konzept zu sein beansprucht. Es scheint, die Epoche der früher Wiener Klassik ist die einzige Zeit in der europäischen Geschichte, wo der Geist frei von Ideologie und Dogmatismus war. Die streng narrative Kausalität und die fast wilde Dynamik werden zu Hauptelement der Musik Beethovens und seiner vielen Nachfolger. Ein Werk wird zum Prozess des Ausschöpfens der am Anfang gegebenen Situation, zum Prozess des Erreichens einer letzten, besten, endgültigen Lösung. Die strenge, genaue und kluge Kalkulation wird quasi zu einem unsichtbaren Teil der Komposition, zu einer Technik, eine Illusion von Spontanität zu schaffen, von der Ungewissheit der Zukunft — das Statische transzendiert damit das Werden, den zielgerichteten Strom des Geschehens.
Somit ändert sich auch das Selbstgefühl des Künstlers, sein Status wird quasi zum Herrn über die Elemente erhoben; es entspricht der Napoleonischen Vorstellung vom Menschen als Schöpfer der Geschichte. Und nicht zufällig wird ein Komponist letztendlich zur zentralen Figur in dem europäischen kulturellen Mythos: Wagner. Beethoven hat in seinem Schaffen die wichtigsten Möglichkeiten der Ästhetik des Dynamischen (bis zu Lachenmann einschließlich) nicht nur angedeutet, sondern eigentlich auch ausgeschöpft; dabei hat er nicht nur die Technik der Imitation einer spontanen zielgerichteten Entwicklung vervollkommnet, sondern auch die Präzedenz der Verwandlung eines musikalischen Ereignisses in ein quasi reales sozial-historisches Ereignis. Ich meine das Finale der Neunten, in dem die Musik, die schon begonnen hat, wie durch einen äußeren Willens-Angriff unterbrochen wird. Da ist man fast schon bei der Vorstellung eines Musikwerkes als eines Mysteriums, einer magischen Aktion, einer schicksalhaften Wende — wie es bei Wagner, Skryabin, Obuchow oder Stockhausen der Fall sein wird. ...Das Dominieren des Dynamischen, das das tonale System erst ermöglicht hat, wächst über dieses System hinaus, braucht es immer weniger, befreit sich von den diesem System eigenen statischen Elementen. Die „Überwindung der Tonalität“ (die auch mit dem Namen Wagners in Verbindung gebracht wird), das Narrative als formbildendes Prinzip, das die formbildenden Eigenschaften des tonalen Systems ignoriert, findet man schon bei Berlioz.
In der Nach-Wagner-Zeit wird die Tonalität auf unterschiedliche Arten aufgehoben (schon bei Skryabin wird manchmal Modulation durch Transposition ersetzt — und schon bei Debussy gehen die funktionalen Beziehungen, die „Gravitationen“, verloren): zunächst werden noch gut erkennbare „Beethovensche“ musikalische Konturen zu einem verwaschenen Sprechgesang, um sich dann in eine Geräusch-Musik zu verwandeln, und das Tonale wird grundsätzlich durch das Modale ersetzt, ob in Form unterschiedlichster Klang-Reihen oder in Form alternativer Temperierungs-Systeme. Dabei findet das tonale System seine vollkommene Realisierung im Schaffen Bruckners. Eine Brucknersche Symphonie beginnt und endet in der vorgegebenen Tonart, und der Modulationsplan im Ganzen entspricht einem allgemeinen „Beethovenschen“ Schema, dabei ist die Harmonik aber so organisiert, dass in jedem Aufbau praktisch jede Tonart zur Tonika werden kann. Während des ganzes Stücks strahlen alle tonalen Zentren quasi gleichzeitig — in all ihren komplexen Beziehungen, sodass jedes gleichzeitig das Zentrum und die Peripherie ist. Boris Yoffe &
| ||||||||||||||||
|
Лит’ ературы ( в родительном падеже )
См. тако же
— Некоторые желающие сделать заметку или помарку,
« s t y l e d & s c a l p e d b y A n n a t’ H a r o n »
| |||||||||||