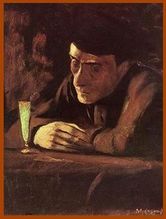Упавший Галич (Олег Иванов)
( за головок... бес комментариев ) Н Мне всегда казалось, что он прекрасно сознаёт силу своего дарования, ощущает магию своего мастерства, знает себе цену. Казалось ― до странного эпизода начала 1970-х на засыпанной снегом Котельнической набережной. Произошло вот что. Мы ― Галич, его жена Ангелина Николаевна и я ― вышли поздно вечером от журналиста «Известий» Анатолия Аграновского, чтобы поймать такси. Медленно ― после выпитого за вечер ― передвигавшийся Галич вдруг рухнул в сугроб, наметённый вокруг фонарного столба, и растянулся на спине, уставившись в звёздное, студёное московское небо. Остро кольнул страх: сердце, очередной инфаркт!.. «Саша (я уже тогда пытался звать его по имени)! Что? Зачем?! Почему?!» «Володя... я говно... полное говно», ― простонал Галич. Попробуем хотя бы немного переварить и уяснить себе приведённый выше текст, отчасти, трафаретно-мемуарный по своему тону, но очевидным образом оживлённый словами Галича... Как заметно с первого взгляда, для самогó рассказчика здесь важен вопрос об отношении Галича к своему творчеству, к своему месту в культуре, а символическое «падение» его в сугроб — всего лишь внешняя форма, которое это отношение проявила, — форма, бесспорно, эффектная, и даже не без элемента драматического напряжения («остро кольнул страх...»), но всё же, не более чем форма. Главное в рассказе Фрумкина, конечно же, не она. Если попытаться хотя бы немного приблизить зрачок к описанному Фрумкиным случаю, — за матовой поверхностью биографической истории очень скоро откроется целое пространство новых смыслов.
Напомню на всякий случай: «странный эпизод» с кучей снега происходит «в начале 1970-х на Котельнической набережной», — в то время, когда пресловутый «брежневский застой» (с наглостью революционного матроса) принялся занимать все места в партере провинциального театра, — в котором разыгрывалось последнее действие жалкого водевиля под названием «история СССР». Надежды хрущёвской оттепели уже изрядно потускнели и пожухли, впереди — только гулкая пустота, безвременная жизнь и «своевременная» смерть. Сомнительная «настоящесть» советской жизни во всём прежнем блеске идеалов покупалась только за счёт её фактического сокращения, — медленного самоубийства алкоголем, излюбленным «опиумом народа», который, благодаря этому крылатому выражению известного немецкого агрессивно-непослушного бородача,[4] оказывался ближним родственником религии. Собственно, это и была — религия..., или, по крайней мере, её энциклопедический эрзац: выйти после обильных возлияний на очередной встречи с милыми сердцу людьми на морозный воздух и — рухнуть плашмя в сугроб искрящегося снега, утонув взглядом в холодном, чистом, волшебном звёздном небе, — не важно, московском или петербургском. За другие города не ручаюсь, в таких ситуациях мне больше нигде побывать не привелось. С чем же можно было сравнить сие почти религиозное погружение в хрустальные тверди небосвода?.. — Сразу отринем всё высокое, оно очевидно было не эстетическим, и даже не психологическим. Признаемся себе прямо: оно было утробно и физиологически необходимо. Необходимо — как добрая кружка холодного пива с похмелья, того животного советского похмелья, которое обычно приходило как — расплата... после соборных «литургий» с возлияниями. Только посвящённый..., только тот, кто участвовал в подобных священнодействиях, ведает: что значат убийственные секунды ожидания, пока грозная, молчаливая от сознания собственной власти тётка за стеклом пивного киоска наливает пиво в кружку, — что значат первые два-три судорожных, до опасности захлебнуться, огромных глотка, после которых голова алчущего проясняется,[5] а сердце — наконец — наполняется тихой радостью и покоем обретения. Какой безумец в такие моменты способен подумать о том, какой непоправимый вред «наносится организму»?.. — Пустое. Религия взыскует жертвы. Она требует и понуждает к ним, снова и снова. А вовсе без религии, без веры — нельзя, невозможно..., ибо без неё обмелеешь, сдохнешь в своём человеческом обличие, сольёшься с миллионами,[6] превратишься в пылинку, винтик, песчинку «советского народа». Впрочем, народ тоже не отставал, пил по-чёрному, однако тут было одно отличие: в звёздное небо он — не смотрел. Возможно, он для того и пил, чтобы не поднимать глаз от стакана и заглушить стыд от своего никчёмного существования.
Правда, партийные <едино>борцы с этой нашей новой и одновременно старой (как мир) религией «ad spiritus» довольно скоро догадались, как ещё можно подгадить своему населению. — Нет, я вовсе не имею в виду горбачёвскую антиалкогольную «компанию». Словно бы действуя на опережение, ещё много раньше они запустили в небо некий подрывной объект, — искусственный спутник земли, который всякой ясной ночью смотрелся посреди небосклона как маленькая, движущаяся с какой-то подловатой медлительностью по небосклону звёздочка, которая, кроме всего, умела издавать довольно гнусный комариный радио’писк. Так «бывшая» лагерная пыль начала осваивать богоданные «просторы» космоса. Поистине эпохальным стало это достижение, когда один, с позволения сказать, академик из сталинской «шаражки» (вообще-то в СССР существовал только один академик по имении Андрей Дмитриевич Сахаров;[комм. 2] остальные же «учёные», наученные кнутом и пряником, были обыкновенными рабами КПСС, по-собачьи виляющими хвостом перед своей мерзопакостной хозяйкой, как бы чего не вышло...), создавший «спутник» получил хорошенького пинка от «органов», чтобы достойное найти применение своим талантам. Короче говоря, ему было велено заняться чем-то таким, что впредь составило бы предмет гордости многонационального народа СССР. — И народ оказался достоин своих героев: он послушно возгордился..., и до сих пор продолжает гордиться, поглядывая на небосклон своей великой родины... Скрыто торжествуя и пряча улыбку в усы, словно непойманный серийный убийца, — который (между делом) ещё и поставил мировой рекорд по прыжкам в воду и теперь (со всеми к тому основаниями, разумеется) может считать себя — оправданным.[8] И ныне, и присно, и вовеки веков: он уже ни в чём не повинен, ибо единственный прыжок (в воду) искупил — всё. И как волшебный царь Додон вышел он из кипящего молока новеньким (и даже паспортные данные — другие): ни дать, ни взять, добрый молодец...[9] И вокруг тоже всё — как новенькое. И никакого 1937 года не было..., а если даже и был когда-то... в незапамятные времена, то уж теперь, после 1957 года, он совершенно заглажен, побледнел, исчез как привидение и вообще может быть признан небывшим. — Вот так всего одна безыскусная звездёночка по имени sputnik, плеснув промеж прочих светил чайную ложечку дёгтя, раз и навсегда изменила смысл — а равно и бессмысленность — всякого взгляда в небеса. Незадолго до отъезда Галич был у нас на дне рождения Люси. Он спел, в числе прочих, посвящённую ей ностальгическую песенку о телефонах. Спел он в тот раз и свои, звучащие как завещание: “А бойтесь единственно только того, кто скажет: “Я знаю, как надо!..“ <...> В 1977 году Галич приехал в Италию, где находились Люся (на операции для лечения глаз) и Таня и Рема с детьми, незадолго перед этим вынужденные эмигрировать. С Люсиных слов я знаю о трогательном эпизоде, произошедшем с Галичем и моим четырёхлетним внуком Мотей. Саша звал ужинать в какой-то близлежащий ресторанчик. Мотя почему-то не хотел идти и заявил: ― Я не пойду, ты не тот Галич. (Он уже знал о Галиче-певце, его песни уже существовали для него, но отдельно от Галича-знакомого). ― Как не тот? И Галич порывисто и легко встал на одно колено, положив на другое гитару, и запел: ― Снова даль предо мной неоглядная... Мотя несколько минут внимательно молча слушал, потом сказал: ― Дидя Адя тоже хорошо поёт. Это было признание Галича...[10] Так чем же, — хотелось бы спросить между прочим, — была эта выплюнутая из недр социалистического хозяйства звёздочка в нашей системе религиозно-политических координат? Плевком в спасительную кружку пива, «оскорблением чувств верующих»?
Пожалуй, так... Благодаря небольшому небесному грызуну под ударом оказалось — всё небо. Впрочем, сразу оговорюсь: во времена Галича эти плевки ещё не стали буднями советской космической программы. Они оставались событием и даже редкостью... И когда после очередного закаченного концерта с застольем у Аграновского Александр Аркадьевич завалился в снег вверх лицом, то с большой долею вероятности увидел он пред собой чистое небо, не загаженное плевками... и всё же успел совершить свою малую литургию. Ибо не мысль о себе любимом, и не забота о славе своей нетленной и всё в таком же духе было для него в этот момент главным, а — сама возможность приподняться над собой и утонуть в божественном, высоком, подлинном, в сопоставлении с которым всяк человек единое «говно есмъ». Конечно же, далеко..., — далеко не первым и не последним стал Саша Гинзбург на этом вечно замкнутом пути снизу вверх и обратно...[12] У неизбывного «самоумаления-самоудаления» богочеловека история обширная и более чем древняя;[13] в покаянном православном каноне, скажем, есть такие слова «якоже бо свиния лежит в калу, тако и аз греху служу».[14] Эти слова не раз сказаны святым, праведником, и сказаны они для того токмо, чтобы увидеть своим собственным внутренним взором нечто подлинное, не подлое, не свинское, — короче говоря, нечто такое, чем никто из нас, не срываясь и не падая, обладать не может. И там же... наверху, поддавшись возносящему его переживанию, Галич приметил и звезду Мандельштама, человека, безусловно, родной ему крови: предтечу или предшественника, прошедшего по тому же краю..., и туда же сорвавшись. — К слову сказать, и самого Мандельштама образ звезды всегда волновал и тревожил, навскидку могу припомнить сразу несколько стихотворений «со звездой». Вот, например, обжигающая строфа из известного «века-волкодава»:
Так неужели же здесь, перед лицом нечистого московского неба, Галич собирался с кем-то «меряться талантами»? Так неужели же ему понадобилось (после всего выпитого и спетого) завалиться в кучу несвежего городского снега только ради того, чтобы с горечью для себя признаться и признать во весь голос, что Ося Мандельштам — стократ выше, что он — там, у звёзд, подле попискивающего спутника; а я, всего лишь Саша Гинзбург, — всё ещё здесь, застрявший по шею в говне? — И неужели же мистер Фрумкин (при всём моём небесном уважении к нему), всерьёз полагает, что Галич «простонал» весь свой говняный спич только от огорченья по поводу внезапно осенившей его «второсортности»? — Нет..., не поверю и ещё сто раз не поверю, — будучи его современником..., и вящим исповедником (в те же времена!) той же «алкогольно-снежно-мразно-звёздной» религии, к которой — несомненно — прилежал и принадлежал сам Александр Галич. — Ведь не был же он, в конце концов, пошляком, мелочной душонкой, чтобы вводить себя в изьян по такому пустяковому поводу.
И пусть он готов был «искренне, по-детски радовался, когда его замечали и отмечали», пусть он «жадно ловил любые свидетельства признания»..., в конце концов, разве и Мандельштам (в своё время) не вёл себя таким же образом: это так по-человечески понятно и естественно в человеческом же способе существования. — Но совсем иное дело: когда ты изрядном подпитии, когда почти ничего «окружающего» для тебя уже — нет, когда и в самом деле инфаркт стоит за спиной..., и когда прямо перед глазами — оно, звёздное небо... Неужели и тогда суетное сиюминутное «признание» пресловутых «окружающих» играет ту же самую роль, чтобы краснеть от досады и впадать в ревность к звёздам? — Выпасть из жизни, завалиться в сугроб, обрести крылья, чтобы... — с важным видом расхаживать по земле? — Ерунда и ещё раз ерунда, никогда не поверю: ни в сугробе, ни подле него... А вот во что я очень легко поверю: что не был Александр Галич пошляком и глупцом. И в этом своём понимании остаюсь на все сто верен своему «религиозному чувству» той поры. И ещё верю — в совершенную реальность той свободы, которая открывалась ему в этом чувстве. Пускай на единое мгновенье, пускай не безупречно по «моральному облику», пускай «во грехе» беспорядочной жизни, пускай даже самоубийственно. Пускай всё так, но только... — не оскорбляйте религиозных чувств верующих! Ибо со всей очевидностью пел Галич, лёжа в сугробе, — «осанну в вышних»,[17], а не каялся или стонал анафему. А если даже и стонал усумнившися, то в любом случае оставался непричастен, ибо раз и навсегда «жена Цезаря вне подозрений».[18] Итак, закончим пустые прения. Раз и навсегда судом установлено, что «падение Галича» есть — некое суррогатное культовое действо, однозначно возвышающее его над Фрумкиным & K°. И лучшим тому свидетельством служит простейший факт, что никто более упасть навзничь в сугроб, чтобы упереться в звёздное небо, тогда не догадался, поскольку не имел к тому достаточного предназначения. — Услышав вопрос Фрумкина, Галич «почему-то указал на небо». Но куда же ему ещё было указывать? Может быть, на расположенную поблизости уличную тумбу с плакатом «Мы придём к победе коммунистического труда»?.. Или, скажем, на стоявшую рядом Ангелину Николаевну, при всём к ней почтении? А может быть, его указующий перст должен был упереться в самогó Владимира Фрумкина?.. Его знаменитые ныне песни мы впервые услышали не со сцены, а за столом, и было это во второй половине шестидесятых. Я помню застолья у нас на Часовой, у Наума Гребнева, Успенских, Рязанова, у Марины Фигнер и Ляли Шагаловой, у Нины Герман. Накрывался стол, ставили водку и еду, разговаривали. Саша пел охотно и много, его записывали на маг<нитофон> — вместе с разговорами, репликами, смехом и замечаниями Ани. У меня хранятся именно эти, любительские записи с живыми голосами уже многих ушедших, а не шикарные диски, которые появились у нас тридцать лет спустя, где всё очень музыкально и чисто, но до которых Саша и Аня не дожили. К концу вечера Саша заметно хмелел, хотя Аня следила, чтобы ему не наливали, и тщетно увещевала окружающих. Однажды она мне говорит: «Я умираю хочу в уборную, но боюсь отойти. Саше тут же нальют, а ему нельзя, у него же больное сердце, никто не хочет с этим считаться. Что же делать?» — «Сиди тут, я принесу тебе горшок!» Но кроме смеха: чтобы ограничить его «выпивание», она забирала у него стопку и, спасая его, сама спивалась. Это грустно и трагично. Потом, в эмиграции, она лечилась в клиниках. Но кончилось это ужасной и нелепой её смертью.[19] Гипотеза сравнительного «масштабирования» талантов во фрумкинском рассказе бросает на память о Галиче и ещё одну тень, — что, однако, имеет и кое-какой положительный оттенок, поскольку заставляет задуматься о некоторых немаловажных вещах. Дело в том, что ценностное сравнение поэтических статей Мандельштама и Галича бессмысленно по самой своей сути, кто бы его ни пытался провести: будь то сам Галич или некий сторонний «эксперт» в истории литературы, и сколь бы само’униженным ни представлялся Галич по результату сравнения. — Для начала, искусство Галича проходит совсем по другому ведомству; в отличие от того же Мандельштама, он — не поэт, а шансонье, бард, ярчайший представитель жанра авторской песни, получившего в СССР широкое распространение как раз в эти годы, начиная от шестидесятых и вплоть до конца восьмидесятых годов. Бардовская песня стала своеобразной отдушиной, заняв место «духовного компонента» или символа приватной жизни, ещё дозволенной для советского человека (в отличие, скажем, от Северной Кореи). — Материальным и, если угодно, «классовым» основанием авторской песни была, например, хижина на шести сотках. Как раз оттуда, из открытых дверей или окон этой хижины чаще всего и звучал в тёплые летние деньки магнитофонный голос, чаще всего Высоцкого, возникавший поверх будней жизни в законный и вожделенный для советянина «выходной».
Словно глас божий, звучал он повсюду: и на городских кухнях, и в палатках «туристов», и на пьянке-рыбалке, короче говоря, всюду, где только можно было спрятаться от досматривающего взора советского идеологического тираннозавра, а паче всего — его верных сатрапов и прислужников «от искусства», — наподобие маленькой сволочи Пахмутовой, Кобзона и прочих иже с ними... Превыше всего здесь была интимная компактность и камерность..., чтобы не вспоминать о тюремной камере. Ведь автору-исполнителю в пределе не нужны были ни залы, ни оркестры, ни хозблок, ни концертная администрация. Словно человек-оркестр, един во всех лицах, он был сам себе «всем» и душевно кормил (чтобы не сказать: окормлял) своим «всем» — других, доверительно и ненасильственно задавая масштаб их личного существования, пускай и весьма скромный (а временами даже скоромный). — Однако никакой «поэзией» это искусство не было и сравнивать его с Мандельштамом или даже Шумахером нет ни малейшего смысла... Мантра авторской песни доходила до слушателей во многом благодаря мелодии, интонации, музыкальному ритму, не в последнюю очередь — тембру и другим характеристикам конкретного исполнительского индивида. А потому — почти невыносимо по своей бездарности и пошлости выглядят снобистские попытки «исполнять» песни того же Галича, со стороны, например, Градского. Пожалуй, оставаясь в пределах своей «градскости» он, возможно, ещё не окончательно пошл и бездарен. Впрочем, не стану напрасно утверждать... Не знаю и знать не желаю, так ли это «на самом деле», но могу утвердить наверное, что сделать Галича способен только Галич. Только он сам создаёт из своего творчества — литургию, а из себя — событие (чтобы не сказать: со-Бытиё). Именно потому столь прекрасно осознавать, что благодаря отцу родному и благодетелю нашему, Томасу Эдисону,[комм. 3] в последнюю сотню лет голос человеческий получил возможность не исчезнуть и не затеряться в тёмной глубине прошлого. Короче говоря, его надо бы сохранять, а не заменять на всякие подделки. — Хотя, если по-человечески..., то неизбывное стремление «примазаться» к чему-то настоящему, конечно, понятно. И ничего сверх’естественного в нём нету. Так..., или примерно так дело обстоит с «песенником», напевающим рифмованные строки. Голос же поэта — только голое слово, свободное от всех одежд и обременений. Его нельзя не только заместить, но и к чему-то приспособить. Потому слово само по себе, поэтическое слово и есть очищенный образ свободного слова вообще, слóва подчиняющегося только своим собственным законам и живущего внутренним давлением. — Оно свободно ещё и потому, что взыскует для своего существа — одной только божественной санкции, призвания или призыва, если угодно. И последнее его свойство с порога отсекает любой произвол или словоблудие болтливого плебса — от подлинной свободы. Оглядываясь назад, в начальные годы двадцатого века, невольно поражаешься, что поэтические вечера..., вполне «обычные» поэтические вечера, лишённые малейшего оттенка развлечения..., вечера, на которых выступал, к примеру, Блок, Гумилёв или Есенин (не говоря уже о Северянине пополам с Брюсовым)..., собирали полные залы. И не только в столицах. Сколько в России ещё было тогда людей, желающих и способных воспринимать слово, и тем самым — людей как таковых. Поэзия, выросшая из исподнего духа мира, — продолжала владеть этим миром, как в открытую, так и подспудно, — ведь и у великой прозы, если поверить на слово Михаилу Бахтину, «тоже» была своя поэтика.[21] Другое дело, что владеть она согласна только теми, кто способен и готов ей подчиниться добровольно, для кого «слово» вообще значимо, только тогда живые токи древнего мифа продолжают питать душу народа.
Во времена падающего Галича такого рода поэзия в «массовом» смысле была в пределах СССР уже не нужна.[комм. 4] Родовая народная энергетика земли её уже покинула в своей критической массе. Понятно, что брюзглеющие на глазах советяне уже не могли черпать ресурсы свободы у больших поэтов. Их приватно-микроскопическое бытие, омещанивающееся на глазах, требовало — совсем другого голоса, что и отразилось в авторской песне. Двусмысленность этого бытия уже предполагала не только возможность закрепления в чём бы то ни было подлинном, но и тяготение к получению лёгкой иллюзии, (в лучшем случае, а в худшем) ко лжи, «нас возвышающему обману». Редким, очень редким «бардам» удавалось как-то обойти или перепрыгнуть этот социальный заказ, в то же время, не утеряв своей популярности. Едва ли не конвейерным поставщиком подобного рода иллюзий (пускай и невольным) был, например, Владимир Высоцкий... при всей несомненности своего дарования. Его хриплые, прошибающие до глубины души, крики под судорожное бренчание гитары рождали подспудное ощущение, что даже находясь здесь, завязнув по шею в гомогенной жиже советского застоя, вопреки всему ещё возможно какое-то движение, почти самоубийственная попытка — прорвать, прорваться, вырваться... неизвестно куда. Словно бы на пределе возможностей, разорвав жилы воплем наподобие «крика» Мунка, всё-таки можно остаться человеком, невзирая на тотально обесчеловеченное и обесчещенное окружение. Для беспросветного советянина, заживо похороненного в реальности своего мира, песни Высоцкого были подобием своеобразной адаптации платоновского мира идей, где всё по-настоящему и всё имеет свой смысл. Разумеется, и здесь не обходилось без духовных возлияний (spiritus вины): накалённая атмосфера этих песен априори предполагала гранёный стакан (обязательно гранёный) водки и в комплект к нему, непременно, дозу суровой закуски советского стиля: кусок хлеба, солёный огурец среднего размера (один на троих), чахлая селёдка (если повезёт). В такой мизансцене платоновский «мир идей» прямо на глазах приближался — к реальности, хотя... до галичевского звёздного неба ему было как спутнику до марсохода. — В отличие от невысокого полёта Высоцкого, почти наглядная свобода Галича ради достижения желаемого психологического состояния ещё не играла на педали «романтического» разрыва с реальностью. Скорее, она выглядела результатом какой-то войны: опустошительной и давно проигранной. Словно апокалиптический ангел-истребитель, каждому из своих слушателей Галич предлагал значительно более тяжёлый и страшный (в сравнении, например, с портативными кошмарами Высоцкого), но зато — несравнимо более реальный и одновременно тонкий вариант свободы. Его свобода — как томительное переживание, как последняя убийственная тоска по всему непоправимому, что давно прошло, давно в прошлом, что невозможно как-то изменить или хотя бы вернуть, и что никогда уже не состоится. Именно оно, это проникающее чувство невозвратной потери и самая невозможность обретения придаёт его свободе настоящую полноту переживания и самоотдачи, — полноту поистине ностальгическую, фатально невозможную в реальных вещах повседневной «мирской» жизни. Интервью на политические темы Высоцкий за границей избегал. Особенно интересовало журналистов его мнение о Галиче. Володя убедительно просил их не задавать о нём вопросов. Имея на руках советский паспорт, он обязан был вести себя лояльно: «Хвалить Галича в моём положении значило лезть в политику, критиковать же изгнанника я не хотел и не мог». И, с лёгкой иронией, добавил: ― Сейчас Галич меня всячески расхваливает, всем рекомендует слушать. Нельзя назвать это выбором по воле, личным решением романтика. Конечно, не так, совсем не так. Прежде всего, сама советская власть железной рукой спецслужб позаботилась о Галиче, надёжно оградив его от подобных искушений. Силой «непреодолимых обстоятельств» места и времени действия она попросту принудила его быть таким, каковым он и вынужден был сделаться: без особых вариантов и попыток уклониться в сторону. Потому у Галича и не ощущается сакраментального разрыва с пресловутой реальностью. Пожалуй, лучше всего это можно услышать через исключительное настроение глубочайшего сожаления, смертной тоски и безнадежной надежды «Когда я вернусь...», какого-то потрясающего по степени смирения внутренней самоиронии монолога, — гениальной и, наверное, лучшей из его песен. Едва заслышав первую строку, первый вздох, становится пронзительно ясно, что у автора песни нет ни малейших оснований «мериться» с Мандельштамом в поэтических достоинствах своего творчества. — Мир Мандельштама, Блока, Гумилёва... или какого-либо другого крупного русского поэта относится к какой-то другой вселенной, видимой разве что — в той позиции, лицом вверх, глядя из грязной кучи снега посреди московской мостовой. Галич и Мандельштам — это разные миры, съединённые только бесконечно тонким и чувствительным творческим нервом. Пожалуй, точнее всего звучит голос этой вселенной, глядя в обратном направлении (сверху вниз) из прозрачно-скупых по своей прямоте строк Георгия Ивáнова, этой «последней надежды» русской поэзии:
Галичу, в отличие от Георгия Ивáнова, — было необходимо не только вычитать, но и выпеть (выпить) подобное состояние, пережив его не поэтически, а «песенно», через свой живой ещё голос, через свою, живую ещё интонацию, наконец, через своё, живое ещё дыхание...
Именно в таком качестве, оставшись песней (даже лебединой песней) в живом ещё исполнении, она и оказалось доступной «народу», многим из его числа и осталось навсегда как новое переживание ещё одной, неминуемо надвигающейся катастрофы. Таковы же, например, по своему действию и пронзительные галичевские «Облака».[26] Типичная, на первый взгляд, «лагерная лирика», каким-то невероятным образом взлетевшая на голосе Галича из смертельных абаканских сугробов до заоблачного уровня настоящего искусства... Эта песня, — нет, не песня, — почти стон внезапно оказался близким, доступным и даже внутренним для средне’советского «маленького человека», — доступным — без малейшего принижения. И там, в «Облаках», под облаками наши глаза опять невольно натыкаются на знакомый уже взгляд вверх, de profundis — из терний в звёзды, несущий в себе попытку принять судьбу на грани собственного согласия с ней. Но только на грани, нигде не заступая заветной черты. — Это последняя предсмертная свобода человека, который потерял всё, но последним усилием слабеющих пальцев ещё удерживает самого себя в своей человечности, — свобода, которая заявляет о себе тем же томительным и смиренно-торжествующим переживанием. Облака, они реальны, небесны и даже грандиозны, но в каком-то смысле — иллюзорны. Они лишь фикция третьего воображения, на самом деле они — всего лишь мгновение, секунда, пустая эманация времени, — только помедли, повернись в другую сторону — и всё, их уже нет. И плывут по небу физически обусловленные «скопления пара»,[27] слегка похожего на дымок или «дым» тургеневский.[28] Но ни автора, ни лирический герой песни даже не пытается вывести их на «чистую воду», напротив того, он порывается вступить с облаками в отношения, то запанибрата, то умоляющие, то сравнивая себя с ними — и чудесным образом выигрывая это сравнение.
Если сделать два шага назад и вернуться к галичевской иронии и самоиронии, то она — в том числе и видимая из пресловутой кучи снега — оказывается настолько естественной и одновременно «сверхъестественной», что на ней следовало бы остановиться немного подробнее. Подобное слегка отстранённое отношение к себе лишний раз говорит о принятии Галичем реальности как факта, заставляющего изменить взгляд на самого себя и понудить всех остальных поступить так же, хотя бы в малой степени. Так уж случилось, дорогой друг, ничего не попишешь и ничего не исправишь, но изволь хотя бы не соглашаться и не совпадать с этим фактом, чтобы как-нибудь ненароком не растерять ушедшее в самые глубины души его неприятие. — Авторская песня... она ещё и тем отлична от поэзии, что существует исключительно в режиме прямого диалога. Она, если угодно, социальна, она требует немедленного отзыва, участия и даже ответа со стороны слушателей, которые должны не только принимать и воспринимать, но и продолжать... Шансонье, бард, певец не отделяется и не возвышается над слушателями, как это свойственно поэту. Никакими ходулями или котурнами здесь даже и не пахнет. Песенник — всегда здесь, всегда в человеческой гуще, пусть и в центре внимания, но не выше него, оставаясь одним из них, лицом к лицу, точно в рост, на одном уровне общего переживания. Авторская песня демократична, а не аристократична, ей не «внимают», переживают её, как нечто своё, близкое, чуть ли не сочинённое «после вчерашнего». Навряд ли кому-то из среднестатистических людей в СССР приходило в голову ставить себя (или, тем более, «чистить»)[29] рядом с «заоблачным» Блоком или ушедшей Цветаевой, — но Высоцкий или Галич, при всём почитании и почтении — «свои» в доску, родные и близкие. Песенник — не пророк или вещатель истин, а друг-наставник и помощник в трудную минуту. Но каким же голос с нами разговаривает Галич, и какую он рисует картину советского кошмара?..
Прежде всего, она напрочь лишена пафоса внешнего протеста. По Галичу: нам нет резона слишком сильно скорбеть по своей участи, принимая самих себя совершенно всерьёз и по большому счёту, — как это делает, кстати сказать, Высоцкий. У Галича не так. Где-то подспудно проходит пульсирующее понимание: во всём, что происходит, виноваты (и даже виновны) мы сами (по крайней мере, отчасти), а не какое-то таинственное чудовище Франкенштейна, произведённое на свет нашими предками в ноябре 1917. — Наверное, чего-то не хватает нам, малохольным, чтобы наладить жизнь..., то ли ума не хватает, то ли сердца. В общем, как ни крути, но мы и в самом деле — сущее говно, хотя и упорствуем в своём непризнании, и корим «русскую историю», что всё так получилось... А как результат, полюбуйтесь сызнова на знакомую картинку: «полстраны сидит в кабаках».[31] Многие из нас, «непризнающих и непонимающих», так и остались болтунами и искателями, которые вечно чего-то ждут да требуют от власти — исключительно за гранёным стаканом на кухне. Но «зато» многие иные — заплатили страшную цену за нашу общую национальную никчёмность..., и теперь, значит, с полным правом могут сидеть в кабаках, «цыплёнка есть табака» и с некоторым снисхождением поглядывать на облака, по-прежнему плывущие в Абакан. Собственно, это их кошмарно-притуплённое ощущение и стало мерой всех вещей — для нас, уцелевших (как сам Галич) и не пострадавших настолько страшно и непоправимо..., поскольку именно они, а не мы, окунувшись в глаза смерти, по полной программе вытянули лагерную лямку за нас всех, за наше трижды несостоятельное прошлое, настоящее и будущее, пальцев не хватить, чтобы загибать. Заглянем же в тарелку, где лежат бедные косточки цыплёнка, обглоданного старым з-к. А затем бросим взгляд и не него самогó, усталого «потребителя», безнадёжно отвалившегося на спинку стула и снисходительно-печальным взглядом посматривающего в ту сторону, в окно. — На облака, вестимо... Этот сомнительный отдых..., эта, казалось бы, такая нехитрая «свобода табака», выдающаяся каждому почти бесплатно, — собственно, это и есть для него вся «награда» за лютые лагерные страдания без вины осуждённого.[32] Страдание и беда — настоящие, на пределе человеческих сил. А компенсация — пустая, игрушечная, словно бы из дурного анекдота... — И кому бы пришло в голову вспомнить о каком-то цыплёнке, если бы высокая трагедия разыгрывалась — не здесь, а на каком-то другом этаже, где ходят короли с лирой или хотя бы висит ружьё на стене? — Но Галич предпочитает почти полуподвальное, на языке уголовной фени: «я коньяку принял полкило» и сигареткой ещё можно затянуться, а потому теперь, значит, я в своём праве и всё нормально. Значит, рекорд по прыжкам в воду снова поставлен, и облака по-прежнему плывут в Абакан, и земля до краёв полна костями, и камни придорожные слегка перестукиваются о том кошмаре, который люди здесь сотворили друг с другом, но старый зэк знает своё дело... Иронически и слегка свысока (с вершины снеговой кучи) посматривает он на всё богатство родины сквозь полкило коньячку и десяток колец вонючего сигаретного дыма. Ну да, пускай всё так, пускай вся жизнь прошла в кошмаре, необъяснимо, несправедливо, по-чёрному..., но ведь теперь я снова человек, не пыль лагерная..., и у меня даже имеются «права человека». Захочу, к примеру, и потребую у официантки пару ананасов..., а то, глядишь и шикану на вторую порцию советского коньяка, вовсе не такого уж плохого, если разобраться. Армянского, грузинского или дагестанского. Может быть, даже «белого аиста». И главное, ведь не всё ещё потеряно!.. Ноги, руки целы и «даже зубы есть», знать, повезло: вохровцы или конвойные недосмотрели, не все выбили на этапе, — почитай, пофартило. А может быть, даже протезы советская власть вставила... после реабилитации. Почти король — по советским меркам!
Может быть, кто-то скажет: да разве можно такое простить, забыть? Негодяи, убийцы, живодёры!..[комм. 5] Но мудрый зэк в ответ только снисходительно усмехнётся и раздавит очередной «хабарик» в пепельницу. Он-то знает, что значит это слово: «простить, забыть». Как говорится, он лично знакóм с этой нашей историей, и видал её не раз... на лесоповале или в промёрзшем насквозь бараке. — Вóт они где у него, все её пресловутые «законы», «политологии» и «социологии», которые обнуляются в любой момент... одним щелчком, лёгким движением прокуренных пальцев с окурком, пустой коньячной бутылкой, в конце концов, этим вездесущим и всемогущим гранёным стаканом, который «то ли пуст, то ли совсем пуст»... И всё что остаётся напоследок — минута молчания..., да и та — за спиной, под кожей, «между строк». Посреди сызнова воцарившейся эпохи реставрации, застоя, брежневского некроза... — Сермяжная правда старого зк, приподнятая на «пятачок» песни Галича, оказывается на поверку и сильной, и высокой. Как вышка вохровская между колючкой. Даже и не знаешь толком, кого благодарить за эту чудесную метаморфозу... То ли облака, то ли призрак табачного цыплёнка, возвысившегося до уровня «онтологического» обобщения? — Поди-разбери, чья тут вина, вино ли, говно ли, коньяк ли... Важнее, пожалуй, другое, а именно — событие или со-бытиё, внезапное как открытие того, чтó рядом с этим цыплёнком и облаками есть мы. — Гитара, шорох струн, негромкий глуховатый голос, дыхание вечности... — Неужели отдых..., всего лишь отдых... После всего...[8] Галич познакомил меня с Нюшей (тогда ещё не женой) в то лето, когда кончилась война. Была она женщиной необыкновенной красоты и неправдоподобной худобы. Соединение этих качеств тут же отразилось в кличке, данной ей нашей компанией: Фанера Милосская. Отстранённая всепроникающая ирония Галича сквозит и через его песенную «обработку» чужого поэтического текста, — это прозрачно заметно, если снова вернуться к «Трубачам» Михаила Савоярова. Редкий и тем более показательный для Галича случай (похожий скорее на опыт или психологический тест), когда он берётся за исполнение — не своего, даже, можно сказать — инородного сочинения, неизбежно наполняя приглянувшуюся ему импровизацию — принципиально иной интонацией и отношением. Здесь его внутренняя природа скорее вступает в борьбу с остро-эксцентричными куплетами, совершенно лишёнными в первоначальной авторской версии какого-либо оттенка многозначительности, торжественности или возвышенности. Даже не зная, кому принадлежит авторский оригинал, слушатель становится невольным свидетелем использования или, если осторожнее выразиться, интерпретации савояровского текста в духе — интермедии, перерыва или даже «отдыха» от основной темы Галича, такого Галича, которого мы помним и любим, негромкого певца последней, щемящей душу свободы, когда жизнь — прожита, и надеяться больше не на что, и сил что-либо изменить уже не остаётся. Нет надежды, но нет и страха, и безысходной тоски тоже нет. Есть некое сожалительное «созерцание истины» медленно плывущих по небу облаков.
Совсем иная картинка разворачивается в песенке про трубачей. Для Галича наступает словно бы нежданная минута отдыха, открывающая редкую возможность давно отложенного в сторону желания немного «пожить» между делом, пропустив рюмочку-другую без лишней боли, забот и огорчений. Словно на пару деньков закатиться в ведомственный санаторий, где попросту делать нечего (завалившись в кучу снега лицом кверху), кроме того, чтобы отдыхать..., — остаётся только лёгкость, ирония, принятие «ничто человеческого не чуждого», по сути, — та же свобода, без которой слабому человеку тоже не обойтись, но которая может стать не более чем эпизодом, забавной шуткой, перерывом в «серьёзной жизни», не претендующим на тяжкие размышления и серьёзную онтологию, которая сквозит и моросит беспросветным осенним дождём из каждой строчки облаков. — В конце концов, разве не так принято во время концертов? — Гений отдыхает..., одновременно позволяя своим слушателям немного улыбнуться, расслабиться и облегчённо вздохнуть. Предоставляет ли такую возможность савояровский текст? Вне всяких сомнений. — Любви и призрачного альбигойского озорства в нём столько, что даже известная рязаново-петровская песенка из фильма «О бедном гусаре замолвите слово» на тот же савояровский текст — пускай и по советским, конечно, меркам, — но всё же и она как-то состоялась. «Живи сам и дай жить другому..., будь ты не ладен, приятель, что ж с тобой теперь поделаешь...», — с приметным вздохом говорит Савояров любому, у кого появляется желание в очередной раз «использовать» его творчество. Даже и не знаю, у кого ещё можно найти такой-то «мирный» синтез принятия и отторжения, в высшей степени присущее Савоярову.
Это причудливое двуединство в варианте Галича переодевается в тот же шутовской колпак, совсем не савояровский по тону и тональности: «отдыхать — так отдыхать!..» Постепенно нарастая, в последнем куплете имитация «трубного гласа» превращается у нашего прекрасного барда то ли в бордель, то ли в настоящее куриное кудахтанье, а деревенская картинка приобретает все черты жанровой зарисовки, почти почти опереточной (в духе сталинских кинокомедий для увеселения «народа»).
Вот он, уже пьяненький, вылез из сарая прелестным летним утром и — почёсывается-покачивается посреди сельской площади. К видавшим виды штанам прилипло то ли сено, то ли солома — лишний свидетель активного отдыха на сеновале (и не в одиночестве, само собой). Солнышко светит, куры кудахчут. И даже самое слово «трубачи» в исполнении Галича «сглатывается» как-то по-куриному. Труба, которая составляет главную силовую линию в варианте Савоярова, в галичевской версии куда-то потихоньку сливается и уже никого никуда не хочет звать. Похоже, если она и есть, то это уже какая-то совсем другая труба..., скорее, даже насмешливая пастушья дудочка, которая существует только между нами, баранами да овцами — в шуточной проекции сельского романа или буколической идиллии. Потому-то с таким нарочитым принижением темы сакрального соответствия «плоти и духа» звучит галичевская шутливая отсебятина, почти советская, почти инженерская по своему застольному уровню... — Не сквозное «протруби и мне трубач»,[37] как это непосредственно следовало (бы) из савояровского стиха, слышим мы у Галича (ожидание встречи, голос тоски и мечты по «настоящему», и не только по части «телесного низа»), а — оскоплённое «протруби ещё». И это, прошу простить за прямоту, не простая забывчивость или актёрское перевирание текста, а — уже укоренённая в характере пошлинка, вполне обыденное хихиканье над бабской «ненасытностью» (или «вечной женственностью», как выразился бы герр Гёте). — Допустимо ли такое трафаретное сужение где-нибудь на скотном дворе или посреди «деревни». В карнавальном, раблезианском духе, разумеется — да. Во всём этом отдохновении а ля «настроение курятника» ощущается скорее ирония артиста над самим собой сегодняшним, чем над полувековой давности сюжетом савояровских куплетов, описывающим тайную историю посещения деревни военными трубачами. Уникальная способность оставаться собой, одновременно сохраняя ироническую дистанцию от себя как условие некоей игры, становится лишним свидетельством ещё сохраняющейся внутренней свободы. — Галич способен петь и о «палачах», и о «трубачах», не путая и не смешивая их между собой, и таким образом сохраняя свою собственную идентичность, отдельность своего лица. 27 декабря 1977 г. Вчера сообщили: в результате несчастного случая скончался Александр Галич. С ним было много связано: лихачёвщина, молодость, «котельная», моя очарованность им, ревность к Немке, гульба, знакомство с Адой, ленинградские вечера. Мы разошлись, вернее, нас развела Анька, из-за дурацкой истории с «Чайковским». Мне хотелось хоть раз увидеть его, что-то понять, связать какие-то концы, подвести итоги. Не вышло. — Слава богу, всё прошло (всё пошлое), всё в прошлом: одно короткое электрическое замыкание разрешило все сомнения.[комм. 7] Галича нет с нами уже около полувека, и у него больше нет ни малейшей нужды падать в сугроб — лицом в неприютное «московское небо», чтобы помериться своим местом с остальной «небесной иерархией». Приятно думать, что они прекрасно поладили с Мандельштамом и теперь уже вместе (в шутку, разумеется) пеняют русскому человеку за его энциклопедический «антисемитизм». Но если кроме шуток: а есть ли сегодня кому пенять (пускай даже в шутку). И где мы его нынче отыщем, этого «русского человека», чтобы припомнить ему кое-что?.. Не придётся ли и нам по стопам Галича — завалиться в тот же сугроб, чтобы попытаться хотя бы там, посреди морозной московской сферы отыскать его «небесные черты»?.. История, которая никого ничему «не научит», но и никого «не простит», эта история — так же как и время, как известно, — не стоит на месте. Свято место пусто не бывает. И если поэзия в России когда-то перестала быть насущной или необходимой, то следующим шагом подобная судьба ожидала — и авторскую песню в её настоящем, «звёздном» варианте. Остался ли сегодня хотя бы один..., тот, кому ныне пришёл черёд сочинять великие безделушки, пить водку, падать в снег, глядя в чёрное небо и ставить себя рядом... с Галичем, не Мандельштамом. В конце концов, не Олегу Митяеву же («...я надену свитер, связанный тобой, и поеду в Питер поездом-стрелой») — очень милое предположение, не так ли?![комм. 8]
Время суррогатных религий в «народном сознании» прошло (почти) без следа. А потому оставим пустые прения...[40] Как рёк (один известный) поэт: «теперь поговорим о дряни...», благо, она даёт избыток пищи для любых суждений.[41] В качестве сухого остатка (или осадка) воцарился всепроникающий дух всеобщей конвертации, финансового расчёта, спекуляции массовым драйвом и — поверх всего — хриплый цинический (нет, даже не цинический, а просто пошлый) смешок, раздающийся из песен — пускай не глупого, и не бездарного, но по-советски подловатого Серёги Шнурова, то ли наследника вохровца, то ли зк, слегка смахивающего на одного из персонажей Галича (после полкило коньяку). Следуя этому, по-советски подлому ровно’душию к человеческому призванию и месту, ему удалось именно что не соотнести, а — смешать до степени неразличимости, словно в алкогольном шейкере — верх и низ, игру и реальность, правду и ложь. И конечно же ему никогда не придётся по-галичевски падать в сугроб, поскольку он никогда «оттудова» и не поднимался. Его живые, но одновременно совершенно пустые глаза на вечно подростковом и вечно опухшем лице — попросту не обладают подобным порогом зрения, они не предназначены для встречи со звёздами. Этот певец..., прошу прощения, — он подлинно народен в исконном смысле слова..., ибо с некоего момента Икс «дух народа» радикальным образом переселился... И теперь он живёт уже теперь не в бесконечно далёких (как московские звёзды) Мандельштаме или Галиче, а — в нём, в нашем Шнуре, шнурочке родимом, но лишь потому (живёт), что, аккуратно следуя словам его собственной, Шнурова, и по-своему талантливой песне «Любит наш народ всякое говно», затем можно закономерно завершить словами из другой савояровской песенки (ничуть не менее зернистой): «...эка, право, эка, право, эка, право, благодать..., так и надо, так и надо, так и надо поступать»...[42] И здесь мы можем только с благодарностью констатировать факт чистосердечного признания артиста, в трёх словах выразившего весь круг явлений, к которому, бесспорно, относится и сам герр Шнуров, так и его говняно-почётная группа «Ленинград» (начиная от названия и кончая многоточием вокруг него)...[комм. 9]
После этих строк я не стану ожиданно о(т)говариваться, будто в моём тексте высказано так называемое «оценочное суждение», — разумеется, не так. В замечании о сугубой подлости Шнура ещё можно было бы заподозрить моё накопившееся (за последние годы) раздражение от его не слишком осанистой фигуры. Но увы, здесь всё гораздо проще и точнее... Его фирменная говённость, как её ни крути, представляет собой — прямой онтологический факт, который наверняка признаёт и он сам, и его поклонники (такие же, как он сам). Причём, не только признаёт, но всячески основывается и, прошу прощения за излишне точное слово, — опирается на него, как на фундамент своей деятельности. — Думается, что и другие властители дум и сердец нашей эпохи (Невзоров, например), с неменьшей основательностью суждения подозревают, что они представляют собой такое же «чистейшее говно», внутренне смирились с этим и потому безоглядно позволяют себе всё то, что приличный человек позволить себе не способен.[комм. 10] Ведь, положа руку на сердце, подобный статус имеет характер обширной индульгенции, ибо к говну никакие претензии невозможны, оно есть именно то, что оно и есть. Не стану напрасно гадать, подозревают ли принадлежность к той же категории материала такие патентованные и заслуженные (в пошлом прошлом) жуки-навозники как поющая Алла по прозвищу Пугач или летальная космонавтка Валя с Терешок. Скорее всего, нет... Вследствие старческой фанаберии и самоуважительного известкования мозга они вряд ли открыты для подобной самооценки (не говоря уже об оценке со стороны)... А потому, закончив эту часть речи, просто помолчим..., вместо напутствия.
Как говорится, о таком — либо хорошо, либо никак... Но вот что касается «творческой молодёжи», то подобных предрассудков у неё давно не наблюдается, поскольку некоторая свобода в оценках не только не мешает, но и напротив — помогает им жить по всё той же упрощённой логике: «аз есмь говно, а потому — какие ещё ко мне могут быть претензии: мне дозволено всё». Безо всяких ограничений следуя небесным предначертаниям великих предков, мы будем блевать на публике, отправляя естественные надобности, молотить в эфире или в социальных сетях всякую чушь и хрень, non stop сквернословить, корчить рожи и, как венец всего, демонстрировать задницу, своё высшее достижение. А любой упрёк ко мне снимается автоматически, поскольку я сразу и со всей возможной прямотой объявил, что я — говно и ни на что большее, нежели быть говном, не претендую. А потому такими «естественно сделанными» воспринимаются почти все шнуровские «шедевры». Но по существу всё их естество заключается единственно в том, что они вообще никак не сделаны. Они сами собой получились (как высрались), а все лирические герои шнуровской «поэзии» совпадают с самим собой, изображая исключительно самих себя и ни на что не претендуя. Следуя смело из-за кулис на сцену, с открытым забралом они обнародуют своё нижнее говёное «я». Разумеется, такому рекламному «ходу» не откажешь в своеобразной силе: объявление о собственном моральном банкротстве с порога снимает любые подозрения. Раз и навсегда мы оповещены подателем сего, что в жизни нет ничего иного, кроме грязного мата, таких же половых органов, обломившихся бабок, пьяной блевотины и, в конечном счёте, — того же говна без конца и края. Потому так естественно выглядят и так правдиво создают свои «сценические образы» шнуровские «певцы и певицы», повторяющие один и тот же штамп. Природная прямота слегка обработанной животной физиологии позволяет Шнуру (без боя) одержать победу над всем своим контингентом, потенциальным и реальным. После такого зубодробительного вступления ему сдаются равно и те, кто сами говно, но упорно не признаётся в этом; а также и другие, кто ещё не есть говно, и не собирается возводить на себя напраслину.[комм. 11] Прекрасный реестр первых почти необъятен по своей величине и объёму, почти в полном объёме он включает в себя почти всю (так называемую) публичную «элиту» России: политическую и культурную. Само собой, открыто признать или хотя бы признаться самим себе её представители не могут, как и все вышеобозначенные товарищи, — даже если бы таковое желание у них возникло. Потому они и продолжают обделывать свои говённые делишки, в посильной форме изображая доступную им «высоту» помыслов, а также (по возможности) заботу о благе государства, служение искусству, патриотизм, благие пожелания и так далее в заранее известном духе. Разумеется, имена официальных по-по-ли-ли-ли-ти-тиков (и пара-литиков) я называть здесь не стану. Вовсе не потому, что опасался бы последствий, но оттого только, что эти выскобленные до скелета социальные животные, со всей готовностью поставив себя за границу добра и зла, попросту не достойны выступать под человеческими именами.[45] Всяческая дисциплинарная мерзость и иерархическая мразь также избегнут номинации.[46]
С так называемыми деятелями культуры — на первый беглый взгляд, дело немного сложнее, — по роду своих занятий они не так сильно завязли в людских бедах и человеческом материале. И всё же, лиха беда начало: попробуем ткнуть пальцем в небо... — Взять ту же музыку, без лишних слов. Навязшие промеж пальцев Вралдугин, да Спиваковь с Баш(ле)мётом — несомненное (жирное) говно, тут даже и говорить не о чем;[47] Вахлак Киндзмараули и Тамара Ркацителли, или как там их, — тоже говно без просвета; Ванна Непотребко — тем более говно разливанное. — Заранее предвижу возражения: но как же, ведь она же — колоратурная жемчужина! (как правило, такие звуки слышатся откуда-то снизу, из канализации). — Пускай так, но даже если и жемчужина, то вся в говне... или выросшая из говна на говняном материале и говняными же средствами... Короче говоря, как ни крути, но (по свойству транзитивности материального мира и духовных сущностей) любой, пускай даже вдесятеро драгоценный материал, плоть от плоти этой среды — также есть самое неприкрытое говно.[комм. 12] — Ну да ладно, хорошенького понемножку... Отставим в сторону партикулярные свиные рыла из прикормленного профсоюза изящных искусств и заглянем (буквально на секунду) — в калашный ряд литераторов и беллетристов. Вот, скажем, имеется некое показательное лицо по имени Б.Окунин или Чёртешвили, как он себя иной раз позиционирует.[комм. 13] — Не будем спорить ради спора, он мастер своего нехитрого дела (здесь и ворона носу не подточит), вдобавок, показательный «борец» за свободу (что приятно) и даже — интеллектуал в довесок. Всё так, всё так..., но, к сожалению, и он тоже — в разрезе — самое настоящее говно, вдобавок, по уши замазанное собственными выделениями. Но поскольку он в этом не признаётся и не признается никогда, то автоматически опускается по эскалатору иерархии правды на десять ступеней вниз, в то не слишком-то презентабельное место, которое находится (увы!..) неизмеримо ниже г.Шнурова, кристальной честности человека, с невероятной прямотой тыкающего пальцем во всё, что копошится вокруг него (включая самогó себя, разумеется), и с полным основанием объявляющее эту славную плеяду — говном. Исполать же ему за это!..
Конечно, было бы слишком наивным принимать его говёную непритязательность за чистую монету. Как и в их мирке, это палка о двух концах, классический лёгкий выход или небольшая (дешёвая по своей сердитости) страховочка на все случаи жизни. С полным основанием можно выдвинуть (а затем и вдвинуть) г. Шнурову онтологический упрёк банальной игры в напёрсток. Ибо, едва признав себя и других говнецом, он тут же становится не только записным швейцаром и экскурсоводом, но и — апологетом всемирно-исторической роли исподнего мира. Через хвалёную шнуровскую «самокритику» в нашу жизнь широкой струёй прорываются самые что ни на есть «рафинированные» животные испражнения и экссудаты. — Певичка, истошно орущая со сцены о том, как она «любит наш народ», упивается не только высотой и благородством собственной агрессии, но и показательным самодовольством от такой себя, поскольку индульгенция выписана и отныне у неё нет ни малой (ни большой) нужды прикрывать свои обосранные панталоны. И здесь кроется ещё один говняной секрет популярности шнуроватого натурализьма. Все евоные герои реальны и карикатурны как самая их жизнь, они привлекательны и отвратны, милы и мерзки, в одном флаконе. Милота их состоит в том, что ничем не прикрытая нагота нашей «жизни», наконец, вылезла на подиум и показала себя в полный рост, не прикрывая ни одного срамного местечка (как на модном дефилé от лучших кутюров); а отвратность — что от наготы её, как ни крути, а на поверку всё отборным дерьмом наносит... В конце концов, не всё же время в сточных водах плескаться, ведь если натура твоя или душа хотя бы самую малость чистоплотности взыскует, так из дерьмового озера как-то и выбираться надобно, обмыться да обсохнуть малость, а не только с готовностью констатировать своё в нём бытие. А инче твоя распрекрасная «честность» и прямота, как и полагается по традициям говённой касты, полностью совпадает с подлостью и по обыкновенной инерции, как и всякая жижа, постепенно стекает всё ниже и ниже, к полной капитуляции перед окончательным Ничто, Nihil & Zéro. Собственно, таков и есть по естественному течению вещей бесславный итог, безо всякой альтернативы или другого взгляда. Никакого иного «песенного» (или вообще культурного) выхода в рамках российской публичности или, говоря шире, сегодняшнего национального существования — никто, кроме Шнурова и ещё пары гнойных «реперов», даже и не пытается предлагать. Всё остальное (подпольно и приватно) происходит в рамках застарелого клана..., прошу прощения, я хотел сказать — тесного кружка друзей или даже одной тёплой семейки, вполне исчерпываясь примитивной парадигмой «деньги-навар-деньги». Вот потому-то сегодня так важен путь, предначертанный (прямо из московского сугроба) небрежным движением глаз Александра Галича. Строго следуя обозначенным курсом из грязи в князи, нашему прошнурованному дерьму ещё предстоит, как в канализационном коллекторе, — подниматься из кучи per aspera ad astra, — всё выше и выше, — за пределы московского кольца, к звёздам, ибо он — единственный и один из всех, оказался счастливым обладателем честной прямоты, обеспечившей ему прямой взлёт в указанном направлении. В непременном комплекте с сопутствующим запахом...[49] Те же реликты, которые каким-то чудом избежали принадлежности культурному реестру говна, малочисленны, безвестны и находятся на положении почти подпольном, так что не очень понятно, существуют ли они вообще и есть ли о ком говорить... Остаётся, правда, втихую понадеяться, что, будучи незаметны в гуще народа и не посещая хлыстовских радений со шнуром и кнутом, эти странные чудаки худо-бедно удерживают или хотя бы консервируют (наподобие пробирной палатки) в том самом народе хотя бы жалкие остатки необходимой человечности.[50] Собственно, Шнурову они нисколько не мешают, а потому, полагаю, даже он может позволить себе роскошь относится к ним даже с некоторой долей снисходительности и сочувствия, — хотя при случае не даст им потеснить себя. И здесь, безусловно, диалектические противоположности на какое-то мгновение сходятся. Честное господствующее говно и честное не господствующее не говно всё же — пускай изредка — но смыкаются в одном принципиальном пункте, а именно: в своей прямоте и честности, пускай ущербной, но общей. До реальных улыбок и рукопожатий здесь, как говорится, дело не доходит (по соображениям если не моральным, то хотя бы гигиеническим), но какие-то номинальные симпатии у подпольщиков и надпольшиков всё же — не исключены. За вечер через нашу убогую кооперативную квартиру, построенную в расчёте на «многодетного нищего», прошли десятки людей, среди них изрядное количество вовсе незнакомых. Выпивки было куплено гораздо больше, чем выпито, в салоне долго пел Александр Галич, а на кухне допоздна проторчала молодая пара, не слишком скрывавшая свою прямую причастность к КГБ. И всё же, отставив в сторону гитару, признаемся самим себе со всей определённостью: конечно же, облигатная говённость Шнура имеет гомеопатически мало общего с той экзистенцией, о которой успел «простонать» в московское небо «дядя-Саша» Галич. В своей малой мистерии он мысленно попытался найти себе место, — но в ряду совсем других звёзд. И даже если бы он в самом деле имел какие-то основания назвать себя тем, чем назвал, то его говённость всё же носила бы сугубо относительный характер. — Говорю об этом с полным соответствием теоретической базе, поскольку... даже лучшие из нас..., даже лучшие из лучших представителей Homo sapie вполне соответствуют подобному определению, физически не имея возможности покинуть главный фарватер истинного призвания всякого человека.[52] Понятно, что говорить о Шнурове в таком разрезе не имеет никакого смысла. Для него не существует никакого масштаба, превышающего его собственную меру, а потому он — выбранный нами сегодня в качестве эталона или образца — говно абсолютное, безграничное, говно «в себе и для себя», — как припечатал бы Фридрих Вильгельм Гегель,[53] выпади ему сомнительное счастье жить сегодня и в России, а не пару веков назад — в какой-нибудь захолустной Германии.
Заботливо отложенное посреди просёлочной дороги XXI века, говно российское понемногу оплывает ныне под влиянием теплеющего климата и растекается по человеческому миру, придавая своими творческими миазмами аромату и без того не слишком здоровым альвеолам старушки-Европы. И если дать себе труд ещё раз припомнить логику её философского классика, то придётся признать непреложный факт: на нашей родине «случилось страшное».[55] Безо всякого бунта, переворота или заговора, полнейшее Ничто (чтобы не сказать «Нитче»), действуя со скоростью распространения эпидемии, заняло место Бытия в сердцах и головах, пользуясь всеми его привилегиями, и по собственному произволу меняя язык, нравы, внутренности и даже — самою внешность остатков населения. Того населения, которое кое-как сохранилось, последовательно пережив большевиков, НКВД и КПСС, но оказавшихся совершенно неспособными сохранить свою популяцию, вследствие крайнего оскудения своей численности. Разложившаяся на наших глазах Советия размашистым шагом превратилась в Говнетию,[комм. 14] страну тотального засилия «вторичного продукта», где все мало-мальски значащие слова — одно за другим — утеряли своё (на)значение, превратившись с собственную отрыжку и поменяв смысл в согласии с правилами «новой реальности». Не стану вдаваться в лишние подробности, поскольку все они у нас перед глазами. Каждый день то и дело выдаёт нам очередную новость, где вердикт выступает под видом пердикта, обзор становится полным обсёром, и даже безобидные детские санки, превратившись в сранки, со свистом катятся вниз под дерьмовую горку нашего велико-дриссийского бытия... — Впрочем, оставим...[40] Это уже совсем другая тема, имеющая к «падению Галича» отношение скорее опосредованное, чем прямое.[комм. 15] Из старых-добрых сказок детства мы на всю жизнь запомнили десятки одинаковых сюжетов, где чёрт легко натягивает нос человеку, посулив ему горы золота.[56] Как говорится: кто бы отказался от таких подарков?.. Но как только действие заклятия заканчивается, перед обманутым простаком оказывается куча ночного золота. Конечно, старушке алхимии давно известны секреты трансмутации, когда любой предмет при помощи философского камня можно превратить в драгоценный жёлтый металл. Однако заключённая в человеческой природе внутренняя логика превращения всякий раз учитывает и подчёркивает не сходство, а изначальное различие между золотом и прочими предметами материального мира. Как следствие, они не переходят друг в друга, но попросту совершают «рокировочку», всего лишь меняясь местами во времени или пространстве. Непримиримая разность их сущностей при этом остаётся неизменной, и только ситуативная роль выходит на первый план. — Золото не становится навозом, а навоз не подменяет собой золото, — которое, в свою очередь, приравнивается к навозу только в рамках искусственной иллюзии или сеанса магического гипноза. — В полном согласии со сказочными законами бытия, современная «культура» Говнетии демонстрирует нечто аналогичное до степени полного смешения. лёгким движением руки золото сливается в навоз, следующим шагом полностью сливаясь и навозом и образуя с ним сакральное двуединое тождество золотонавоза. — Как расписать эту реакцию с точки зрения химии, честно говоря, не знаю. Могу только констатировать состоявшийся факт. Как следствие, все культурные достижения, все таланты и артефакты искусства говнян носят двуединый золотоговённый характер. И сколько бы ни изощрялись, и каких бы высот ни достигали их музыканты, дирижёры, режиссёры и прыгуны в воду, — от их сущности за версту всегда будет разить известной материей... Очередной выстрел стартового пистолета для обосравшихся бегунков на короткую дистанцию прозвучал в 1917 году, — от завзятых любителей и поклонников погрома, «жестокого и беспощадного». Разумеется, «деятели левого искусства» тут же постарались подойти как можно ближе и присосаться к кормушке новой власти. Спустя почти полвека чудом спасшийся из России Фёдор Степун вспоминал эту..., так называемую „деятельность“ футуристов, регулярно получавших от новой власти заказ на оформление революцьонных агит-выставок и праздничных торжеств. «Оскорбительнее всего эта назойливая декоративность была там, где её обес’формливающая страстность посягала на формы старого искусства, а то даже и самой природы. В октябрьские торжества в Петрограде «стройно-монументальный Александрийский столп был, — как рассказывает Эфрос, — уродливо расчленён какими-то пришпиленными к нему разноокрашенными холстяными квадратами и секторами». В майские же торжества 1919-го года в Москве газон и кусты в цветниках театральной площади были, в целях вовлечения их в общую праздничную конструкцию, густо выкрашены фиолетовой клеевой краской. Очевидно «формовщиков» новой жизни одинаково возмущала как «невозмутимая величественность подлинного искусства», так и самодовлеющая жизнь вечной и равнодушной к революциям природы. Недаром футуристы и их многочисленные соратники, как я уже писал, рассказывая о «Бродячей собаке», именовали небо трупом, а звёздную россыпь гнойною сыпью»...[57] Тогда, сто лет назад..., находясь в пределах человеческого взгляда (пускай даже из сугроба вверх лицом), всё это могло показаться не более чем бездарной подростковой манерностью и не имело под собой настоящей почвы. Теперь же, век спустя, обосранные футуристами фиолетовые кусты окончательно укоренились в шнуровском варианте как нечто вполне естественное и должное, имеющее успех, почёт и законное место.
Так что же, не пора ли нам сегодня признать его «искусство» — действительным результатом, подбившим черту под некоей линией исторического процесса, когда всё отжившее, ненужное и лишнее постепенно вытеснялось куда-то на обочину, а прежние «слагаемые» — как в сказке — (под)менялись местами. И в самом деле, кому из окончательно пропитанной дерьмом массы нужна сегодня глянцевая романтика нашего «заслуженного хитровáна РФ» Макаревича, продолжающего исправно гонять своих телятей в прежнем направлении, за «новый поворот»..., — или за ближний угол?.. А уж тем более, каких грошей теперь стóит дырявая, насквозь пропахшая дымом палатка Визбора — вместе с его «лесным солнышком», когда-то выжимавшим скупую слезу у сентиментальных советских инженеров... — Конечно же, Шнур не так прост, чтобы задёшево купиться на сусальное золото грошового оптимизма или, тем более, на романтическую пáтину лохов от советской геологии, между делом, за жалкие гроши разведавших будущие миллиарды роснефти или норникеля. Шнур отлично знает, что новое время жлоба пришло кроме шуток, что «треники» с мотнёй, оплывшая харя и небритая задница «Ленинграда» — это надолго, если не навсегда. Вóт чтó ныне хавает плоскомордый народ велiкой нации, начиная от «золотой молодёжи» и кончая — дворовой шпаной. И пускай позади горы трупов, заживо превращённые в фарш и лагерную пыль миллионы лучших людей другой России, — то страны, которую они уже никогда не узнают...[59] И за навоз нынче — три цены дают. — Напоследок..., оставим пустые разговоры. Пожалуй, совсем не про облака сегодня... И не про Абакан... — Теперь ко времени и к месту совсем другие строки Александра Галича, — накиданные ещё в начале 1960-х годов, задо-о-о-олго до его падения..., — прошу прощения, значительно по-о-о-о-озже нашего падения лицом вниз...[60] — туда, в приснопамятную кучу... Снега.[61]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ис’ ...сточники
Лит’ература ( в падении )
См. тако же
« s t y l e d & d e s i g n e d b y A n n a t’ H a r o n »
| |||||||||||||||