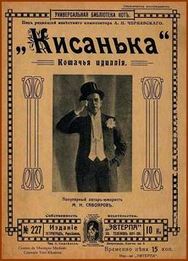Кисанька (Михаил Савояров)
( или трамплин, натурально )...он и кота, и кошку нещадно отодрал...[1]
П А именно: я хотел бы здесь на примере одного маленького (кошачьего) поплавка вкратце нариосвать и затем — показать постепенную кристаллизацию того уникального (читай: единственного в своём роде) явления, которое называется русский фумизм. В данном случае — на эстраде (фумизм), представленный, как ему и подобает, в лёгком (и почти похабном) жанре, что особенно трудно и нелепо. И к тому же, не будем забывать, что случилось всё это — на излёте существования той (прежней) цивилизации, носившей имя «российской империи». Мы же, как всегда, находимся здесь и сейчас. В этом времени и в одном месте..., что, как ни крути, создаёт дополнительные трудности — не только понимания, но и не...посредственного контакта.
К
Для самогó же автора «Кисанька» стала своеобразным полигоном и, одновременно, эталоном дурного вкуса. Именно на этой песенке, пользуясь её очевидной безобидностью для дуры цензуры и прочих дур, он «трогал» пределы допустимого & возможного на пути вниз. И не раз отодвигал их именно здесь, пользуясь безответной недееспособностью, неподсудностью (или юридической ничтожностью) животных, не способных отвечать за свои поступки. И в самом деле, какой спрос с пьяного? Или ещё того паче: с загулявшей кошки! А попробовал бы какой-нибудь мартовский господин в рединготе и гамашах поорать заполночь дурным голосом на весь околоток... — И что тогда?
Особенно если взять в толк, что «Кот и кошка» стала одной из первых песенок, которые совсем ещё молодой (25-летний) & мало кому известный артист Мишель Савояров выносил на концертную сцену, выступая с одним-двумя номерами в сборных программах артистов оперетты и прочего «цыганского» романса. Не могу врать с громогласным выражением лица (точно не зная имён, дат и адресов), но одно непременно верно: что с самого начала века первые робкие образцы «кисаньки» огласили окрестности питерских и московских сцен, а уже к 1901-1902 году «кошачий романс» вполне утвердился в сольном савояровском репертуаре как отдельный номер-дразнилка для контраста & оживления публики. Между прочим говоря, в точности таков и был настоящий повод для появления на свет очередного романса драной кошки. Сочинённый как пародия..., причём, вполне конкретная пародия на певицу (исполнительницу романсов),[комм. 1] с которой Савоярову (не раз, и не десять раз) привелось выступать в одной программе.[4] Манера исполнения этой певицы (а звали её, если угодно знать, Мария Комарова, откуда произошёл и настойчивый припев «маша-киса») отличалась удивительным постоянством. Какой бы романс она ни исполняла, любая фраза непременно кончалась живейшим подобием сладенького мурлыканья или мяуканья. Разумеется, злой мальчик-пародист не преминул подхватить и воспроизвести полюбившиеся публике интонации, так что уже в начале первого куплета кошачье блеянье Савоярова вызвало громкое гыканье и смешки в зале, отнюдь не деликатного свойства. В мяукающих интонациях развязного (слишком развязного!..) артиста публика без труда опознала предыдущий номер, вполне серьёзный (и даже драматический), исполненный томительного ожидания и смуглой любовной истомы. Примерно так же, как в своё время — и совсем в другом зале — номер из кошачьего концерта стал злой и неприличной пародией на «рафинированного» Михаила Кузмина (как исполнителя романсов собственного сочинения).[комм. 2] — И это, между прочим, помимо других пародий (вроде ответа на «Дитя и Розу»), сделанных лично & непосредственно под адресата. Ну и под себя — тоже, вне всяких сомнений. Отклик публики в таких случаях был мгновенным и прямым..., — собственно, только того Савоярову и было нужно. — Нарушить вялое течение концерта (по инерции), вызвать эффект «детской неожиданности», сорвать внезапный хохот и спонтанные аплодисменты. Именно к этому «король эксцентрики» был сверх’чувствителен и слаб (или силён!) с самого начала своей артистической карьеры, с тех допотопных времён, когда не был не только королём, но даже и принцем.
— Чем хуже, тем лучше... Не стесняться грубостей... Переигрывать... Допускать недопустимое... Именно таким был естественный отбор средств, по которому катилась карьера савояра Савоярова,[5] причём, наверх катилась. В крутую горку. И порукой тому была порода и высокая органика «низкого» артиста и поэта, силой таланта превращавшего, переплавлявшего элементарный «дурной тон» — прямиком в явление высокого искусства эстетики безобразного (не аполлонического, а «дионисийского», как любил говорить Фридрих).[6] В первое десятилетие XX века пресловутая «кисанька» проследовала в точности таким же путём, каким до неё следовали сотни славных сатиров, начиная от блаженного Диогена и кончая — Петром Шумахером, посажённым отцом савояровского искусства «отборной рвоты», не говоря уже о дышавших в затылок последователях: дадаистах, сюрреалистах и прочей «безобразной» братии. Но тем труднее был путь, избранный (из бранного) королём эксцентрики, что его искусство было — дважды низким. Во-первых, всего лишь эстрада..., презренные песенки, куплетики, кривляния, в общем, ничего серьёзного. А во-вторых, ещё и отборный «дурной тон» прямо там, на сцене и вокруг сцены (совсем как у братьев-фумистов). Как говорится, «приличный» человек себе на людях и сотой доли того не позволил бы, что отчубучивал этот сомнительный «король» — лично, неприлично, отлично, публично, прямо здесь, на сцене. И кто бы поверил, глядя на это мерзкое мяуканье, что перед ним — Высокое Искусство. Искусство с Большой Буквы «Э»... Редкая птица долетит до другой стороны такого «чёрного» моря, чернее не бывает... — Подобных были считанные единицы, почти никого. И первым среди них, прежде всего — Александр Блок.
Редчайший случай!.., — артист, превосходивший себя на два или три этажа искусства, (почти) всю жизнь очень ясно понимавший смысл и содержание того, чтó он делает (или выделывает) на сцене. И (почти) всю жизнь старательно скрывавший своё понимание — там, на дне сундука, вместе со своими «философскими стихами» и въедливыми рукописями. Чтобы ненароком не испортить тонкой материи успеха... — Таково уж было правило этой странной игры в плохого мальчика: она могла действовать только, «пока никто не знал» и даже не догадывался о настоящей подкладке «отвязанного дурня» (опереточного простака), позволявшего себе запросто выкинуть со сцены вот такой шедевр: «Маша-киса, Маша-киса, мяу, мяу...» — Да и не просто выкинуть, а дополнительно смазав жирной порцией такого жестокого натурализма, что даже дядюшка-Золя начинал ворочаться в своём угарном гробике.[8] Впрочем, здесь я сразу оговорюсь: «жестокий натурализм» во всех доступных формах был в очень большом почёте у большой публики того времени..., как минимум, это вскоре показал прекрасный 1917-20 год (с его натуралистическими «излишествами», буквально бившими через край). А затем, как типичный «ренессанс» (двадцать лет спустя) — и кровавая отрыжка 1937-40 года. Так что по части убойного натурализма Михаил Савояров не изобретал ничего своего, но только чувствительно и тонко следовал за вкусами публики (как я уже показал выше), со всей натуральной грубостью и брутальностью, на которую только был способен. Настоящий сын своего времени,[9] опередивший его лет на сто и отставший от него — навсегда. Dixi... Собственно, высказав всё это (наперёд и накоротке), теперь можно бы и перейти к обсуждению того сущего пустяка, который скрыл себя за (не)скромной обложкой маленькой мартовской идиллiи...
( или нечто поверх бумажки )...вздыхает сын несчастный,
К
Потому что здесь, на этой странице, говоря о разных кисаньках, не имело бы ни малейшего смысла поминать «цензуру, войну́ и мать родну́», если бы не одна мелочь: та жалкая бумажонка, которая осталась от савояровской песенки и которая (право слово!) имела и имеет к ней самое отдалённое и (сугубо) формальное отношение. И здесь (не пытаясь извиниться) я резко заступаю на ту заповедную территорию непуганых идиотов, которую уже многажды топтала моя дерзостная нога.[10] Всякий раз, затевая говорить о живом (слишком живом!) творчестве своего пре’подобного деда..., а затем, словно рухнув с небес на землю, утыкаясь носом в те чахлые издания, которые остались по его уходе, мне приходится напоминать, повторять и даже долдонить одну истину..., точнее говоря, истинку, старую как мир. Она заключается в том, что савояровские концертные репризы и антрепризы существовали в виде исключительных импровизаций на заданную тему, а потому всякая попытка фиксации превращала их в жалкое подобие и отдалённый образ.[11] Или в точности наоборот.
« Кисанька »..., словно бы уже не раз говорил я, — это только одно из битого десятка названий (за’головков) очень популярной у публики начала XX века музыкальной и пантомимической песенки-сценки Михаила Савоярова, некоронованного «короля эксцентрики» и «первого поэта рвоты». — Запоздало изданная только в виде усечённого текста и таких же нот (издательства «Эвтерпа»),[комм. 4] а потому сохранившаяся только в неприлично сокращённом, оскоплённом и под’цензурном виде, «Кисанька» в живой савояровской редакции так и осталась похороненной где-то там, далеко в своём времени и месте. Точнее говоря, она осталась в виде исключительного достояния ушей и памяти той публики (впрочем, достаточно многочисленной), которая смогла увидеть, услышать и усвоить этот пустячок на сцене, «здесь и сейчас», — а больше — никогда. Между тем, в живом исполнении своего автора эта, на первый взгляд безобидная и беззубая сценка имела вид не только не’под’цензурный, но и глубочайшим образом — не’цензурный..., до тако́й степени всё в ней зависело от момента, настроения, публики и — свободной импровизации (проще говоря — воли и своеволия) артиста.[10] К примеру, непомерное количество вариантов одного только названия (или за’головка), а также и под’за’головков и прочих загривков может дать отдалённое представление о том громадном, непомерном числе вариаций и изменений, (по случаю или даже «по случке», — как говаривал сам автор) которые претерпел сценический нумер под кодовой кличкой «кошачий роман’с». При своём ярком и запоминающемся музыкальном материале запева, словно подпрыгивающего от избытка кошкоподобных чувств-с..., и с припевом — весьма ограниченном в словах (но зато в полной мере звукоподражательном и провоцирующем), этот маленький концертный номер словно бы специально был придумал и выделан для проявления настроения и полнейшей отвязанности импровизации своего автора. Нарочито безыскусная, почти детская сценка, лишённая особенных «печатных» образов и метафор, внешне — до крайности простая, «кисанька» попросту служила субстратом или, если угодно, поводом для тотальной сценической эксцентрики: с звукоподражательным пением и фирменным савояровским инструментом, который играл здесь едва ли не первую скрипку. В непрерывном движении. В жёстком кривлянии. В активном звуке. В жёсткой интонации. В раскованных жестах. В рискованных словечках и словах. И даже — в музыке, которую он сплетал и вязал как лыко, всё в строку, как угодно, снизу вверх и слева направо... Потому что всё это — во время исполнения — буквально летело коту под хвост.
Однако..., на этом патетическом месте я резко остановлю свой имитационный поток (одним указательным пальцем). — Потому что здесь..., в этой главе под названием «Печатная» — всё это, (выше)сказанное между строк и поверх слов, не имеет ни малейшего смысла. Ветхая бледная бумага. Ничего не выражающие пять линеек. Почти безличные нотные знаки. Вдобавок, чтобы не пропустить маленькую занозу: ещё и не в первозданном своём виде, а якобы — «подъ редакцiей извѣстнаго композитора А.Н.Чернявскаго»..., дело для Савоярова — почти небывалое.[комм. 5] Как правило (и не просто правило, а — высшее правило) он не нуждался ни в чьей помощи (и даже «известнаго» сорта), чтобы подготовить (читай: оскопить) свои развязные импровизации до печатного стандарта. — Прошу отметить этот факт особо, потому что дело здесь идёт уже не о цензуре. Вернее говоря, не только о той цензуре, в которой все привыкли опознавать царско-советско-нынешних «душителей свободы», а совсем другой, о которой обычно забывают. Имя ей (оно уже прозвучало в скобках): коммерческий или печатный стандарт массовых изданий. — Пожалуй, во многих вариантах он ещё и покруче будет, чем пресловутая военная цензура или главное управление по делам печати.
Вероятно, многие из тех, кто хотя бы пару разу держал в руках массовые дореволюционные издания «нот в один листок» под маркой той же «Эвтерпы», «Экономик» или «Давингоф», обращали внимание на сугубое однообразие фортепианного аккомпанемента и прочей фактуры, словно бы вышедшей (из одного места) с одного конвейера. Причём, таким серийным унынием веет от сочинений буквально всех авторов, вне зависимости от пола, возраста или фамилии. Единообразный упрощённый аккомпанемент и такое же мелодическое изложение, почти всюду дублирующее голос. — Между тем, это явление носило не только тошно’творный, но и глубоко руко’творный характер, прикрываясь условной маркой «коммерческого фор’мата» для самого широкого круга любителей-потребителей (читай: покупателей, и не более того). Массовый адресат нотных листков — он имел в воображении издателей слишком чёткий портрет, чтобы им пренебречь. Тем более, что сами издатели, в сущности, мало чем от него отличались (от того же воображаемого портрета), занимаясь, в основном, коммерцией, читай: зарабатыванием денег под видом продажи маленьких нот с популярным репертуаром. Ни музыка, ни стихи, ни искусство вообще их, в сущности, не интересовало (даже и упоминать-то об этом как-то совестно). А потому и сами продажные ноты, оказавшись в узкой щели между «сциллой и харизмой», неминуемо пропитались всеми признаками и тех, и других: как своих продавцов, так и покупателей, принципиально людей статистических и (по свойству транзитивности) не блиставших ни одною из личных особенностей. — Простенькие, понятные, недорогие, доступные и удобные в пользовании, с простой фактурой и узким диапазоном всего, чего только можно, они не должны были доставлять никаких сложностей и проблем при каждом следующем знакомстве: типичная «любительская колбаса» в наихудшем варианте, замазка без определённого цвета, вкуса и запаха, кроме ожидаемого.
С одной стороны, имя им было — легион (и этим всё сказано). С другой стороны, для артиста (автора), зарабатывавшего на жизнь исключительно концертами, такие нотки были слишком важным подспорьем, чтобы плевать на них с высокой колокольни. Причём, далеко не в первую голову это был прямой доход от продаж. Прежде всего, листки (чуть не сказал: бульварные) работали на имя — как прекрасная реклама или афишка, резко повышавшая узнаваемость и, как следствие, число партикулярной публики на концертах. Тем более, это было важно для савояра Савоярова, который (в том числе, и стараниями своего старого богемского приятеля) оказался напрочь отсечён от лакомого куска грамм’записи. Ну..., тогда хоть ноты! — Как говорится, не до жиру: за первые (слишком уж поздние) предложения нотопродавцев приходилось хвататься обеими руками. Но здесь автора поджидала ещё одна противопехотная мина, оставленная (им самим) в одном заранее известном месте... Дело здесь идёт о том, что разные романсы, куплеты и песенки далеко не в одинаковой мере пригодны под оскопление в упрощённый коммерческий формат нотных листков. Едва ли не большинство авторов, говоря прямыми словами, оскоплены сами собою или природой ровно в такой степени, что какое-то дополнительное хирургическое вмешательство им уже не требуется. Уровень и жанр их сочинений полностью умещается в коммерческом формате «музы Эвтерпы». Некоторые из них, кстати, являются до такой степени «любителями», что без помощи «извѣстнаго композитора А.Н.Чернявскаго» даже не дотягивают до высокой планки автора популярной серии. Но в иных, более редких случаях, промах эстрадных творений мимо формата представляет «извѣстнаго рода» проблему. — И это был как раз случай Савоярова, отвязанные сценические импровизации которого привносили в материал так много сложного и даже «разрушительного» (как по части текста, так и музыкально), что ради возвращения в лоно коммерческой добродетели требовались весьма значительные усилия (при помощи, поддержке или посредничестве профессионалов).[комм. 6] Собственно, в этом-то и заключалась вся функция «извѣстнаго композитора А.Н.Чернявскаго», давшего себе труд (очень скромно, за малую толику) объяснить на пальцах неотёсанному автору, где и что ему требуется подрезать или обтесать, чтобы его ноты, наконец, уместились в популярную серию Эвтерпы. — А уж кому это было знать лучше, чем ему, «извѣстному» Александру Николаевичу Чернявскому, автору десятков романсов в жанре бульварных листков и сверх того — штатному арранжировщику на полях той самой Эвтерпы.[комм. 7]
Законы жанра, законы клана и личной власти (в каждом отдельном местечке или уголке клана) диктовали всё..., или почти всё. Особенно, для чужого, пришедшего со стороны: который не имел веса и пропуска — туда, внутрь. Ему очень быстро «объясняли» (кроме шуток), каковым должно быть число куплетов,[комм. 8] их тон, тональность, стиль и стих, а также фактура аккомпанемента, простота мелодии, короче говоря, вся тотальная «серийная техника», позволяющая выполнить отработанную десятилетиями норму и попасть в коммерческий стандарт. Если автор был готов подчиниться, склонить голову перед «законами жанра» и выдержать экзамен, дальше начиналась наука о вкусах (и выкусах). Один Чернявский мог подрезать чуть больше, другой — чуть меньше, однако общего тона это уже ничуть не меняло. — Собственно, вот и всё..., ради чего мне пришлось настрочить этот длинный трактат о невероятных законах (церковной) «полифонии строгого стиля» — на почве (не)лёгкого жанра бульварных листков. Всего в две странички!.., но что за бездна удовольствия!.. — Разумеется, примерно те же нормативы и стандарты, сформированные и сформировавшие вкус потребителя (публики) своего времени, действовали и в концерте, заставляя автора соответствовать ожиданиям. Но всё же, на подмостках рамки были не столь жёсткими и даже (страшно сказать!) подвергались искривлению или раздвиганию. Особенно, в тех случаях, когда артист «имел имя», свой стиль и годами (постепенно) формировал свою публику со своими ожиданиями. Пожалуй, именно эту свою выслугу Савояров имел в виду, когда (прямо на афишах) позволял себе сократить объявленную программу своего выступления всего до трёх слов: «в своём репертуаре». — Но увы, на издателей и коллег («известных комозиторов») такие ск(о)ромные номера речевого жанра не слишком-то действовали. А потому и приходилось (как в старой сказке) довольствоваться двумя разными Савояровыми: печатным и непечатным. Два клоуна с одним и тем же лицом, словно в шизоидной картине мира: один из них был мёртвым, а другой — живым. Один на бумаге, а другой — на сцене. Один был мумией, приготовленной по старинному рецепту, а другой — не подчинялся никаких правилам. Но «зато» аудитория живого клоуна вырастала в сотни раз благодаря его бледной бумажной тени на двух страничках бульварного листка под названием «Кисанька». И ещё: поверх всего оставалась надежда, что не...многие из’бранные, имевшие счастье лицезреть странного клоуна живьём, да ещё и «в своём репертуаре», впоследствии смогут (скажем, взяв в руки мёртвые нотки) воссоздать по высушенному скелету — тот оригинал, с которого была скроена мумия.
Таким образом, происходил некий кульбит или подмена, когда глубоко оскоплённый и вторичный источник (всего лишь бумажный костыль, намёк или шпаргалка) в процессе постепенного физического выбывания артиста и свидетелей — занимал вовсе не подобающее ему главное место. И теперь, спустя сто лет, изумлённо глядя на эти жалкие нотки и стишки, и впрямь можно сделать такой вывод, будто они в самом деле представляли собой Нечто. Например, произведение. Результат работы сочинителя. Или даже первоисточник, по которому автор «готовился» к концерту и затем выходил на сцену. — Так вот имейте в виду: это типичные дудки!.. (не говоря уже об инструментах более выразительных). На самом деле жёлтые нотные листки, будь то «Эвтерпа», «Экономик» или какой-то ещё десятый хрен на киселе, представляли собою боковую ветку (притом, далеко не зелёную). Этот побочный продукт, совершенно отдельный от основного произведения, производился методом частичного оскопления и преследовал свои цели, весьма узко очерченные рамками одного листа (причём, с очевидными купюрами, указанными прямо а обложке). А популярность автора, а также занятность музычки и стишков выполняла исключительно вспомогательную функцию: «чего изволите, барин?» — «Благодарю покорно!» — Собственно, потому я и взял в качестве рабочего примера для анализа предельно контрастный текст, читая который трудно вдумать в него нечто мало-мальски серьёзное. — Не более, чем кошачий пустяк! Безделушка и шуточка. Чушь собачья, наконец. — И всё же, не так. Совсем не так. Поскольку именно на таком контрастном примере особенно рельефно становится видна «докудова разница» между высокой эксцентрикой настоящего искусства, будь то шумахеровское говно,[13] фантазия Пруткова,[14] фумистические выходки Алле или дадаистская бессмыслица «Спектакль отменяется».[15] Продиктованная исключительно контекстом и целью бытования, любая абсурдистская или сюрреальная выходка мгновенно гаснет, опускается и превращается просто в шутку, едва попав на галдящую базарную площадь, где толпа, лузгающая семечки, сплёвывает мелкие гроши в футляр из-под медной скрипки. — В итоге, как справедливо сетовал Эрик, время решает всё. «Родившись слишком молодым во времена слишком старые»,[15] трудно рассчитывать на что-то путное, кроме «ужасной мерзости» бульварных листков и развлекательных песенок кафе-концерта.[комм. 9]
Таким образом, теперь становится (хотя бы немного) понятно: каким образом следует читать ноты (которых здесь нет) и стихи трёх куплетов, помещённые здесь исключительно ради смягчения нравов (с правой стороны листа). В чистом виде школьное упражнение по выполнению учебного минимума, тема: норматив бульварных куплетов. Плюс, ещё одна стоическая попытка свести живое искусство — к неживой коммерции, отвязанную импровизацию — к жёсткому нотному стану в пять линеек, а полный спектр артистических приёмов — к скудному набору «искусства для бедных».[комм. 10] Пожалуй, это и есть всё или почти всё, что можно сказать о данном предмете... — Вóт ради чего я и затеял своё про...странное разсуждение о нормативах (сугубо) коммерческой торговли на ниве эстрады и шлягеров начала XX века. Собственно, совсем недалеко от них ушли и сегодняшние артисты (в тесной связке с «известными комозиторами Чернявскими»), практикующие в том же скотопромышленном жанре.[8] А если говорить точнее, то они и вовсе остались «на одном месте», куда их с безошибочной точностью пришпилила собственная природа. — И здесь содержится вовсе не игра слов или пустая шутка, но скорее — трижды мрачная правда. Потому что один только тот, кто каким-то известным чудом промахнулся мимо своего места, способен создать нечто самоценное среди броуновского единообразия человеческих кланов.[16] Именно так, и это единственный вариант: отдельно от всех, вне контекста, помимо линеек или поперёк струн. Всё остальное у этого социального животного делается исключительно по инерции, в традиции или по течению, выдавая «на горá» в качестве результата жестяные вёдра гомогенной жвачки третьего ректификата или очередные штабеля клановых шедевров в жанре «вторые руки».
— Не всё стриги, что растёт..., словно бы в отчаянии призывал скептический поэт.[18] И не зря (призывал), потому что клану вечно мало своего гомогенного содержимого, и он вечно пытается причесать и выстричь (оскопить) всё, до чего только дотягиваются его волосатые лапы. Сократим всё лишнее. Обрежем всё ненужное. Все в строй, все в шеренгу. Равнение налево. Таким образом, прошу любить и жаловать!.. — Вóт она, уже здесь, в полный рост: зачёсанная, наглухо выстриженная и оскоплённая «Кисынька». Браво!.., браво-во-во!.. (со всеми вытекающими последствиями). Конечно, в этом месте можно было бы сделать эффектную пазу, отточие..., и завершить патетическим восклицанием «на воздух»: ах, ну как же напрасно король эксцентрики изменил своим эксцентрическим принципам и прогнулся перед мелочным «кланом Эвтерпы». Ведь тем самым он позволил низвести собственные экстремальные кунштюки — до уровня дешёвого барахла, тем самым, превратив свой фанфаронский фумизм (единственный и неповторимый на русской почве) в бульварную безделушку, по сути — профанацию. Ай-яй-яй, дорогой дядя-Миша (напрашивается здесь само собой). И надо же было тебе так дурно поступать!.. В конце концов, вот (прямо здесь, не отходя от кассы) прекрасный пример: твой собственный внук. Он (бы) никогда не позволил учинить над собою подобного оскопительно-стандартизующего насилия. — И воистину ведь не позволил (как следствие, налицо и герметический результат, однако). А главное: значит, так можно?.. И даже не смертельно?.. — Кто бы спорил: разумеется, можно. И даже — не трудно. Короче говоря, ничего сверх’естественного. Ну разве что... с одною только поправкой..., ведь в таком случае «для сравнения» от хвалёного савояровского фумизма не осталось бы даже малейшего намёка. Ни слова, о друг мой, ни вздоха... Короче, вообще ни-че-го. — Пластинок с «живыми» записями ни одной (спасибо, об этом вовремя позаботилась богемская богема). Нот, значит, тоже никаких. Даже бульварных. А слушатели (вечно врущие свидетели) — постепенно вымерли бы естественных ходом (исторического процесса), стократ ускоренным благодаря неисчислимым благодеяниям XX века в лице Ильича, Сосо и Адольфа: то вместе, то поврозь, а то — попеременно. В итоге — как всегда — благотворная пустота.[19]
Конечно, за идиотически расчёсанным фасадом «Миши-кисы» (с бантиком на шейке) совсем не просто распознать звериный оскал эстрадного «тигра-дадаиста». Точнее говоря, почти невозможно... — не обладая соответствующим аппаратом (мелко’скоп называется) и внутренним материалом. Скажу даже больше: эти савояровские ноты, первые из тех, с которыми я свёл знакомство ещё в детские годы, даже для меня первые три десятка лет оставались — в полной мере закрытыми. Слегка забавная вещица, не то шуточка, не то просто развлекательная сценка, довольно яркая по музыке и дурковатая по тону. Безделушка, да и только. Ну..., быть может, чуть-чуть выделяющаяся на общем фоне своей странноватой натуралистической откровенностью, да и то: если очень пристально в неё всматриваться. — И только спустя годы, подобрав (гаечный) ключ к «кошачьему шифру», наконец, я увидел за ним цепочку мелких следов-знаков, уводящую — вдаль, прочь по тёмненькой аллейке, о которой вообще отдельный разговор.[комм. 11] Да и то, говоря всё это с важным видом, навряд ли подобрал бы я сам этот ключ, если бы не крошечные подсказки и зёрна вариантов, рассыпанные по савояровским черновикам. И тогда..., «оскоплённая кисанька» внезапно заиграла всеми цветами радуги... Для начала, показав звериный оскал авангарда, а затем ещё и толстую задницу дурного тона. — Ничуть не оскоплённого, между прочим... Пожалуй, в этих словах и заключается всё, за что можно было бы поблагодарить стерильную Эвтерпу с её чернявской цензурой, которая всё же донесла до единственного палеонтолога будущего (меня) скелет доисторической киски, по которому, словно в уравнении с пятью неизвестными, всё-таки удалось воссоздать чучело исполинского кошачьего бронтозавра, жившего на территории современной России в период 1900-1930 годов... Разумеется, я не (вы)скажу здесь даже и десятой доли. Но кое-что..., непременно проскользнёт между пальцев.
( или нечто из-под бумажки )...но если жизнь прекрасна,
К Для тех же, кто хотел бы всё знать заранее (не читая), скажу сразу: дальше остались одни мелочи или, точнее говоря, те конкретные детали & условия, ск(о)ромное присутствие которых позволяло артисту превратить бульварную безделушку (банальную историю любовного треугольника промеж трёх кошек) — в произведение авангардного и даже деструктивного искусства. Например, в парадоксальную сатиру. Или загадочную бессмыслицу. Или срамной водевиль. А то и откровенный пасквиль — с растопыренными пальцами. Причём, я не случайно употребил глагол настоящего времени: именно «превратить», а не «вернуть» или «восстановить». И здесь (по случаю) содержится двойная правда. Во-первых, вполне ещё скованная «Кот и кошка» 1900 года отнюдь не была равна отвязанной «Кисаньке» 1916-го: артист, поэт и автор, неуклонно отрываясь от жёсткой сетки общепринятых стандартов искусства развлечения, в течение многих лет неуклонно дрейфовал всё дальше в открытое море, иной раз — совсем «без руля и без ветрил».[22] Но и кроме того (говоря во-вторых), тотальная импровизационность савояровской манеры приводила к тому, что он «превращал» (занимался превращением) оной кисаньки каждый раз заново, не воспроизводя (как музыкант-исполнитель по пресловутым нотам) какой-то фиксированный заранее известный текст, а создавая наново отдельную версию по некоей общей канве. Причём, в процессе (в конкретном месте и времени) он руководствовался не только актёрским наитием или духом (несвятым), но и вообще всей обстановкой, начиная от собственного самочувствия пополам с настроением и кончая — реакцией публики и погодой за стенами концертного зала. — Потому что..., его королевское искусство эксцентрики, оно было не просто искусством, но в высшей степени — живым и живущим, выпускающим вокруг себя струйки дыма (не говоря уже о других струйках), а временами даже язычки огня. Всегда здесь и сейчас, в самый момент создания: оно было высшим искусством (фумизма), не сказуемым и не подлежащим пришпиливанию на бумагу стандартного формата и образца.
...начнём с неё, как самого простого, безобидного & понятного (как это ни странно). 1. Аккомпанемент. Читай: фортепиано, рояль, пианино. И поверх него — пианист(ка). Тапёр. Аккомпаниатор(ша). — Для начала, конечно, придётся сказать о нём, о ней, о них, составляющих нижний фундамент всего, первое и общее впечатление от музыкального задника. — По возможности не переходя на личности аккомпаниаторов (начиная от общего стандартного концерт’мейстера, одного на всех артистов в концерте и кончая своими «жёнами»), Михаил Савояров, как мог, добивался от всех того «джентльменского минимума», который отличал настоящего аккомпаниатора (наподобие Михаила Таскина у Вяльцевой, Бориса Мандруса у Юровской или Михаила Брохеса при Вертинском) от обычного ремесленника-тапёра.[комм. 12] Именно чтó: отличал. Очень правильное слово. Собственно, отличие здесь было всего одно, но зато радикальное и, сверх того, простейшее (такое же, как в случае самогó артиста, прошу прощения за банальность). — Один из «этих двоих» был видимо-свободен за инструментом, всякий раз импровизируя и гибко следуя за певцом, а другой — как положено, играл выученную по нотам несложную партию в стандартной фактуре («ум-ца») бульварных листков.[комм. 13] Короче говоря, между ними можно было провести (жирную) разделительную черту банального различия между художником, артистом своего дела и — обычным подмастерьем, ремесленником, выучившим нотную грамоту или игру «на пианинах». Первых в каждом деле — считанные единицы, а вторых — нерасчленимая общая масса. Именно для неё, этой последней, значит, и упражнялись со своими стандартными нотками многочисленные фирмы бульварной мадам-Эвтерпы, старательно выскопляя из статуи Микеля Анджело «всё лишнее», способное неоправданно усложнить процесс музицирования и, как следствие, сузить круг потенциальных покупателей.
— Итак, если вкратце подытожить фортепианную подкладку (не только) «Кисаньки» (но и всех прочих савояровских кунштюков), в сухом остатке останется «всего лишь» взыскание свободы..., при том, что сам автор отнюдь не был идеалистом и вполне реально смотрел на перспективы этой эфемерной материи. Говоря простым языком вежливости, свобода фортепианного исполнения, бесконечно далёкая от суконных нот многотиражной эвтерпы, была бы весьма желательна. Особенно, в рамках единства стиля (автор, артист, сопровождение). — Однако, на «нет» и суда «нет»: если что, биться в истерике не станем. На худой конец, аккомпаниатор (или, тем более, аккопаниаторша) вполне может сгодиться и для иных целей.[10] А вечно недостающую (с удивительным постоянством временно отсутствующую) свободу — при соответствующем состоянии и возможности — мы и сами как-нибудь восполним. Со своей начищенной физиономией, такой же скрипкой, голосом, — ну..., и так далее, вниз по списку.[комм. 14]
Говоря занудливым языком немца, скрипичные ритурнели можно было разделить на дважды два типа — по своему характеру и объёму (местоположению). Бухгалтерия здесь проста. Не так-то просто было играть и петь одновременно, а потому скрипка в большинстве случаев «встревала» между отдельных фраз, кратко комментируя или выдразнивая их (разумеется, в зависимости от мгновенной реакции публики любую скрипичную реплику можно было удлиннить, развить или повторить, прервав выразительной паузой-ферматой). С другой стороны, более пространные скрипичные «каденции» нашли своё место в естественных резервациях между запевом и припевом,[комм. 15] а также — в меж’куплетных дырках (либо вторгаясь в сольном режиме, либо под тот же фортепианный аккомпанемент). Само собой, любой трюк следовал в режиме ad libitum, степень его агрессивности и дления полностью зависела от настроения артиста, а также реакции (причём, не только слушателей в зале, но и вообще кого угодно, включая аккомпаниатора или внезапно захохотавшего администратора зала). Всё ради прямого действия и дешёвого эффекта. — Конечно, самыми безотказными были звукоподражательные эффекты. Казалось, целая стая кошек орала дурными голосами прямо из корпуса скрипки, вне всяких законов приличия или хотя бы музыки, выжимая из публики почти физиологический хохот (эффект Чаплина). Но были выходки и потоньше, так сказать, более деликатного оттенка. Условно их можно было бы назвать «интеллектуальными гримасами» в форме комментария (не без лишней канифоли, конечно). Как правило, они выскакивали (как болванчики) в виде музыкальных мотивчиков, цитат или ярких (дразнящих) речевых интонаций: иногда злободневных, иногда — напротив, из области «прекрасного». Но так или иначе — всегда относившихся к последней, только что прозвучавшей фразе, слову, намёку (и не в последнюю очередь — политическому, как это ни странно услышать в кошачьем контексте).[комм. 16] Этот савояровский приём оживления и усложнения изначально примитивной (почти физиологической) музыкальной ткани напомнил мне состоявшийся десятью годами позже «Relâche» месье Эрика Сати. Написанная и поставленная в конце 1924 года, эта его последняя (жёстко-дадаистическая, между прочим) партитура под названием «Спектакль отменяется» носила (присвоенный самим автором) жанровый подзаголовок «обсценный балет».[15] Причина обсценности была в точности той же, что и у мсье Савоярова. Оркестр поминутно гримасничал (разве только политональности почти не встречалось), регулярно выплёвывая в публику разбитные мотивчики из самых неприличных парижских песенок того времени, для которых в каждом случае имелись и свои «нехорошие» выражения. Иной раз, даже очень нехорошие...
И здесь нет ровно ничего неожиданного, если хотя бы немного представлять: о чём (или о ком) здесь идёт речь. А иначе, откуда бы у Савоярова взялась нерукопожатная репутация «артиста низкого стиля», «слишком грубого куплетиста» или,[27] наконец, «короля эксцентрики» (но никак не юмора или шутки). Разумеется, Савояров был эстрадным автором и таким же артистом, главной задачей которого (по службе) оставалось: развлечение публики. «Согласно должностному расписанию», он не имел права на скуку или, напротив, дебош. И тем не менее, ему удалось перейти поставленную черту жанра, покинув территорию классической эстрады. Тонкая грань, отделяющая развлечение от фумизма, буйного искусства пускать дым в лицо — она тем и хороша, что в каждый отдельный момент можно пересекать её в любом направлении. «Потому что туда и обратно — хоть и глупо, но всё же приятно...», перемещаясь по произволу или в качестве мгновенной реакции на изменение настроения публики (чтобы не пережать, не переборщить, не передавить). И всё же, маневрирование во время выступления нисколько не меняет (сути) дела, потому что единожды — раз и навсегда — Савояров пересёк эту черту, превратившись из обычного артиста эстрады в «клоуна-убийцу», способного (как и всякий авангард) не только развлекать, по простоте душевной, но и — разрушать (причём, не только искусством, но и само искусство, изнутри и снаружи)... — Казалось бы, всего лишь «кисанька», пустяковые куплеты о банальном любовном треугольнике в среде дворовых животных. И тем не менее, даже они без малейшей скидки годились в качестве материала для решения совершенно непустяковых задач (формальных, психологических и фумистических). — В большом деле мелочей не бывает..., или (как в своё время сказал мсье Фражероль): все искусства должны стать дымом или вылететь в трубу...[28] Собственно, и чем не труба (ещё одна): даром что всего лишь «кисанька». Отличный повод для очередного упражнения в стиле малого фонфоризма... (для тех, кто понимает).
Вóт, значит, на чём была (в первую голову) настояна савояровская кошачья эссенция, непереводимая не только на бумагу (не только Эвтерпы, но и Талии), но и даже на русский язык. Крайний натурализм (лакомая мишень для всякого фумиста). «Отвратный» кошкодёр Эмиль Золя, троекратно имитированный и высмеянный Альфонсом.[31] И конечно же, Савояров не останавливался на «сусальной» (мещанской) имитации миленького кошачьего мяуканья или мурлыканья (хотя зачин всегда бывал вполне пристойным... и не каждый раз дело кончалось зверским дебошем). Но если обстановка (в зале и внутри тела) позволяла..., или, тем более, располагала... — Тогда нечего и говорить. Подогреваемый скотскими воплями своей же мартовской скрипки, автор-артист всё больше отвязывался, распоясывался, пока, наконец, не представлял в каденциях, припевах и эпилоге окончательный (тупиковый) вариант «зверинской улицы». Между прочим, и на этот счёт «муза Эвтерпа» попустила один маленький артефакт, который далеко не сразу бросается в глаза (если глядеть в ноты, а не на Савоярова). Речь идёт о припеве, где после первой фразы: «Маша-киса, Маша-киса, мя-у, мя-у» и глаз, и ухо (и даже мозг) ожидает точного повтора в следующем ответе. И только очень цепкий (кошачий) взгляд замечает, что его (повтора) не последует. Вторая фраза организована с жёстким усилением ритма: «Где ты киса? Отзовися! Мяу, мяу, мяу!» Казалось бы, сущая мелочь (пропущенная и попущенная благодаря «редакцiи извѣстнаго композитора А.Н.Чернявскаго»). Но сколь много она говорит (нескромным намёком) о той отвязанной импровизации (имитации), которую позволял себе в (кафе)-концерте герр Савояров, действуя свободно и безо всякой «извѣстной чернявой редакцiи»,[комм. 18] висевшей над головой наподобие сигарной гильотины... — Остальное, впрочем, оставим на волю «хвантазии» (автора, читателя и прочих «посторонних»)...[14] Пожалуй, пора кончать (кисаньку). И в самом деле, не слишком ли много слов сказано (об одной только музыке..., не так ли?), для начала. Дикция, интонация, имитация, скорость речевых реакций и точность интонирования... И это всё всерьёз? Невероятно, попросту говоря, в голове не укладывается (ни вдоль, ни поперёк, ни даже в штабелях). — Итого: подводя двойную жирную черту под непомерным савояровским изобилием, можно ограничиться всего одной фразой: «под конец на этой кисаньке не было живого места». И точно... Вопила она как резаная (и не одна, к тому же). Но... не следовало бы и слишком сужать (собственное понимание). Ибо... далеко не одним только (физиологическим) натурализмом исчерпывались савояровские имитации. Не стану (под занавес(ку) утомлять (себя) напрасным перечислением. Поскольку в качестве материала для имитации (или импровизации) годилось всё, буквально всё, любой подручный (или заплечный) материал, лишь бы только он физически годился, был доступен для имитирования. А в качестве механизма «естественного отбора», как всегда, выступали подопытные кролики (не кошки), точнее говоря, публика (кафе-концерта), о вкусах которой в те времена можно было говорить только как о покойнике: либо хорошо, либо — никак.
...закончим ими, как самым простым, безобидным & наглядным (как это ни странно). 5. Куплеты. Или, проще говоря, несколько слов о тех словах (как печатных, так и непечатных, не говоря уже о вне’печатных), которые не могли попасть (и, как следствие, конечно же, не попали) в нормативное издание бульварной музы «Эвтерпы». А затем, не попав в печатные нотки, они резонным образом испарились в воздухе, — не сохранившись (для потомков) в полном, фиксированном & общедоступном виде. И только редчайшие ренегаты (исключительно в моём лице), пользуясь семейственностью и своим родственным положением, могли себе позволить хотя бы фрагментарное знакомство с не...печатным материалом. Источника как всегда было два, крайне неровных и неравных на всём своём протяжении: с одной стороны, записные книжки, пометки и черновики Савоярова...,[4] и, с другой стороны, устные свидетельства его вдовы (сопровождаемые посредственным напеванием и игрой на домашнем пианино «Красный октябрь»).[10] При всей своей несравненной несравнимости (по внутренней содержательности и содержанию), я всякий раз ставлю их в строку, следом, поскольку они соотносятся как причина и по...следствие: без второго попросту не было бы первого. Итак, повторю как аксиому (не требующую не только доказательств, но и пояснений): печатный вариант (в три куплета), многократно опубликованный изд(ев)ательством «Эвтерпа» и принципиально носивший оскоплённый (галантерейно-оперетточный) характер, имел только самое отдалённое отношение к той взъерошенной подмоченной «Кисыньке» с растопыренными лапами, которую артист Савояров вытаскивал на сцену под довольный гогот публики...[комм. 19] Чаще всего — за шкирку. И разумеется, такая подача сразу рождала и соответствующий текст: всегда по-случаю, только сегодня, «здесь и сейчас», на злобу дня и ночи. Как всегда, Савояров — «в своём репертуаре». Пока не попадёт на бумагу, в руки извѣстных ценсоров и редакторов, старательно выскопляющих всё лишнее, всё торчащее, всё живое. И прежде всего, фирменной савояровской интонации прямого диалога или обращения — нет, да и не могло быть в стандартных эвтерповских нотках, продаваемых вчера, завтра и через год «никакому» (обезличенному) покупателю с обобщённым (опосредованным) лицом. И здесь уж нет особой разницы: о словах ли, о музыке ли идёт речь. Равным образом, отовсюду тщательно вычищался любой экспромт, имитация или импровизация, всё прямое и непосредственное, не подлежащее впихиванию в стандарт. Как результат, из живого (и даже животного) музыкального скетча пришпиленная к бумаге кисанька мутировала — прямым ходом — до состояния гербария: засушенной арии из популярной оперетты «случай на Зверинской». Причём, вся эта чистка не носила ни малейшего признака зловредности (мой Бог, чистейшая правда), скорее напротив, — главной присказкой (почти молитвой) была исключительно коммерческая забота о «благе публики» (читай: покупателя): кабы ничем не омрачить его чело и не усложнить восприятие очередной трижды жёваной песенки. — Автор-юморист, уж если он «взялся» за дело народного развлечения, не должен позволять себе «кое-чего лишнего».[33] Руки по швам. Улыбочка как положено, без тени сомнения. Над средним уровнем (почвы) не должно было ничего торчать, высовываться или, тем более, колоть глаз. Всё гладко, всё ровно: без единого сучка или задоринки.
Чуть выше я уже приводил пример лёгкой мутации текста (в порядке авторской импровизации или «ответа» во время концерта), когда припев внезапно переадресовывался к «Мише» Кузмину (вот уж, право слово, «настоящая киса», безо всяких скидок на эпоху). Вряд ли стоило бы загромождать страницу подобными примерами живой реакции (тем более, что их в полном виде почти не сохранилось — по основному их свойству), если бы не их шершавая поверхность, между задирами которой, иной раз, можно обнаружить немало деталей и обстоятелств «времени и месте действия». Иной раз даже один такой трюк позволяет увидеть много больше, чем любое увеличительное стекло. Тем более, что в своё импровизационном свойстве кошачья идиллiя не стала ни уникумом, ни исключением. Почти все темы, пригодные для освежения (оживления & озлобления) «бесконечных куплетов», находили своё место и здесь. Всё как в потаённых (ч)ерновых с(о)борниках савояровской поэзии. «Сатиры и сатирки» (включая «большую» политику), «наброски и отброски» (скабрезности), «стихи я» (психология и физиология), «вариации диабелли» (на поповскую тему), «оды и пароды» (на коллег по литературному и соседним цехам), «кризы и репризы» (сценические наезды и отъезды) ну... и так далее.[10] — И в первую очередь, кисанька не избежала анархических (анти’монархических) впрысков со стороны своего неупрвляемого автора, в течение двунадесяти лет относившегося к царьку Николаю II как к своему первейшему династическому противнику и конкурренту (не только «дурному», но и нечестному, сверх нормы). Даже не заикаясь об элементарной сохранности текста, сегодня очень трудно не только восстановить, но и понять злобо’дневные строчки савояровских куплетов. Полные ядовитых (очень актуальных) намёков на толстые обстоятельства (сегодня они кажутся «тонкими», но это чистая видимость, скраденная временем), несомненно, они в полной мере страдают синдромом «эзопова языка».[34] Но в условиях публичного концерта иначе и не могло быть. Конечно, Савояров пользовался совершенно «посторонней темой» беззубой юморески про любовную историю трёх котов, где никто не мог ожидать намёков на жирные обстоятельства. И глядя теперь на странный припев «Киса-лиса», пожалуй, только с очень большим растяжением воображения можно догадаться, что речь (могла идти) — про жену царя (Алису, Аликс). Тем более, что тут явно не хватает авторской интонации (можно произнести с подствольным ударением «кис-Алиса», отчего намёк станет значительно прозрачнее). Куда меньше возможностей для толкования оставляет многократно отработанное четверостишие: «Однако, ты распутен, И князя не боясь, Успел дойти до сути, Что весь из грязи князь...» — причём, появившийся во второй строке неясный «князь» подменил собой всего лишь «кота-папу» (царствующего, но не вдовствующего). — Авторские импровизации, не слишком согласуясь с главной темой (якобы) заявленной в заголовке кисаньки, могли заходить как угодно далеко, временами теряя связь не только с первоначальной «кошачьей идиллiей», но и с простейшим сюжетом, — превращаясь в уходящую вдаль цепочку следов дадаистической игры в ассоциации. Единственным критерием при этом (повторяю) была только реакция публики: хохот, топот и подбадривающие крики. Как только зрители утихали, утомившись от слишком крутых виражей, сюжет (как ни в чём не бывало) возвращался на прежние рельсы.
6. Словарь. Разумеется, непечатный, который кардинальным образом отличал концертные версии «Кисаньки» от опубликованной в «Эвтерпе» жвачки. И здесь не остаётся ни малейшего места для заблуждений: наивный оперетточный стиль бульварных нот был столь же далёк от живой савояровской импровизации, как, скажем, зачёсанная на пробор фотография «пай-мальчика» Шумахера ателье Шерера отличалась от его зубодробительной «Оды Говну» или относительно скромной «Родни». — Кстати о птичках, отработанная годами застольных спичей сценическая метóда «деды-Пети» (единственного прижизненного учителя Савоярова) почти в точности повторяла всё то, что проделывал его нескромный ученик — только тремя десятилетиями позже. Правда, Шумахер не скрипел на скрипке и «даже» (почти) не пел, — это были «чисто-поэтические» выступления (иногда под аккомпанемент немецкого цитриста)..., но всё остальное в его импровизациях проявлялось в полной мере. Затеянные исключительно «чтобы кое-как заработать на пропитание», тем не менее, концерты эти проходили на громадном подъёме. Один из шумахеровских поклонников тех времён вспоминал спустя годы о шум(ахер)ном успехе этих артистически раскованных, эксцентричных (временами, смачных) декламаций, когда колоритный кинический поэт «под гром аплодисментов читал собственные злободневные куплеты, всегда свежие и остроумные»...[13] Не раз и не два (и даже не четыре) прос’какивали в азарте импровизации любимые шумахеровские кислобздёжные словечки из области исключительной дерьмографии и говнолирики, вплоть до отдельных бесценно-обсценных акцентов, прекрасно оттенявших высокий слог политической сатиры или деревенских «постаралей». — Правда, основу публики Шумахера составляли столичные студенты..., вследствие чего в скором времени у поэта возобновились проблемы и с местной полицией. Савояровские кафе-концерты (как и он сам) находились куда дальше от постоянной зоны интересов, к тому же, нравы начала XX века всё же не шли ни в какое сравнение с прекрасной обстановкой махровой реакции начала 1870-х... К тому же, савояровскую судьбу облегчали его частые гастроли по стране, отсутствие (политической) судимости и — репутация клоуна, музыканта, не предлагающего публике ничего настоящего, ничего серьёзного, ничего всерьёз. А потому мелкие шалости (тем более, от лица пьяницы, босяка или кошки) проходили без последствий. — Само собой, савоярский словарь не был выстроен целиком на жаргоне и прочей сниженной лексике, но присутствие соответствующих выражений даже в одной строке из десяти резко меняло всю «стилистику» куплетов, оскоплённых «чернявой Эвтерпой» под свои малые нужды.[комм. 22] — Особенной же смачности сниженной лексике, как мне надысь привиделось, добавляли деревенские акценты, прекрасно рифмующиеся (& сочетающиеся) со словом «киса» (или «кися»). Настойчиво отработанный на печатном варианте припева («отзовися»), этот приём позволял превратить любой возвратный глагол — в самобытный поэтический комплект (с лёгким гомерическим комплектом). К примеру, мою крайнюю благосклонность вызвал странный вариант, нацарапанный на обочине эвтерповских ноток: «Вася-кися, от’*бися, мяу! мяу! мяу!..» — Мне кажется, его одного уже было (бы) вполне достаточно для совершения маленького бескровного переворота...[комм. 23]
Кстати, напоследок позволю себе ещё пару слов о сакраментальной тошноте и её многочисленных творческих аналогах... Разумеется, и эта тема (ещё в самом начале 1900-х годов объявленная краеугольной для эпатажной части всего савояровского творчества) не избежала всестороннего развития (причём, в рамках «кошачьей едiллии», что выглядит особенно трогательным).[10] Само собой, в этом разделе я принципиально говорю только о поэтическом тексте, что же касается артистического изображения процесса (импровизации или имитации), то о них и без того уже было довольно сказано. Пожалуй, ради вящей порядочности её следовало бы сразу разделить на две (неровные и неравные) части: сюжетную (поскольку кисанька относится к типу песенок-сценок с последовательно развивающейся фабулой) и спорадическую (регулярно прорывающуюся сквозь поверхность любого куплета подобно огненным протуберанцам). В первом случае, как нам деликатно давал понять автор, «кошек тошнит» в разнообразных градациях агрегатного состояния: от лёгкой муторности до неукротимой рвоты. Причём, причины тошнотины могли быть самыми неожиданными (рвотная машинка заводилась буквально с полобормота): как прямыми, так и переносными (в ряде случаев дело шло, несомненно, о процессе чисто душевного или даже духовного характера). Но в любом случае, высокий шарм физиологии здесь правил бал. Разнообразно и всесторонне выражая свои эмоции, кошки могли тошнить от страха или волнения, от предвкушения или похоти, от «вчерашнего» или перед «завтрашним», если «съели чего-то нехошего» или «обожрались чем-то прекрасным», наконец, в результате истощения или беременности. Недостатка в поводах для главного процесса не ощущалось никогда. Все они были отработаны многократно и сделались почти универсальными — читай: едиными для всех и всяческих куплетов. В последние предвоенные годы, скажу наконец, Савояров настолько натренировался и втянулся в собственные «рвотные каденции», что получил серьёзные осложнения со здоровьем — и помимо сцены его нередко начинало рвать с лёгкостью невероятной и с любой «ноты». Как говорится, слишком «слился с образом» (война, впрочем, быстро вылечила эту невралгию). С другой стороны, (кошачью) рвоту могло вызвать любое упоминание о тошнотных («для кошек») материях: политической ситуации, церковных делах, новостях поэзии или живописи, очередных взрывах или стрельбе по столыпиным, — наконец, (не)подходящий выкрик из зала. В идеале символически выраженный процесс отторжения мог стать прямой реакцией на любой раздражитель. — Разумеется, всё перечисленное очень далеко выходило за рамки дозволенного мадам-Эвтерпой, а также её многочисленными ассистентами, слугами и секретарями. Более чем достаточная причина столь позднего и скромного (по числу и полноте публикаций) издания «оскоплённого собрания сочинений» короля эксцентрики. Ничуть не рискуя впасть в банальность, (хотя какой же в том риск?) можно было бы закончить эту столетнюю идиллiю примерно такими словами... А не какой-то там..., кошачьей...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ис’точники
Лит’ ература (словно из песни)
См. тако же
— Все желающие сделать некое дополнение, — могут отметиться, как всегда в одном месте, — как с той песней...
« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »
| |||||||||||||||