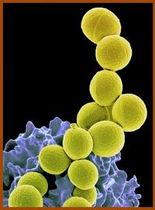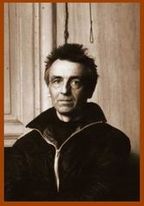Вселенский разум себя (Натур-философия натур)
( или «диалог в одиночестве» )
Для этого достаточно и женщины, вполне. ( Михаил Савояровъ )
с
...Трудно избавиться от самых дурных ассоциаций при созерцании подобной, с позволения сказать, прото’философии в халате на голое тело..., или в кальсонах с растянутыми коленками. Более всего эта картина напоминает громадный ко(с)мический телескоп, направленный самому себе в затылок... или маленькую приватную комнатку кривых зеркал, в которой всякий смертный волен пре...даваться собственному, ничем не ограниченному образу..., во многих видах.[комм. 2] — Во́т он, прямо здесь..., как на ладони, этот маленький человеческий разум, с громадным напряжением пытающийся разглядеть в сверкающих сферах хрустального свода небес своё горнее отражение. Глядя на самого себя сверху, причём, вовсе не ради того, чтобы снизойти, но только — возвыситься... Разумеется, он — прав. И даже более того, он — трижды прав: это похвальное занятие, которое нельзя не одобрить..., на фоне прочих человеческих развлечений (по крайней мере, разумея его относительную безобидность). — И всё же временами трудно бывает избавиться от смутных ощущений ... или ассоциаций, о большинстве которых попросту умолчу... Пожалуй, довольно будет только одного. Потому что более всего подобные попытки напоминают «выборы очередного царя», назначаемого самим царём из числа десяти высочайших кандидатов в лице царствующего монарха, а также девяти его земных ипостасей. — Короче говоря, налицо ортодоксальная картинка с одним (главным) действующим лицом во всех ролях. С царём в голове, или без оного..., однако подобные выборы с удивительным постоянством всякий раз приводят к одному и тому же результату.
Согласно общепринятым энциклопедическим данным, первым философом, попытавшимся дать определение некоему абстрактному уму (интеллекту или разуму) в качестве высшего принципа мироздания, — был печально известный Анаксагор из Клазомен.[комм. 3] Во всяком случае, именно такой вывод придётся сделать, если хотя бы на минуту поверить одному из доблестных учеников Сократа, вечно путающему и врущему Аристотелю.
...Что одни вещи бывают, а другие становятся хорошими и прекрасными, причиной этого не может, естественно, быть ни огонь, ни земля, ни что-либо другое в этом роде, да так они и не думали; но столь же неверно было бы предоставлять такое дело случаю и простому стечению обстоятельств. Поэтому тот, кто сказал, что ум находится, так же как в живых существах, и в природе, — и что он причина миропорядка и всего мироустройства, казался рассудительным по сравнению с необдуманными рассуждениями его предшественников. Мы знаем, что Анаксагор высказал такие мысли, но имеется основание считать, что до него об этом сказал Гермотим из Клазомен. Те, кто придерживался такого взгляда, в то же время признали причину совершенства <в вещах> первоначалом существующего, и притом таким, от которого существующее получает движение...[3] Таким образом, первое слово (как будто) сказано... — Значит, Анаксагор. И ещё (до него) — какой-то смутный и малоизвестный Гермотим. Последний, впрочем, заслуживает отдельного слова (понятно, что сведения об этом персонаже приходится выискивать буквально по крупицам).
— Так это или иначе, но в полном согласии с деревенскими хрониками Клазомеи, означенный Гермотим слыл среди местного населения не столько философом (или, не дай-то бог, «софистом»), сколько очередным чудотворцем, душа которого якобы была способна на длительное время покидать тело, а затем снова возвращаться в него.[5] — Кстати говоря, весьма красноречивая деталь, указывающая на само’замкнутые медитативные практики — как один из общедоступных методов доказательства существования некоего особого рода психической активности, доступной для контактов с индивидуальным сознанием, однако находящейся не в общепринятых пределах человеческого организма, а за его пределами. И здесь, вне всяких сомнений, мы (буквально со второго шага) пересекаем невидимую (но очень существенную) границу между философией и религией. И даже более того: системной религией, как способом организации власти одних людей над другими (тоже) людьми. Когда незатейливый фокус (чудо) становится лучшим методом «доказательства» собственной исключительной силы (или особой связи с высшими правителями мира) и, как следствие, правом управления обществом и особой причастности к жизненным благам. Вкратце это называется словом «жрец». Человек, который жрёт... Непрерывно. Практически, всю жизнь. И это его основное занятие..., так сказать, миссия среди остальных людей.[6] Плотских, душевных и даже духовных. — Всех..., без исключения. Потому что он, единственный (и неделимый) имеет такое право. Как вселенский разум. Проще говоря, как бог. Или — почти... Без пятнадцати минут — он.
— Между прочим, способность к подобным «сверх’естественным» и «потусторонним» контактам особенным (организующим) образом зафиксирована и в специфическом авраамитском (религиозно-суггестивном) понятии ‘духовность’, предусматривающим деление всех людей на три категории (по степени причастности к высшему разуму): плотских, душевных и духовных. Можно даже сказать, что на краеугольном камне этого понятия была выстроена немалая часть иудо-христианской спекуляции. Конечно же, чётче других об этом предмете судил апостол Павел, как (в высшей степени) причастный ко всему, что касалось вопросов небесной классификации : ...Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сём <надобно> судить духовно. Но духовный судит о всём, а о нём судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы <всякий мог> судить его? А мы имеем ум Христов...[7]
— И верно... Пожалуй, именно здесь, в скрытой «критике суждения», слегка прикрывающей вполне стандартную (типично иудаистскую) проповедь избранности сословия жрецов,[комм. 4] — и заложен основной парадокс совокупного сознания, пытающегося представить самоё себя через собственную малую часть: интеллект одного человека. — Всегда индивидуума, всегда единого во множестве, пускай даже и встающего последовательно на цыпочки, подставляющего себе маленький стульчик или лесенку, чтобы казаться выше, сильнее, все’охватнее, — наконец, уходящего в пустыню, горы, ближе к небу, так или иначе, к сакральному одиночеству... — Короче говоря, в попытке приблизиться к тому со-стоянию, в котором единственность собственного разума (в собственном представлении) начинает медленно возрастать, мало-помалу приближаясь к спекулятивному единству или единому всемирному Духу. Так или иначе, но все перечисленные выше средства — облегчают прямое сопоставление микро-космоса (самого себя) с космосом собственного умозримого мира. И тогда разница между ними, приближаясь к образу идеального мира, — начинает постепенно бледнеть и стираться, пока не становится пренебрежимо малой...
Примеров тому — несть числа..., можно сказать, что мать-история в любую эпоху и во всяком месте земли производила подобные препараты с удивительной регулярностью: тысячами или даже миллионами (многие из которых нам отлично известны: поскольку они достигали известных высот в своей «духовной» или «научной» популярности).
Сегодня..., пытаясь воссоздать и (отчасти) повторить этот путь, остаётся только сожалеть о какой-то изуверской привычке «вселенского духа» постоянно стирать и заметать собственные следы... на песке времени. — Ярчайшая греческая вспышка, воплощённая тремя смертниками (Анаксагором, Протагором и Сократом), этой (не)святой троицей прото’философии, оставила ныне (в нашем «настоящем будущем») крайне бедные результаты, прямо-таки на грани духовной нищеты. — И произошло это, в основном, стараниями разного рода посвящённых, подвижников и прочих верующих (в мировой Разум, вестимо). Прежде всего, конечно, в этом процессе преуспели христианские функционеры — имевшие сакральное обыкновение в массовом порядке выносить приговоры и сжигать как письменные источники, так и их авторов, — чтобы содержащаяся в них искра «высшего разума» впредь уже не могла составить конкуренции высшему «божественному принципу» власти... Вероятно, так оно всё и было: по указанной (строкой выше) причине наша нынешняя способность цитировать первые открытия греков (постоянно ломившихся в открытые двери собственной черепной коробки) крайне скудна, и в основном ограничена узким кру́гом «чудом уцелевших» учеников Сократа, которые почти полторы тысячи лет просуществовали в форме высочайше дозволенного разума. А что в результате? — тщательно прополотая грядка дохристианской философии напоминает китайский ботанический сад: «...и пускай цветут сто цветов» (из безопасных одуванчиков с оскоплёнными ромашками). — С утра до вечера приходится загибать только два греческих пальца, обращаясь к одним и тем же греческим именам.
— В частности, постоянно привлекает к себе внимание этот... платонический тип, степень личной чистоты помыслов которого не позволила ему даже присутствовать при факте смерти горячо любимого учителя. Сражённый болезнью, он не захотел смотреть, как приговорённый к смерти философ выпивает любезно предоставленный ему (полномочными представителями афинского государства) сироп из одуванчиков. Но «зато» в вопросах вселенского разума — компетенция этого ученика, несомненно, са́мого идеального из всех учеников на свете, с годами стала поистине непререкаемой. К примеру, пытаясь наглядно представить себе процесс сотворения некоей Мировой души, Платон обнаруживает странное (временами почти интимное) знакомство с этим эфирным предметом (что, несомненно, разоблачает в нём прирождённого визионера или такого же иллюзиониста), — хотя, в полном согласии с господствующей греческой традицией своей эпохи, всё же старается не прибегать к авраамитским (точнее говоря, иудейским) способам определять и доказывать нечто, по са́мой сущности своей не имеющее ни определений, ни доказательств: ...То, что Бог уделил пророческий дар человеческому умопомрачению, может быть бесспорно доказано: никто, находясь в своём уме, не бывает причастен боговдохновенному и истинному пророчеству, но лишь тогда, когда мыслительная способность связана сном, недугом либо каким бы то ни было приступом одержимости. Напротив, дело неповреждённого в уме человека — припомнить и восстановить то, что изрекла во сне либо наяву эта пророческая и вдохновенная природа, расчленить все видения с помощью мысли и уразуметь, что же они знаменуют — зло или добро — и относятся ли они к будущим, к минувшим или к настоящим временам. Не тому же, кто обезумел и ещё пребывает в безумии, судить о собственных видениях и речениях! Правду говорит старая пословица, что лишь рассудительный в силах понять сам себя и то, что он делает. Отсюда и возник обычай, чтобы обо всех боговдохновенных прорицаниях изрекало свой суд приставленное к тому племя истолкователей; правда, и их самих подчас называют пророками, но только по неведению, ибо они лишь разгадывают таинственные речения и знаки, а потому должны быть по всей справедливости названы никак не пророками, но толкователями при тех, кто прорицает. Таковы причины, по которым печень получила вышеописанное устройство и местоположение; целью было пророчество. И в самом деле, покуда человек жив, печень даёт весьма внятные знамения, хотя с уходом жизни она становится слепой, и тогда её вещания слишком туманны, чтобы заключать в себе ясный смысл...[9] Вероятно, комментарии здесь и в самом деле неуместны. — Как говорил в своё время бледный Кафка, словно эхо, повторяя слова своего ветхо(заветно)го кумира Фридриха, — «...психология – ещё раз психология, и в последний раз психология! И куда бы ни уйти – снова в последний раз психология!..»[10] — Читая слова давно мёртвого человека, иной раз забавно..., и отчасти даже небесполезно бывает последить за выражением его лица, — казалось бы, давно утерянного или истлевшего под белёсой коркой земли. В ряде случаев, должен сказать, это выражение..., интонация или даже акценты отдельных слов несут в себе информацию куда более значительную и точную, чем сами слова и фразы, как бы многозначительны они ни были.
...Даже предаваясь самым абстрактным, идеальным и возвышенным фантазиям о заоблачных формах разума, Платон вынужден то и дело умерять взмахи крыльев своего человеческого интеллекта, оборачиваясь или вовсе возвращаясь обратно: к питающей его земле и телу, чтобы там черпать средства для аналогий и опоры для очередного полёта умственных спекуляций. — Иначе (и это вполне отчётливо заметно) очень скоро слова его перестают ему подчиняться, превращаясь в отдельную силу, с которой он более совладать не в состоянии. И тогда... тем более заметной становится ещё одна извечная функция всех человеческих разглагольствований о разуме. Начинаясь откуда-то снизу, из внутренней точки под именем «страх», очень часто они ведут по короткой извилистой тропинке — через границу, совсем в другую область, имеющую название: «компенсация». И тогда всемирный разум (словно на призрачно-прозрачном рентгеновском снимке) становится (в более или менее явном виде) всего лишь способом сокрытия (или подъятия) собственных рассуждений и придания им отвлечённой (в данном случае — не религиозной и не жреческой) формы абсолютности.
И в самом деле, какая неприятность!.. — как выяснилось по прошествии стольких-то лет (после рождения и всего, что за ним последовало), не слишком-то всё и величественно... — Царь земли?.. Как бы не так. Всего лишь — человек. Один человек. И не более того... — Мой разум слаб и не́мощен. Слишком многое на свете я не способен превозмочь (или постичь), раз и навсегда оставаясь не слишком сильным стайным животным среднего размера, утерявшим природную универсальность и достигающим господства исключительно путём своей совокупности. — Всё, что не могу превозмочь я один, способно моё — сложение. Всё, что не осилит мой утлый ум, то наверняка одолеет — Он, Высший разум... Несомненно, способный на Всё. И существующий в человеческих интересах. Нужно только найти путь, чтобы Его способность не пропадала втуне, но совершала действия на благо — меня, нас, всех... — Желательно, первое, конечно. Как в сказке. Но и последнее — тоже далеко не последнее дело (особенно, если первое по какой-то причине не выгорело)... При любом сценарии можно попробовать что-то урвать..., для себя. Будь то на ниточках, при помощи цепей, канатов, молитвы или божественных лучей — подходящий канал всегда найдётся.
Что же касается основных функций собственно-ума человеческого, то ещё Аристотель (как это может показаться на первый взгляд) посчитал необходимым внести в этот вопрос некоторую ясность. — Действуя в рамках своего личного разумения, вестимо... ...А мышление, каково оно само по себе, обращено на само по себе лучшее, и высшее мышление — на высшее. А ум через сопричастность предмету мысли мыслит сам себя: он становится предметом мысли, соприкасаясь с ним и мысля его, так что ум и предмет его — одно и то же. Ибо то, что способно принимать в себя предмет мысли и сущность, есть ум; а деятелен он, когда обладает предметом мысли; так что божественное в нём — это, надо полагать, скорее само обладание, нежели способность к нему, и умозрение — самое приятное и самое лучшее. Если же Богу всегда так хорошо, как нам иногда, то это достойно удивления; если же лучше, то это достойно ещё большего удивления. И именно так пребывает он. И жизнь поистине присуща ему, ибо деятельность ума — это жизнь, а Бог есть деятельность; и деятельность его, какова она сама по себе, есть самая лучшая и вечная жизнь. Мы говорим поэтому, что бог есть вечное, наилучшее живое существо, так что ему присущи жизнь и непрерывное и вечное существование, и именно это есть бог...[12] Пожалуй, этот отрывок мало что проясняет..., если Аристотель вообще ставил перед собой цель: хотя бы что-то прояснить. Но с этой целью он очевидно не справился. Возможно, справился, но с какой-то другой, впрочем, при том что не известно — какой именно... В общем, очень много тёмных пятен в этой истории. Равно как совершенно не прояснённым в данном случае остаётся и модус причастности ума душе, а также — и весь комплекс тех причудливых и странных взаимоотношений, в которых они между собой находятся (или могут находиться). Короче говоря, всё самое важное в этой неточной науке остаётся в зоне смутных представлений или обыденной мифологии. Из пространных рассуждений Аристотеля мы можем сделать вывод, будто на свете есть некая душа, а также (как-то ей) соответствующее слово «душа», однако ничего более конкретного и пригодного для каких-то мало-мальски определённых выводов здесь извлечь не удаётся. — Правда, мы помним, что значительно раньше и выше (по тексту) Аристотель уже сделал серьёзную заявку на внутреннюю классификацию этого (излишне эфемерного) понятия. И даже указал несколько основных свойств души, которые (видимо) позволяют её диагностировать и надёжно отличить от прочих объектов внутреннего (или внешнего мира). Согласно тому же Аристотелю, таковыми свойствами среди философов его времени считались : ...движение, ощущение, бестелесность. Поэтому даже те, кто определяет её через познавание, изображают душу как элемент или как состоящую из элементов, <основываясь на том,> что подобное познаётся подобным. Поскольку же душа познаёт всё, она, по их мнению, состоит из всех начал. Таким образом, те, кто признаёт одну причину и один элемент, считают и душу чем-то одним, например огнём или воздухом. Признающие же много начал считают и душу состоящей из многих начал. Только один Анаксагор утверждает, что ум ничему не подвержен и ни с чем другим ничего общего не имеет...[13] — Но увы, подобный (с позволения сказать) результат исследования довольно трудно считать «внесением полной ясности», — тем более, что он грешит массой противоречий и иносказаний. Пожалуй, в известной степени можно было бы охарактеризовать подобный текст как поэтический перевод (вдобавок, не слишком-то удачный) или отрывок из сочинения типического графо’мана, пытающего подделаться под стиль и умысел Аристотеля...
К примеру, в рамках того же талмуда («О душе») предполагаемый автор неоднократно предостерегает от попыток связывать мышление со вторым свойством души — ощущением.[16] Бог весть, и че́м могло бы грозить нарушение этого незыблемого правила «всему прогрессивному человечеству»..., в течение будущих (равно как и прошлых) двух тысяч лет, как говорится, и не тако́е ещё нарушавшему... Однако на тот истерический исторический момент (и в самом деле, он был почти наглядно-истерическим для Греции, накануне гибели государственности) Аристотелю, видимо, казалось крайне важным предостеречь все мыслящие разумы от ужасной ошибки, равной которой не было ни до, ни после... Ни даже — во время. Иной раз просто за голову схватишься, глядя на отдельные про...зрения гения человеческого.
И всё-таки, не будем предаваться чрезмерной иронии, поблагодарив древнего авторитета (в своей области). Всё же, некое слово (о душе) было сказано. Даже — целых три, действуя в полном согласии с одним из базовых природных свойств зачаточного интеллекта приматов, склонным классифицировать и раскладывать (а затем и перекладывать) в определённом порядке предметы и вещи. К примеру, камешки на песке. Или засохшие фиги на опавших листьях.[18] Или палочки на стволе упавшего дерева. Или тушки мёртвых мышонков на лесной тропке. Что уж тут поделаешь, если такова природная наклонность этих милых животных... Любят приматы раскладывать и перекладывать всякие безделушки, особенно — когда сыты и покойны. Причём, делая это таким образом, чтобы у них за счёт созданного (а затем и пересозданного) порядка каждый раз появлялась некая формальная или сакральная видимость: сначала умысла, а затем и — смысла. Особо замечу: ничуть не практического. А временами даже и напротив: иногда бесполезного, а зачастую — очевидно вредного... (разумеется, с определённой стороны понимания вреда). Несомненно также, что благодаря именно этой естественной склонности нам теперь известно, что «всякая душа» обладает такими ценнейшими в обиходе свойствами, как: «движение, ощущение и бестелесность». А в результате почти всякий одушевлённый предмет, вооружённый знанием данной классификации, оборотив взгляд разума внутрь себя, может разъять собственную душу на составляющие, а затем составить обратно, попутно получив порцию громадного удовлетворения. — Настолько же естественное и соответствующее природным наклонностям, как и все три перечисленные выше свойства души. Напомню их ещё раз (для тех, кто уже успел позабыть): движение, ощущение, бестелесность.
Что же касается до первого её свойства (а именно: движения), то в своей картине миропорядка Аристотель связывает его с неким эфемерным образованием, со всей возможной многозначительностью именуемым «разумными ду́хами», — причём, без малейшей попытки пояснить, чем именно они отличаются, к примеру, от ду́хов неразумных (если таковые на самом деле существуют в реальности). Совсем не трудно понять: почему и зачем это всё было сказано (и записано). Гораздо сложнее получить из этого какую-то разумную информацию, говорящую о чём-то, кроме внутренностей самого́ автора, каково бы ни было его имя: Аристотель, Гермоген или Гиппиус. Ничуть не совестясь столь пренебрежительной оценки прозы Аристотеля, тем не менее, я должен сказать, что моя критика носит сугубо структурный (классически конструктивный) характер. К тому же, она не одинока. — В частности, своими последними тезисами Аристотель даёт повод для весьма жёсткой и жестокой критики герру Лейбницу: ...Средняя физика Аристотеля, содержащая в себе книги «О возникновении и уничтожении», «О небе и метеорах», к которым можно добавить книгу «Об ощущении и ощущаемом» и другие подобные книги, представляет весьма незначительную ценность. Ибо желание объяснить всё подлунное, исходя из четырёх первичных качеств и комбинаций производимых от них элементов, более приличествует забаве гения, чем серьёзной науке, особенно если учесть, что он не объяснил, в чём именно состоит природа этих качеств. И тем не менее эта выдумка настолько понравилась Галену,[комм. 5] что он заразил ею всю медицину. Правда, нельзя отрицать, что идея четырёх элементов содержит в себе нечто истинное, ибо во всяком случае верно, что мы чувственно воспринимаем четыре огромные телесные стихии: огонь, который разносит с собой солнечный свет, воздух, который окружает этот наш шар, и, конечно, воду и землю, на которые разделяется поверхность земного шара. Но приписывать одним телам прирождённую тяжесть, другим — лёгкость, подлунным телам — движение от центра и к центру, небесным — круговое; утверждать, что небесные тела лишены всякого изменения; составлять весь мир подобно луковице из нескольких покровов, или нескольких хрустальных сфер, обращающихся вокруг самих себя, к каковым-де небесным сводам, как золотые окаймления наших колесниц, прикрепляются звёзды, блуждающие для тех, кто внизу, и неподвижные для всевышнего, приставлять к этим сферам разумные духи (интеллигенции), единственной функцией которых является вращать их наподобие мельничных жерновов; наконец, связывать высший из разумных духов и интеллигенцию, удостоенную имени Бога, с последней сферой или первым двигателем — всё это, разумеется, во многих отношениях абсурдно и недостойно философа. <...> Ведь если элементы могут сами собой стремиться вверх или вниз, почему бы и сферы сами собой не приводились в круговое движение? Потому-то некоторые из учеников добавляли к остальным девятую подлунную интеллигенцию, которая, дескать, приводит в движение элементы; а некоторые думали, что этот действующий в нас разум, о котором Аристотель писал, что он приходит извне и является отделимым, есть либо указанная интеллигенция, либо душа подлунного мира...[19] Ничуть не лучше обстояли дела и с третьим свойством души — её бестелесностью. При всей своей неоспоримой авторитетности, Аристотель, не обладавший, — как справедливо замечает герр Лейбниц, — даже минимально необходимой математической подготовкой,[19] решительно отвергает какую-либо связь между душой и гармонией. [20] Если припомнить его типично декоративный, нумерологический подход к пифагорейской математике, то в подобном подходе нет ровно ни-че-го удивительного. Между тем, не стоило бы преуменьшать реальное значение некоторых, как казалось бы на первый взгляд, «прикладных» или даже утилитарных знаний, которые зачастую пронизывают повседневную жизнь большинства людей, временами (как следствие) попадая в самые отдалённые и неожиданные уголки вселенского разума — прям, «из грязи в князья». А потому и приходится постоянно помнить..., пардон, — держать подобное понимание про себя, имея в виду общую укоренённость подобного подхода и точки зрения в современной цивилизации: снизу доверху (начиная от обыденных трафаретов сознания и кончая расхожими клише так называемого «научного познания», насквозь пропитанного клановыми традициями и ритуалами).[21] Отлично понимаю: насколько затемнена для понимания эта маленькая мысль. Одну минутку, сейчас объясню: о чём здесь идёт речь...
— По своей сердцевинной сути, пытаясь выражаться современным языком, — доктрина пифагорейской гармонии представляет собой систему аудиально-структурированного времени. И если ещё раз попытаться перевести эту формулу на язык удобо’понимаемых понятий, то старик Пифагор, опираясь на основы базовых психо-физических понятий и предметов, даёт универсальный инструмент толкования и измерения абстрактного понятия «времени» через процессы периодических колебаний, в ряде случаев проявляющих себя как видимое движение или звук. — Проще говоря, его аудио-математическая система заняла место едва ли не единственного (возможного и реально представимого) естественно-научного инструмента анализа «вещей бестелесных», а также едва ли не са́мого сильного связующего звена между двумя (вечно разделёнными) мирами: «материальным» и «духовным». Кроме того, внутреннее устройство пифагорейской гармонической системы позволяло ей неоднократно становиться реальным фактом новой или новейшей науки (как теории, так и практики), допуская, в частности, расширенную и поновлённую интерпретацию в качестве хронологической теории сознания.[комм. 6]
Благодарю тебя я, стоя на коленях, Ах, господи, опять ты всех опередил![23] ( Михаил Савояровъ )
п
Впрочем, именно здесь (как казалось бы) очень своевременно совершить ещё один разворот и ещё (раз) вернуться — слегка на зад, к тому же Платону, ради ещё одного маленького анализа его текста. С точки зрения чистой психологии (или физиологии) рассудка... — Следуя одному из главных свойств (своего) разума, он с завидной регулярностью пытался нащупать почву под ногами... или точку опоры, если угодно. Отчасти в рамках этого похвального времяпрепровождения, — Платон не раз был замечен в попытках каким-то образом (пускай даже и чисто спекулятивным) привязать свои идеальные «идеи» к почве пифагорейских чисел. Тем самым (не раз и не два) он давал Аристотелю богатый (чтобы не сказать: идеальный) повод для язвительных замечаний..., [25] впрочем, зачастую стараясь не называть имени того, над которым он насмехается...[комм. 7] — Тем не менее, сами по себе платоновские идеи (вне конкретных привязок, зачастую нелепых, суеверных или почти детских) в разные времена получали высокую оценку и профессиональное признание (во всяком случае, исходящее от людей, обладавших сходным типом разумения). Тот же Лейбниц, к примеру, пытался представить (прежде всего, для самого себя) дело примерно следующим образом: ...У Платона же самым замечательным (если не говорить о менее важном) является его утверждение, что дух есть субстанция, обладающая самодвижением, или, что то́ же самое, свободная и сама себя побуждающая к действию, т.е. начало активности, в противоположность материи, которую он признаёт лишённой самостоятельной активности, в известной мере неопределённой и имеющей больше видимости, чем реальности, ибо многие свойства тел, такие, как тепло, холод, цвета, скорее суть феномены, чем истинные качества; и, как говорил Демокрит, существуют νομω, а не θυσει («по установлению», а не «по природе»). Поэтому Платон с полным основанием переориентировал мышление с этих смутных понятий на чистые понятия и утверждал, что всякое <подлинное> знание есть универсалии вечных вещей, т.е. что его предметом скорее являются эти вечные сущности, чем связанные с материей и случайностью единичные вещи, которые находятся в постоянном изменении. С полным основанием он утверждал, что чувства сообщают нам скорее иллюзии, чем истины, что дух заражён знанием единичного, находится под влиянием телесного и различных аффектов и только путём ясного познания вечных истин он способен абстрагироваться от материи и достигнуть совершенства; что есть в нашем духе врождённые идеи, которые представляют универсальные сущности, а поэтому наше знание есть припоминание; наконец, что наше совершенство должно быть связываемо с какой-либо причастностью Богу...[19] Понять сказанное Лейбницем с первого раза не так-то просто, как кажется... Говоря иными словами, Платоновы идеи задают необходимую структуру (или корсет) мышления, функционируя изнутри индивида как постоянные и полномочные представители вселенского разума в индивидуальном сознании. — По крайней мере, примерно так мы можем судить об этом предмете сегодня, с высоты своего современного (совокупного) цивилизационного разума. Равным образом и Лейбниц судил (и применял к известному ему материалу) свой багаж, соответствовавший уровню развития научного аппарата и (говоря шире) интеллекта своей эпохи. Вполне отдаю себе отчёт, что мало кому ещё понятно..., куда я клоню..., в отличие от Феликса.[комм. 8]
Разумеется, взятые сами по себе, в платоновском беззубо-философском виде, — идеи структурных взаимосвязей мало что могли дать, так сказать, в области практического применения (какой бы ни представлять эту практику «чистого разума»). Однако как раз здесь, в этом вопросе на «помощь» полной беспомощности своего времени и места пришла извечная человеческая природа: пожалуй, мало в чём люди от века своего существования достигли столь же ярких и виртуозных успехов, как — именно в нём, в употреблении (практическом или практичном). Имея в виду употребление — всего, буквально всего, чего угодно: предметов, понятий и даже идей, казалось бы, совсем никчёмных. Или даже зло-вредных, что (как правило) вовсе не становилось препятствием на пути (их) употребления или применения. Как у настоящего старьёвщика, в ход мог пойти решительно любой хлам, дрянь и рвань, — в том числе даже такая, которая (на первый взгляд) не годилась решительно ни для чего.[комм. 9] Пожалуй, наилучшим примером по этой части могли бы стать слова Елены Блаватской, сказанные в точности по этому адресу (взятые из остатков одежды «Разоблачённой Изиды») и, как всегда, идеально пролетающие куда-то вдаль, мимо цели: ...Зеллер грубо высмеивает притязания отцов церкви, которые, вопреки истории и её хронологии, и несмотря на то, хотят ли этого люди или нет, утверждает, что Платон и его школа украли у христианства его основные черты. Это счастье для нас и несчастье для Римской церкви, что такое ловкое жонглёрство, к которому прибегает Евсевий, в нашем веке трудно осуществить. Во времена епископа из Цезарии было гораздо легче извратить хронологию, чем теперь, и пока существует история, никто не поможет людям, знающим, что Платон жил за 600 лет до того, как Иринею пришло в голову создать новую доктрину из руин старой платоновской академии.[комм. 10] И здесь, буквально на пару фраз остановившись на главном, я снова перейду — туда, к глубоко второстепенному. Всё так, всё в точности так, правда ваша, товарищ майор... — и в самом деле, доктрина о том, что Бог есть вселенский разум, проникающий всё сущее (если этот маленький бред и в самом деле можно назвать «доктриной»), лежит в основе всех древних философий. Положения буддизма, которые лучше всего можно понять при изучении пифагорейской философии — его правдивые размышления — были извлечены прямо оттуда, из этого источника, так же как брахманизм и ещё — ранее христианство...
— Пожалуй, вершиной животного либерализма можно считать тот непреложный факт, что хотя бы платоновский «абсолютный разум» не был выжжен дотла вместе с остальными артефактами греческой философии. Какими-то неправдами (чтобы не говорить о чуде) ему даже позволено было пересидеть вместе со своим платоническим платонизмом трудные времена (всего лишь какие-то полторы тысячи лет) на приставной скамеечке, — скажем так... Неподалёку от ног Бога отца и Святого духа. Сын как всегда оставался (к этому вопросу) равнодушен. Несомненно, что платоновская версия идеального мира представлялась отцам церкви (ещё) одной из форм Вселенского разума..., причём, весьма приемлемой для «научного» (или «светского», как угодно) дополнения религиозной картины бытия. — Вероятно, их точку зрения вполне можно было бы и принять, с одной только поправкой — что разумного в этой форме разума было до обидного мало, но зато содержалась целая бездна приправы — в виде практического и ценного знания для повседневных целей жреца. При сопоставлении этих двух «ветвей» Мирового Духа, кажется, сам собой поднимается ещё один ключевой вопрос понимания: а можно ли, в самом деле, признать религиозную форму «разумности» — прямым извращением идеального и опущением его вниз, в (гнойно-кровавый) материал утилитарного вопроса власти. Или же во все века совокупной истории человеческого сознания она остаётся только примитивной формой начальной попытки познания... — Приятно себе представить, а затем и сравнить два принципиальных ответа, практически совпадающих: как по форме, так и по звучанию. И всё же, нет. Можно не надеяться, сравнения не будет. Равно как и ответа. Ни одного. Поскольку этот вопрос (даже не являясь, по сути, вопросом) так и останется брошенным — за элементарным отсутствием лица, поднять его сегодня решительно некому...[комм. 11] Так или иначе, но платоновские версии ретроградного возвращения собственных идей обратно к человеку (в мозг) через зеркально начищенный свод неба («три-поли», как любил говорить дядюшка-Альфонс) — стали ещё одной ступенью сокрытия и затемнения основного механизма работы человеческого интеллекта.[28] Прошу прощения, Вселенского разума. Или их обоих, чтобы не городить огород... — А главным средством и механизмом сокрытия стала его видимая (внешняя) эмансипация, а также очевидное усложнение главного источника психической деятельности, оторванного от единственно известного носителя, а затем помещённого — «неизвестно куда» и поставленного в зависимость «неизвестно от кого»...
Примерно таковы, — скажу я напоследок, — «идеальные идеи» идеального Платона... — Пожалуй, в заключение верхней части генезиса вселенского разума остаётся отметить ещё одну малость. В конце концов, разве не из соответствий... и аналогий состоит этот маленький человеческий мир?.. — вот и я теперь с особой ясностью припомнил ещё одну генетическую близость к «платоническим идеям» (а возможно, и прямое родство) психических «архетипов» Карла Юнга... — Впрочем, исключительно только ради того (припомнил), чтобы указать на общность их природы и способа выражения. И в самом деле: даже вооружившись микроскопом, найти сущностные различия между ними крайне затруднительно. — И те, и другие равно определяются и идентифицируются исключительно лингвистическими средствами — и более никакими.
В отсутствие соответствующего сло́ва (термина) полностью теряют свой отдельный («уникальный») смысл и платоновские идеи, и архетипы Юнга, и едва ли не всё остальное (в промежутке между первым и вторым), сливаясь в нерасчленимый поток инстинктивного или бес’сознательного. Потому что тонкая разница между ними, начинаясь словом (как в Евангелии от Ивана), фактически на нём и — заканчивается.[30]
И всё же..., согласно фактическому состоянию современной цивилизации людей, общепринятый расхожий стереотип знания, познания и сознания едва ли не во всех случаях предписывает пользоваться вербальными формами построения картины мира. Между тем, не будет лишним напомнить, что лингвистическая речь — отнюдь не единственная форма выражения и канализации смысловой энергии. В частности, в числе её эффективных разновидностей можно назвать речь — музыкальную.[комм. 12] Даже самое беглое рассмотрение её природы ведёт к представлению хронометрических автоморфизмов, близких к вышеупомянутым идеям и архетипам, но в отличие от них поддающихся формализации, открывающей доступ к неограниченному многообразию средств идентификации и верификации, и, что особенно ценно, — делающей ненужными мистифицирующие допущения, почти неизбежные в доктринах, пренебрегающих анализом метрической структуры времени...
...Истинная жизнь человека, проявляющаяся в отношении его разумного сознания к его животной личности, начинается только тогда, когда начинается отрицание блага животной личности. Отрицание же блага животной личности начинается тогда, когда пробуждается разумное сознание. Медленно, тихо..., приближаясь к основанию. Шаг за шагом. Робко. Пото́м немного смелее... — Эй, дружище, а не пора ли тебе уткнуться лицом в ту стеночку, которую ты сам перед самим собой и выстроил? Беги отсюда, да поскорее. Чтобы пыль заклубилась под пятками... Одна нога здесь, другая — там.
— Потому что..., потому что..., по-то-му... что́... (как ни крути, но́) — любое рассуждения разума о любой форме «иного» разума — есть идеальная спекуляция в недрах (глубоко внутри) само’замкнутой системы, в которой решающий голос принадлежит не анализу или представлению, а желанию и статусу основного действующего лица (субъекта речи). Именно он воспроизводит в качестве «вывода» собственных рассуждений различные отпечатки самого себя. И здесь достаточно трудно найти какие-то (приличные) слова, чтобы сделать картину менее отчётливой и ясной...
Как и всякая иная система, воспроизводящая себя «по образу и подобию»,[34] человек (люди) всякий день (а также и любой другой период собственного существования) необходимым образом оставляют вокруг себя следы, тени или оттиски, так или иначе, несущие императивный отпечаток своей натуры. Чем подробнее и глубже проработан вещественный (или духовный) антураж, тем большее число оттисков с отдельными свойствами себя способно реплицировать существо.[35] Проще говоря, степень его влияния возрастает в прямой зависимости от числа возможностей и поверхности соприкосновения с «внешним миром». В конце концов, скажем просто и холодно: существо, имеющее разум — способно влиять на разум других существ. В противном случае, не имея разума, не возможно иметь и разумного влияния.
Согласно Аристотелю, Анаксагор из Клазомен был первым философом, трактовавшим ум как верховный принцип мироздания : ...поэтому тот, кто сказал, что ум находится, так же как в живых существах, и в природе, и что он причина миропорядка и всего мироустройства, казался рассудительным по сравнению с необдуманными рассуждениями его предшественников. Мы знаем, что Анаксагор высказывал такие мысли, но имеются основания считать, что до него об этом говорил также и Гермотим из Клазомен...[3] Последний, впрочем, слыл не столько философом, сколько чудотворцем, душа которого была способна на длительное время покидать тело и вновь возвращаться в него — красноречивая деталь, указывающая на медитативные практики как доказательство существования рода психической активности, поддающегося контактам с индивидуальным сознанием, но находящегося за его пределами...[36] — Едва только начав чтением стать(ю) Феликса (ранее мне не известную, за исключением некоторых интонаций... невербальных большей частью), я сразу поймал себя на ощущении почти материального присутствия некоей авторской мысли..., причём, сугубо невысказанной, намеренно или нечаянно. — Возможно, оставленной «между строк» (как это принято говорить) или где-то чуть ниже, — между буквами или под словами. Причём, авторская (нарочно скупая) манера изложения была мне известна почти наизусть, в деталях (едва ли не полностью противоположная — моей).[37] Там, где на обычный взгляд не было сказано — почти ничего, там было особенно трудно избавиться от крайне наглядного, почти иллюстративного или даже лабораторного характера текстовой ткани. Причём, подобное ощущение возникало, прежде всего, в той части, где автор (как кажется) вовсе не усматривал для себя интереса, полагая структуру своего философского эссе вполне очевидной и традиционной.
И тем не менее, мне вполне хватило всего (не)сказанного в полной тишине и пустоте между строк, попросту — по умолчанию. Собственно, это обстоятельство и явилось причиной появления этого эссе: «вселенский разум самого себя»..., в прямое продолжение неска́занных слов Феликса..., и в прямое подтверждение основного умысла и смысла этой страницы...
— Да в том-то и дело, что ничего..., ничего особенного. Ровным счётом. Всего лишь развёрнутый диалог (как всегда, в одиночестве), цепочку человеческих мнений, нанизанных одно на другое (почти без общего авторского стержня, если судить поверхностно)... Вторжение основного составителя текста в материю мысли выглядело минимальным. Небольшие связки, пояснения, вступления и заключения. — Словно бы отступив в сторону или сделав шаг назад, Феликс предоставил разговаривать в своём присутствии — им, давно мёртвым. Слова которых дошли в изложении, по памяти или в списках..., спустя две тысячи (или двести) лет. И вот тогда ..., — тогда стало тем более отчётливо видно, каким же образом сделана, построена и устроена эта маленькая история про вселенский разум..., равно как и все прочие маленькие истории. Про него, или не про него. Без разницы... — Когда один философ упоминает, вспоминает, ссылается или цитирует другого, чтобы, таким образом, оттолкнуться от его слов... — Перелистаем ещё раз (глазами) начало текста о вселенском разуме, если не возражаете... — Аристотель вспоминает, что якобы Анаксагор, беглец из Афин, считал ум причиной всего мироустройства, но имеются основания считать, что до него об этом говорил также и Гермотим из Клазомен... На превый взгляд, вроде бы, ничего особенного... Простое, почти будничное изложение одним философом сведений (свидетельств или слухов) о точке зрения других философов, — в те времена, когда информация была крайне скудной и распространялась старым как этот мир способом. Форма и тон слов Аристотеля совершенно традиционный для текстов своего времени. Но и более того: естественный для природы любого человеческого общения и со’общения. Примерно таким же образом (безо всяких отличий) устроен будничный разговор двух деревенских старушек на завалинке. «Тётя Клава ходила в лабаз за сахаром и слышала, как там говорили, будто вчера в сельсовете фелшар хочет уволиться»... Хотя, казалось бы, какая связь? — здесь какие-то старушки на скамеечке, а там — высокая философия с про...странным разсуждением о вселенском разуме...
И всё же, мало кто считает необходимым обратить внимание на это обстоятельство и (хотя бы немного) его «понять»... Даже в тех редких случаях, когда речь идёт о нём, о самом разуме..., будь он вселенский или доморощенный. А потому (чуть ниже, как всегда) я считаю себя должным предложить маленький пунктирный рисунок, в котором будет сказано — всё. Решительно всё, по умолчанию.
— Представим себе некоего среднего (гипотетического) человека. Совершенно абстрактного (чтобы не переходить на личности). — Насколько мне известно, в биографии каждого из этих существ имеется два универсальных момента, оспорить которые достаточно трудно: это рождение и смерть. Или напротив, если угодно: смерть и рождение. Во всяком случае, мифология и медицина современного вселенского разума не оспаривает эти сведения.
Всякий человек в первые дни (и даже годы) жизни представляет собой некую традиционно оформленную органическую массу, слабо отличимую (и ещё слабее отличающую себя) от простой констатации факта жизни. Глядя на маленького человеческого детёныша, мы можем задавать себе всего один вопрос, относительно факта его жизни: «да» или «нет». Других вопросов он не вызывает, как правило. — Из внутренней материнской среды на свет вылезает некий животный субстрат, напрочь лишённый не только гипотетических форм сознания, но также и большинства доступных (в зрелости) форм ощущения самого себя как целого. Условным образом это состояние можно назвать «чистым листом» (хотя это, конечно же, не лист, и далеко не чистый) или «физиологическим фактом» существования. Методом простейшей экстраполяции нетрудно установить, что в подобном состоянии (в обиходе называемом «детством» или «младенчеством») пребывали все лица, так или иначе высказавшиеся на счёт вселенского разума: начиная от Аристотеля с его Гермотимом — и кончая fix-Феликсом с его Лейб-Лейбницем... Таким образом, несложно сделать предположение, что в какой-то момент человеческой жизни означенный индивид имеет возможность превратиться из животного (или условной биомассы) — в некое лицо, обладающее со-знанием или даже разумом (не исключая, впрочем, и вселенского — по крайней мере, в форме философии или веры). Не вдаваясь в массу боковых подробностей этого процесса, займёмся исключительно тем..., — центральным «фактом перехода», который имеет прямое отношение к теме разговора... Ни для кого не секрет (я надеюсь), что всё младенчество, а затем детство, а также подростковый и юношеский период человека — посвящены поступательному процессу «обучения». Для начала получая навыки элементарного жизнеобеспечения, затем, речи, правил поведения, — постепенно, шаг за шагом усложняя и увеличивая объёмы и сложность материала, свежий младенец осваивает некий багаж, полученный предыдущими поколениями всего человечества (или конкретной цивилизации, в которой он осуществил факт своего рождения).[комм. 15] Понятно, что (господь) бог милостив, и милость его безгранична: далеко не все младенцы становятся философами. Равно как и философы (далеко) не все становятся Аристотелями. Любая человеческая особь в какой-то момент (резко) замедляет собственное развитие, сопровождаемое освоением совокупных сведений о самом себе и мире, в котором он живёт, а затем и вовсе его останавливает: вольно или невольно. Чаще второе, разумеется. И тем не менее, факт массовой остановки на ранних стадиях внутреннего роста высшей психической деятельности не отменяет универсальности механизмов самого́ процесса.
Итак, общая картина более-менее ясна: в идеале (не имея в виду Платона, конечно), мы имеем перед собой два резко различающихся агрегатных состояния человека. Для простоты рассмотрения возьмём две крайние точки. Сначала: естественный младенец, не имеющий ни сознания, ни разума..., а затем — человек с развитым интеллектом, видимо способный оценивать, а также рассуждать о себе и своём месте в мире. Насколько можно судить, именно второй тип, предварительно усвоивший громадный (и с каждым веком увеличивающийся) багаж науки и культуры собственной цивилизации, (нередко) называет себя «философом» и (как следствие) иногда ставит ребром вопрос о Вселенском разуме.
Так или иначе, но любая философия в морфологическом основании своём (и в генезисе) — есть попытка осознать и объяснить самого себя и своё место в мире. Все остальные формы философии — безусловно, производные от своего начала. — Когда человек мыслящий оглядывается на самоё себя и свой путь, пройдённый от рождения до рассуждения, всякий раз он невольно наталкивается на некую преграду в виде — детства. Точнее говоря, того времени, когда он не имел со-знания и только получал его извне. Сначала из рук родителей..., затем — нянек, воспитателей, учителей, профессоров... и так далее. — Этот процесс редко привлекает отдельное внимание, поскольку является привычным и всеобщим... Как кажется (как раз по этой причине), в нём не содержится ни малейшего повода для высокой философии... Все когда-то учились...[40] И даже учителя когда-то были совершенными младенцами и несмышлёнышами, тыкаясь мимо мамкиной груди, пока их самих не научили, в свою очередь. И вот здесь-то как раз и содержится главная ловушка маленькой психологии, в которую век за веком попадают любители вселенского разума...
Всякий философ, пытаясь оглянуться назад, окинуть взглядом и осознать пройденный путь, натыкается на эту удивительную точку: «вот время, когда я был»..., а дальше — что за странность, — темнота, беспамятство, непонимание, почти небытие..., са́мое настоящее «время, когда меня не было...» — Но ведь я же знаю, я не могу не знать, что тогда — был. В детстве. И даже в младенчестве. И ведь это в са́мом деле был — я... Но всё же, как будто, и не я... Удивительное дело. — Да это же настоящее, натуральное чудо! Вот оно. Дождался... на своём-то веку. Такое с виду обыкновенное, будто бы житейское и одновременно почти невероятное. — Но..., вот ведь вопрос вопросов: каким же чудом случилось так, что я сначала родился..., а затем, спустя годы (а иногда и десятки лет) ещё раз родилось моё сознание, а значит, и я сам, каким я себя вижу и знаю. Потому что раньше я себя не видел и не знал. И кто же это был? И как же так получилось?.. — Ответ видимо прост. И даже элементарен. «Я взрослел. Учился. Умнел. Наконец, стал сознавать себя, таким образом, превратившись в человека». — Но ведь и не только учился, «сам». Ведь меня же учили..., родители, няньки, дядьки..., причём, сплошь и рядом это делали такие люди, которые (теперь) значительно глупее меня. Можно даже сказать, что это были — неразумные люди. Или несознательные. Но в таком случае..., откуда же они брали своё сокровенное знание, чтобы я (такой как есть сегодня) внезапно стал, вырос из прежнего небытия?.. И где это знание хранится, чтобы оно не потерялось, не исчезло..., и чтобы всё новые поколения людей могли снова и снова превращаться силой чуда из бессознательной животной массы — в человека, философа, платона или аристотеля, в конце концов. Не есть ли это он самый — Вселенский разум..., или абсолютная идея..., или мировой Дух?.. Или даже — сам Господь Бог, некогда превративший обезьяну в человека, вдохнувший в неё частицу своего разумного разумения, — да и теперь милостью своею ещё позволяющий некоторым людям сызнова пройти этот путь... Для себя лично. Чтобы стать разумными. И даже философами...
К сожалению, остальные варианты ответов, значительно более разумные и точные..., не имеют и сотой доли того «вселенского» блеска, «небесного» величия и «абсолютной» притягательной силы. Слишком уж велик соблазн разума, — говоря о само́м себе, разуме, — возвеличиться по образу и подобию божьему, да и влезть — куда-нибудь повыше... Например, на трон. Или на гору Афонскую (не говоря уже об Афинской). Или — прямо туда, на небо, — где так удобно просиять своим хрустальным сводом надо всеми людьми. — Ибо..., ибо разум, эта компактная штуковина, запертая в тесной костяной коробочке, — и поневоле обладает всеми свойствами своего благого носителя, этого бедолаги (человека), о котором мы и так уже достаточно наслышаны: каков он, во всём сиянии своего (не)земного велiчия... Да-да. Обо всём помним... — И про «царя природы». — И про «образ и подобие» божiе. — И про светоч разума. — И даже про венец творения..., если не возражаете.
— ну чтó такóе ещё этот чо́ртов разум, как не частица божественного ... в человеке?.. — А иначе..., зачем он вообще ... нужен...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ком ’ ментарии
Ис ’ точники
Лит’ература (самóй себя)
См. также
— Все желающие сделать замечания или дополнения, — могут
« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »
| |||||||||||||||||