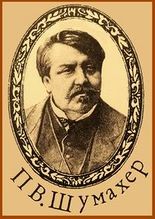Вот, что наделали песни твои! (Михаил Савояров)
... и не только песни ... ...Воспел я пьянство, муть и рвоту...
П
Ведь мы помним..., — ведь мы прекрасно помним и знаем, до какой же степени оно в самом деле драгоценно: их время, их единственное время, когда они имеют столь редкую возможность жить и делать все свои дела, маленькие и большие (за исключением средних, конечно). Потому что..., она же у них одна — во все времена и на всех весях. Единая и неделимая. Делимая и не едимая. Равно и сегодня, у наших много...значительных современников, и тогда, на (не)добрую сотню (с гаком) лет раньше. Когда даже и в гости друг к другу сходить было решительно некогда, не то, чтобы заниматься всякой ерундой и глупостями, вроде каких-то романсов или, тем более, пародий. Потому что..., мы же отлично знаем, из какого золотого..., драгоценного материала скроен наш бравый обыватель..., пардон, обитатель наших земель. И сколько у него намечено громадных дел, способных в любую минуту совершенно пере’вернуть мир. А затем вернуть его на прежнее место. Всякий день и час неустанно думая и бес...прерывно пещась о прѣдвечном, вечном, велiком и вселѣнском (сокращённо: П.В.В.В.), он всю свою бренную & бранную жизнь кладёт на алтарь заботы о душе и наследии своём, временами вовсе забывая о повседневных заботах и малых нуждах сих.[комм. 2] Одним словом, чтобы дальше не городить огород: эти малые люди от мира сего, во все времена и во всех сторонах света составляющие взвесь и повседневную среду повседневной человеческой жизни или (её) завтрашний сапропель, культурные отложения прошлого..., — им здесь попросту нечего делать. — О чём аз грешный, осеняя себя велiкой заботой и прекрасной прямотой, и сообщаю им сразу и в лицо, пока они ещё толком не приступили к нашему с дядей-Мишей эссе о тех делах, которые знать им, вечно незнатным, напрасный труд...
— вóт чтó наделали песни его...... запев бес слов ......И не помнит, как с устами
П
Дорогой, трижды дорогой, драгоценный мой Михаил Карлович! (Слегка) умывшись слезами (по прочтении оного письма)..., было бы весьма небесполезно, хотя бы ради достижения лёгкого терапевтического эффекта, обратиться, так сказать, к первоисточнику, — несколько раз упомянутому в страстном женском письме. И всякий раз — всуе (упомянутому), как это широко принято. Разумеется, я имею сейчас в виду навязчивую фразу «...и буду тебя я ласкать...», столь сильно поразившую (в самый мозжечок, по всей видимости) прекрасную от(п)равительницу.
И в самом деле, партикулярное недоверие — снова не обмануло. Маленькое частное расследование без особых затруднений вывело нас прямо на популярный опус под романтическим номером 96. — Сочинённая на рубеже нового века (в 1900 году, начну я слегка неуверенным голосом), эта вещь..., прошу прощения, — эта поистине потрясающая мелодия с невероятной силой воздействия смогла воплотить в себе все лучшие..., вернее сказать, даже отборные черты, свойственные как для самогó Михаила Штейнберга, так и для его жестокого (а временами — жесточайшего) творческого почерка. И в первую очередь выделялся, конечно, её нешуточный (хотя и не штучный) стихотворный текст..., так сказать, перво’источник, по сложившейся привычке сочинённый композитором для себя, поэта..., или нет..., прошу прощения, всё было в точности напротив, видимо, — я немного смутился, смешался и запутался.[комм. 5] И так со мною случилось потому только (это смешение и смущение), что в этой поэме всё было равно прекрасно, в точности — как и в самóм человеке: «и лицо, и одежда, и душа, и мысли..., ну, и так далее...»[10] И прежде всего, название, конечно. Потому что именно оно и было прекраснее всего (на свете). И именно оно легло в основание всей этой истории. О(б)суждаемое в письме (и нами, ныне) произведение носило подкупающее по своей откровенности название «И буду тебя я ласкать», впрочем, с лёгким жанровым пояснением ниже: «цыганская серенада для голоса с фортепиано». Спетая и отпетая для начала едва ли не полной обоймой мало-мальски известных ресторанных певичек и певцов своего времени (и места), а затем и опубликованная в 1901 году признанно-цыганским издательством Леопас,[8] она вскорости завоевала именно такую популярность, на которую и рассчитывал её автор (слегка под’балконный).
— Вóт чтó наделали песни твои!.. Как и желали (один за другим) сначала герр поэт, сочинивший этот бес...подобный текст, затем — герр композитор, положивший его... на музыку и, наконец, херр аккомпаниатор, иной раз ощущавший нечто вроде (ослабленного & безопасного) катарсиса, случая повторяемые с бесплотной настойчивостью евнуха слова сакра...ментального припева: «и буду тебя я ласкать..., и буду тебя я ласкать...» — Наконец, небеса отверзлись, господь услышал заклинания своего ресторанного жреца, уставшего шевелить челюстями: и вот — оно пришло, это эдемское письмо. Будто из восточной сказки про гарем и шестнадцать борзых собак..., словно по мановению волшебной палочки, галочки, чёрточки — из тёмных & влажных глубин собственного мозжечка явилося. Как мимолётное введенье, как гений частой красоты...[11] — Мечты, мечты, где ваша слабость?..[12]
— Вот что наделали песни твои!.. Как внезапное прозрение. Или последний аргумент. И хотел бы сморгнуть, позабыть, да не получилось уже. «Это из таких вещей, которые никогда не забываются», — как говорил наш преподобный бесподобный Эрик...[9] — И точно. Этот (школьный) урок в самом деле оказался не из тех, которые забываются. Письмо незнакомки..., сюжет сколь избитый, столь и волнующий. Особенно — тогда, в начале века. Между Мопассаном и Блоком, между Флобером и Гобером..., вернее сказать, в стороне от них, конечно. Далеко в стороне. — И нет в том нужды, что «незнакомка» эта была, в сущности, слегка знакомой. И нет в том изъяна, что романтическое романическое письмо, если слегка присмотреться, на поверку оказывалось корявым и банальным. Главное — при нём оставался его драгоценный, давно знакомый за́пах..., пардон, я хотел сказать, — аромат, конечно. Имея в виду вовсе не тот о-де-лаван (туалетную воду), которой столь щедро разило от бумаги. Совсем нет...
— Вот что наделали песни твои!.. Пожалуй, в этом был свой резон. И даже чувствовалась некая затаённая сила. И в самом деле, отчего бы не превратить это письмо ещё одной одуревшей поклонницы — в небольшой роман..., да-да, этакий маленький роман-с..., почти романчик (без продолжения, разумеется)..., быть может, даже ромашку (настолько низкую и вычурную..., почти как маргаритка). Как говорится, мелочей в нашем деле не бывает: в дело пойдёт любая деталь. — Тем более, здесь имелось всё (для изысканной ресторанной публики): интрига, завязка, плюс небольшая тайна (и в самом деле, кто же мог прислать автору этот страстный текст, положенный..., пардон, лёгший прямо туда, на музыку?..) — И даже готовый припев там был, поверх всего!.. Шикарно!.., не письмо, а какой-то ходячий унивéрсум!.. — Полный комплект необходимого в таких случаях: и про любовь, и про страсть, и про музыку. Женщина, готовая отдать всё..., и даже сама отдаться — ради искусства. Прямо-таки цельная скрябинская мистерия, а не открытка. Просто песня, песня!.., — чудо как хорошо, дядя-Миша.
— Вóт чтó наделали песни твои!.. Эта яркая, навязчивая, почти повелительная фраза, по произволу (будущего) автора вырванная из письма и слегка переделанная (исключительно ради ритма и восклицания), даже поневоле врезалась в память. Точно так же как запомнилась она при первом прочтении Мише Штейнбергу: «Вóт чтó наделали со мною Ваши песни, прекрасные песни!..» Он даже несколько раз повторил эту фразу: сначала про себя, а затем уже — вслух, под ритм шагов. Чудо как хороша!.. Почти готовый рефрен — и в нём как на шампуре нанизано всё что потребно для таких случаев: завязка, подсказка, наживка, заманка, подменка, подставка... Оставалась сущая мелочь: доделать текст и присочинить к нему сподобную музыку — вполне под’стать словам, интриге, сюжету и обстановке. Сочно, крупными мазками, хорошенько подогреть (желательно не пережарить, конечно, но и чтобы не выглядело сыровато), затем добавить гарнира, соли, лука, соуса, чеснока, перца... по вкусу. Притом, не забывать следить за карманами клиентов и выручкой (предпочтительно наличными). — В общем, всё как в яром ресторане..., пардон, как в том кабаке (у яра, разумеется). — Пальчик за пальчиком, узелок за узелком, как верёвочка вьётся.
— Вот что наделали песни твои!.. Впрочем, не стану слишком долго продолжать в том же (слегка б’анальном) духе и оставлю (подобру-поздорову) эту слишком старую & слишком добрую историю из серии «поклонницы и покойники». Всё равно из неё ничего толком не высосешь..., кроме очередной порции отработанного материала.[13] У кого есть уши — давно услышал. А у кого нет, на того и суда нет. Короче говоря, именно так и поступил благоверный Михаил Штейнберг: человек не слишком-то обаятельный и оригинальный, всю жизнь предпочитавший ходить как все и, желательно, хорошо натоптанными дорожками. — Примерно туда же повело его (после) прочитанного письма. Но в первую голову, пока не случилась облигатная встреча с прекрасной «незнакомкой»,[14] несколько слов из письма привлекло его внимание. И в самом деле, комплект набрался почти символический: «искала и не находила себе места..., бесконечно повторялось..., вот что наделали со мною Ваши песни...» — Вечером, прогуливаясь со своим белым шпицем, несколько раз повторил про себя ключевые фразы, а затем, по приходе набросал «стихотворный» текст. Жестокий припев (подлинное украшение романса) появился сразу вместе с музыкой, и вершина всего, кульминация: финальная фраза с выражением крайнего надрыва — отчаянное двойное повторение, словно всплёскивая руками: «вóт, что наделали песни твои!..» — Всего пара куплетов..., пожалуй, для такой яркой (эпистолярной) истории больше и не нужно. Пускай останется некоторая недосказанность. Тайну публика любит (особенно, не...публичную, говоря понизив голос). И как венец всего: загадочная подпись под текстом: «Z.» — дивная мысль. Пускай гадают, шепчутся, шушукаются.
— Вóт чтó наделали песни твои!.. Щекотливая & слегка щекочущая ситуация (с ано’нимным письмом) сыграла свою карточную партию: в конце концов, господин-копозитор испытал даже нечто вроде подъёма. Вещица получилась, кажется, недурственная, с изюминкой и даже с шурупом: в ней было всё... что нужно для успеха, а затем и ещё кое-что сверх положенного. Определённо, Михаил Карлович мог быть доволен собой: на сей раз ему удалось соорудить песенку по-настоящему жестокую!.., одну из лучших в своём творческом багаже. Одним словом: корзина, картина, картонка...[16] И даже более того: сáмую лучшую. Особенно если учесть, что главный шлягер своей жизни («Гай-да тройка!..») к тому моменту герр Штейнберг ещё не выпустил из-под пальцев (левой руки). Хотя и «снег пушистый» тоже был, прямо скажем, не за горами. Если немного покопаться в остатках волос, чтобы подвести цыганскую бухгалтерию..., так и получится, будто первые два-три года нового (ХХ) века принесли всё..., или — почти всё бессмертное, что́ пережило своего бренного & тленного автора.[комм. 10] — По большому (счёту). Не стану скрывать: глядя на это наследие, временами — попросту говоря — невероятное по своей щедрости (особенно — в области банальностей, низостей и курьёзов), иной раз только диву даёшься... — Самоучка, самородок, гений народный (из немецких недр уральского хребта), — и из какого отверстия удалось ему извлечь сей бесконечный фонтан скудоумия и пошлости!..
— Вóт чтó наделали песни твои!.. Триумфальное шествие романса по («цыганским)» подмосткам и задворкам началось буквально сразу же после его премьеры. Подхваченный Раисой Раисовой и Натальей Тамарой, спустя полтора года он был опубликован крупнейшим питерским издательством (соответствующего профиля) «Давингоф», а затем уж — дело техники. Ещё спустя пару лет вышла и первая грампластинка в исполнении известного баса (из тумпаковской оперетты) Михаила Вавича.[17] Почти травестийный по своей карикатурности рёв оперно-медвежьего голоса мгновенно превратил жестокий романс (почти) в такую же жестокую пародию на самоё себя..., — впрочем, только для тех, кто хотя бы немножко понимал толк в песнях, а также и в том, что они способны «наделать»... при известном стечении обстоятельств. Но особенно курьёзно рядом со своей экстремальной интерпретацией выглядел сам артист: не на пластинке, разумеется, а в концерте. Молодой худощавый человек (двадцати пяти лет) крайне смазливой наружности, вдобавок, кучерявый и чёрненький (очередной отпрыск беглой черногорский аристократии) урчал, завывал и всхипывал так, что дрожали крыши и стены всех окрестных берлог: настоящий «король-эксцентрики» (поневоле). Не будет преувеличением сказать, что на (не)добрую половину лавры штейнберговской пародии принадлежали вовсе не папе-Штейнбергу, но (безусловно!) самому выдающемуся исполнителю его бессмертного творения в жанре «во́т что́ наделано» (причём, прямо на сцене). Его бессмертное творение в интерпретации Михаила Вавича задавало столь высокую планку сценической физиологии, что конкурировать с нею мог бы только окончательно отвязанный человек..., — фумист, вероятно. Рядом с таким нерукотворным образом могли небледно смотреться, пожалуй, только крайние (естественно) проявления..., или, точнее сказать, отправления, предварительно возведённые в ранг искусства.[комм. 11] — В следующие несколько лет послужной список романса невиданно расширился, хотя и потерял в своей невиданности: пожалуй, никто не смог сравниться, достигнуть..., в общем, так или иначе, повторить неповторимый «эффект-Вавича». Хотя и преуменьшать (размеров) послужного списка тоже не следовало бы... В следующие за тем годы к штейнберговскому шедевру поочерёдно прикоснулись такие признанные мастодонты «русского» романса как (чисто, с потолка говорю) Анастасия Вяльцева и Юрий Морфесси..., — загибая пальцы (на левой руке) можно также перечислить (досто)славные имена Плевицкой, Эмской, Давыдова, Комаровой, Юровской..., почти не рискуя оступиться или сесть мимо ещё одного стула. И всё же, лучше бы (мне) помолчать немного: ибо совсем не в грампластинках и исполнителях содержалась сотрясающая сила этого творения..., едва ли не жесточайшего из опусов Михаила Штейнберга. Потому что..., «с тем чтобы»... (любо-дорого поглядеть на этакое богатство). — Потому что... Да..., очень удачное слово я придумал для конца этой знойной оперетты: потому что... не прошло и пяти лет как выросший из письма «романс на стихи Z.» со всего размаху — обс’какал и перерос свою трижды убогую ресторанно-цыганскую среду, «с тем чтобы» превратиться — в сущий жупел: среднего размера (швабру) и местного значения (печать на лбу). — И смех, и грех (сказать такое)..., прям, два раза рот откроешь, а на третий — под горку покатишься.[1] В общем, герой нашего времени,[18] да и только. Дядюшка штабс-капитан. Фонтан утех.[19] И всё же повторю, невзирая ни на что: жупел, настоящий жупел. Да-с...
— Вóт чтó наделали песни твои!.. Уж до того хороша, до того зерниста оказалась эта маленькая (дамская) фраза, что разошлась она по своему маленькому миру на едкие зубоскальства, мелкие гримаски и прочие выдразнивания, — иной раз, ничем не хуже своего жестокого перво...источника. И в самом деле, за что боролся херр Штейнберг, на то и напоролся..., — чего взыскал, того и наделал, сердешный. — Как хороши, как свежи были розы...[20] — Годами и даже десятилетиями клепая в своей «творческой лаборатории» сию экспери’ментальную продукцию, до того отточил он свой вострый композиторско-поэтический карандаш, что иной раз — первым же ударом напрочь рвал бумагу. И тут уж без разницы: нотную ли, простую ли, а то, случалось — и гербовую..., иной раз.[комм. 12] И здесь уж тем легче было составить суждение, а затем и — судить, что на своей цыганской музыкальной мануфактуре дядюшка-Штейнберг занимал едва ли не все имевшиеся в наличии вакансии & должности, начиная от приказчика и кончая — влажной синекурой. Проще говоря, он сам себе был и жрец, и жнец, и на дуде дудец. Мог запросто соорудить любовные романсы или стансы: сначала текст, а затем музычку. Или наоборот. А затем ещё «арранжировать» как следует, чтобы пыль из ушей... или искры из глаз, да и сыграть тоже мог недурно, временами подпевая себе жидковатым композиторским тенорком. Если надо — садился за рояли да аккомпанировал: сколько влезет. Правда, к последнему занятию (слишком уж «пролетарскому») он с годами как-то охладел... понемногу. Как говорится, не царское это дело... Куда приятнее было скоротать вечерок-другой за столиком (или в кабинете с понаделавшей дамой), рассеянно внимая издалека: как твои божественные мелодии исполняет — кто-то другой. Тем более сказать, к началу нового века уже и нужды такой почти не стало... Как оказалось, романсы не плохо кормили. И даже поили, иной раз, очень даже недурственно. Но главным в его неказистом искусстве оставались, конечно же, связи... Там уж и к бабке не ходи!.. — при хороших знакомствах можно было и вовсе без цыганских серенад прожить...
— Вóт чтó наделали песни твои!.. Пожалуй, примерно так сказал бы я в последний раз, перед тем как захлопнуть за собой дубовую крышку (с кистями и позументами). И прежде всего потому, что здесь и сейчас мы вынуждены иметь дело с натурой на редкость цельной и не слишком-то затейливой. А если постараться говорить без лишних эвфемизмов и приседаний, то — попросту банальной и туповатой, не страдающей от напрасной оригинальности и обаяния. — От самого начала своей «творческой карьеры» Михаил Штейнберг вполне искренно и органично совпадал с тем местом, которое ему приглянулось ещё в подростковом возрасте, поначалу наигрывая польки, галопы и прочие марши в царскосельской гимназии, а затем — с благоговением впервые посетив столичные злачные места..., начиная от одних ресторанов и кончая — другими «ресторанами», ничуть не менее прекрасными... Собственно, даже кадет Шура Скрябин начинал примерно таким же образом: время от времени аккомпанируя вальсы, мазурки и кадрили на танцах своих сверстников, затем — попробовал сочинять для тех же целей...,[19] — шаг за шагом, слово зá слово, так понемногу дело дотанцевалось до Поэмы экстаза, а затем и — Мистерии (с небольшим предбанником вместо увертюры). И ключевым словом на этом шершавом пути стало, конечно же, — не’соответствие... или даже вне’соответствие.[комм. 13] — Совсем иная история (приключилася) с «немецким шпиёном» Штейнбергом. Искренне и чистосердечно желая сделать себе имя и занять достойное место в клане популярной ресторанной культуры, он и формовал свою псевдо-цыганскую жвачку в полном соответствии с господствующими клановыми правилами и традициями своего времени и места. Прежде всего, ориентируясь на те махровые образы и образцы, которые обеспечивали «гар-р-рантированный успех» на избранном поприще. И ключевым словом здесь станет, конечно же, комплекс со’ответствия... или даже сов’падения.
— Вóт чтó наделали песни твои!.. Без лишних глупостей и реверансов, в течение всей своей жизни дядя-Миша Штейнберг выдавал на-гора́ в точности тот продукт, которого от него ждал (или требовал) потребитель.[комм. 14] — Иными словами, от самого начала копозиторской карьеры он был нацелен на производство коммерческого продукта для исправно работающего конвейера в узком диапазоне (от салонного до жестокого). Отсюда, собственно говоря, напрямую следовали и преобладающие качества его бес...подобных романсов, дважды помноженные на жёстко-ординарную силу индивидуальности творца (текстов и музыки). Не претендуя на обширное перечисление указанных качеств, тем не менее, считаю себя обязанным наметить хотя бы три из них, как наиболее выпуклые...
...завершая эту незавершённую триаду, мне остаётся только подвести двойную бухгалтерскую черту и вывести мораль на постном масле... Пожалуй, вернее всего было бы просто заметить, что херр Михаил Штейнберг, далеко не дотягивая до уровня гения или хотя бы столпа своего скромного заплечного ремесла, тем не менее, освоил его на том крепком (а иногда и — крепчайшем) уровне, который предоставил ему возможность по праву носить гордое звание крепкого (вполне немецкого по своим качествам) мастера коммерческой пошлятины и отборной цыганской залипухи нача́ла XX века. — После долгих лет трудов на ниве жестокого романса он сумел оставить несколько прекрасных, (почти) не подверженных тлению образцов подобного сорта продукции. — вóт чтó наделали песни твои!..
... припев без музыки ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
П
редполагать или гадать — не стану сызнова, но замечу ещё более сухо и скупо :
редпоследним делом, значит, слушайте, что я вам скажу..., значит, так... Это дело у них закончилось примерно так..., не слишком-то хорошим манером... — Осенью 1912 года (не исключая и всех остальных, впрочем), спустя примерно десять, девять, а точнее говоря, всего семь лет после написания первоисточника,[7] наконец, терпение Короля эксцентрики лопнуло.[комм. 16] — И в самом деле, продолжать и впредь оставлять подобное безобразие без последствий было бы — уж слишком шикарным. Или напротив того, небрежным... Короче говоря, критическая масса накопилась и пена постепенно начала переливаться через край того стакана.
— «Вот что наделали песни твои!..» В 1910-е годы этот романс савояровского тёзки (отчасти, тоже не русского, хотя и п’русского) входил в горячую десятку самых популярных штучек. Что же касается сопредельной тупости и яркости фразы, то у неё, кажется, и вовсе не было (достойных) конкуррентов. Причём, прошу понимать сказанное в прямом (до неприличия) смысле. Сила названия и всеобщая возлюбленность романса была такова, что он регулярно терял свою изначальную сущность и превращался прямиком — в имя нарицательное (нередко ироническое) или фразеологический оборот, иной раз развёрнутый до состояния целого анекдота (или напротив, настоящего сюжета). Чего стоил, к слову сказать, только один прискорбный факт, что осенью 1915 года известный работник ленточного конвейера Яков Лейн снял кинофильм под душераздирающим названием..., — вы уже догадались?.., — совершенно точно!..., «Вот что наделали песни твои!..»[24] Премьера отменно-жестокой киноленты, жанр которой был заранее обрисован с убийственной чёткостью как «инсценировка романса», состоялась весной 1916 года. В главных ролях снялись (разумеется!) — старый знакомый Михаил Вавич (колоритный красавчик с оперетточными статями) и «невыносимо прекрасная» актриса Татьяна Павлова (необычайно органично сыгравшая очередную «жертву» музыки и слов Штейнберга).[25] Разумеется, по части коммерческой жестокости кинематографическая «инсценировка» не только не уступала знойному оригиналу, но и с лёгкостью переплёвывала его. Глядя на чёрно-белый (а временами — почти чёрно-чёрный) экран, доморощенные штейнберговские цыгане со своей кустарной клубничкой могли только грызть локти в бессильном исступлении.
— Определённо, карта Z. оказалась почти джокером и била все рекорды. Набрав отличную стартовую скорость, к середине 1910-х «вот что наделали песни твои» на всех пара́х мчались по пути постепенного превращения в торговую марку... И если бы не жестокая игра в «русские перевёртыши», начавшаяся в марте 1917 года и законченная в ноябре, они бы ещё далеко доехали в «ту степь». — Страшно себе представить. Причём, было бы верно не забывать: главная собака была зарыта не в музыке и не в стихах. И даже не в подписи автора слов... Всего одна только ключевая фраза (одновременно ставшая названием) наделала этому романсу больше половины капитала. Спустя каких-то пять-семь лет после премьеры, он уже вполне мог стать краеугольным камнем или гвоздём любой программы.
|
- Знойный заголовок, словно рекламная вывеска, стал гораздо известнее всего привешенного сбоку.
- А всё «привешенное сбоку», в свою очередь, ёрзало и пританцовывало от нетерпения...
- Знойный заголовок, словно рекламная вывеска, стал гораздо известнее всего привешенного сбоку.
Определённо, промедление было смерти подобно: не один только Ильич обладал монополией на сокровенное знание. К 1909 году сомнений не оставалось: пирожок буквально жёг руки, да и железо было горячо. В погожие летние деньки медвежья скорбь Михаила Вавича ревела почти изо всех открытых окон (где хозяева разжились патефоном).[17] По всем признакам, самое время браться за достойное оформление этой вывески. Тем более сказать, подобное фразёрство (в припеве или, напротив, ради запева) с самого начала было вполне во вкусе и методе Михаила Савоярова. Следуя заветам своего драгоценного (говняного) учителя Петра Шумахера, король эксцентрики усвоил (среди прочих) одно важное психологическое правило... Каждый новый куплет следовало снабдить запоминающейся (или трафаретной) присказкой, которая прилипала бы к зубам и затем, по окончании концерта, отскакивала бы от них обратно, навязчиво повторяясь в памяти (или на языке) каждого уважающего себя придурка (из числа публики). Подобным навязчивым фразочкам в савояровском наследии было несть числа: «Благодарю покорно!..», «Всё мало, мало мало...», «Возжа под хвост попала...», «Осади на тротуар!..», «А Яша всё лепит...», «Что посеешь — то пожнёшь...», «Вóт вам наша культура!..», «Это уже лишнее...», «Недостаёт, чего-то...» — несомненно, «вот что наделали песни твои!..» были из той же старинной оперы.
- Неисправимый насмешник Михаил Савояров умел замечать и ценить не только свои находки.
...и даже если не глядеть на весь этот зубодробительный текст в целом..., и даже если не слушать эту трижды жестокую мелодию..., и даже если позабыть о восхитительно стенающих певцах и восхищённо всхлипывающих певицах... — Ради чистоты опыта заткнув глаза, уши, нос, а также и все остальные отверстия..., одной ключевой фразы романса на «стихи Z.» уже было вполне достаточно. — Своим беззастенчивым натурализмом и (таким же) мещанским надрывом, временами доходящим до курьёза, вот что наделали песни твои покупали & подкупали буквально сразу, на корню..., а затем (например, по здравом размышлении) догоняли и — подкупали ещё раз. Скажем даже более того: они подкупали настолько сильно и выразительно, что всякий раз оставалось желание вернуться, чтобы ещё раз хорошенько в них покопаться & подкопаться. Например: раздать всем сестрам по серьгам. Или расставить все точки над очередным «ё» и «ы». Или не оставить ни малейшего места для двусмысленных толкований. — Короче говоря, нужно..., очень нужно было сделать хоть что-то, хотя бы какую-то малость. — Определённо, душе...раздирающий шедевр герра Штейнберга с его ск(о)ромными двумя куплетами на’стоятельно требовал об’стоятельного продолжения: одного, другого..., а затем и четвёртого. Его нельзя было оставить просто так валяться. Замученный и несчастный, жестоко брошенный в грязь посреди пыльного тракта, казалось, всем своим видом он вопиёт к толпам равнодушно проходящей мимо него обуви.
|
- Разумеется, ни один вдохновенный певец рвоты не мог бы спустить столь пышного образчика.
— Не романс, а чистый жупел...,
— Не поэзия, а мыльный пузырь...,
— Не пение, а дивный стон...,
— Не музыка, а густой сироп...,
— Не название, а цельная песня...
Особенно в общем ряду выделялось — последнее, конечно. (Самое последнее). Вернее говоря, первое. (Самое первое). С чего всё начиналось. Чем всё заканчивалось. И на чём всё останавливалось. — Оно..., то самое, внутри которого каждое слово было на вес золота... (причём, ночного, как любил дорогой дедушка). От первого — до последнего. От передней мысли — до предпоследнего (заднего) воспоминания. Всё, буквально всё в нём было прекрасно!..[10] Но паче всего — богато, конечно. Чисто византийской щедростью и роскошью веяло от этого материала.
1, 2. Вот что!.., — с этих двух слов оно начиналось (они же были и — предпоследними). И не просто начиналось, но — дважды начиналось: ибо обóи они, пардон, — оба этих слова находились под двойным ударом..., — прошу прощения ещё раз..., — под двойным акцентом, и пребольшим акцентом!.. Произносимые с усилием и надрывом, они впитали в себя, казалось, всю громоздкую материю извечного взыскания всякого страждущего субъекта к «окружающему» миру: «во́т что́!..» — Что же касается до «короля эксцентрики», то подобный приём (прямого обращения к публике) для него был не только родным, но и глубоко переживаемым (всякий раз между успехом и провалом, между прошлым и будущим). Всякий раз, словно удочку забрасывал: «если шикать мне начнёте — это уже лишнее...» или, протянув скрюченную руку — туда, в зал, вытаскивал обратно прямой ответ. Не говоря уже о переживших три десятка лет бес’конечных куплетах, каждый из которых заканчивался издевательским наглым припевом — туда, в зал, в эти до боли знакомые гыкающие рожи, вечно лузгающие семечки и сплёвывавшие на пол: «во́т вам плоды просвещенья, во́т вам ваша культура...» — Хамская острота последних текстов была такова, что ни единого разу они не смогли пройти сквозь сорное сито цензуры ради публикации (в виде нот или отдельных текстов).[28] И сколько раз автор ни выбирал, как ему казалось, самые плоские и беззубые (трижды, четырежды оскоплённые!..) варианты куплеты — столько раз их и приходилось переписывать наново, доводя их первоначальную плоскость до изнурительного состояния «синявинских болот», а беззубость — до внешнего вида «древнегреческой старухи».[29] Как безрадостный итог: все опубликованные варианты были изуродованы до такой степени, что даже родная мать не узнала бы в них те разнузданные и отчаянно свободные импровизации, которые Михаил Савояров устраивал на своих концертах: «во́т вам ваша культура, во́т вам плоды просвещенья...» — Резюме. Говоря коротким текстом, в первых двух словах (заголовка или припева) штейнберговского романса содержалась несомненная агрессия: ничем не прикрытая сила упрёка или, как минимум, прямого обращения ко всякому, кто только его слышал или слушал...
|
- — Один из намоленных приёмов Михаила Савоярова...
3. Наделали..., — собственно, под этим паролем скрывалось центральное и, одновременно, самое действительное, действенное & действующее слово в заголовке и припеве. Правда, кроме всех несомненных достоинств имелся у него и один ощутимый недостаток: брало оно на себя «слишком уж много», заключая в себе, словно под крышкой известного прибора, недюжинную дозу двусмысленности... особого рода, и поневоле заставлявшую сразу ухмыльнуться натуры цинические или хотя бы — иронические. Оттого и пришлось сыграть третьему пункту популярного романса Штейнберга роль нежданного трамплина «посреди дороги ровныя» (наподобие медвежьей услуги), что и сделало, говоря по сути, львиную долю его комической партии (и таковой же — славы).[комм. 17] Заранее «наделав» (под себя) столь заметную кучку добротного продукта, незадачливый поэт (по имени «Z.»), зевнув столь яркий стилевой ляпсус, заранее превратил свой (будущий) шедевр — прежде всего, в силу его яркости — в двойной символ или концентрат жестокого романса. С одной стороны, он впитал в себя почти все его основные черты (в превосходной степени), а с другой — загодя подложив под него мину замедленного действия. Как поэтический итог: «вот что наделали песни твои» сами себя подставили под насмешки любого рода, с первого же выстрела изобразив у себя на лбу идеальную мишень для пародирования. Куда ни попади — всё в яблочко!.. Сам себе загодя наделал (в штаны). Причём, трудно было бы назвать этот поступок уникальным. У этого композитора (и поэта) — что ни романс, то пальцем в нёбо!.. Шедевр на шедевре сидит и шедевром погоняет! Как говорится, и до того уже почва была основательно взрыхлена и обильно унавожена: любо-дорого глядеть (и нюхать). И репутацию «основательно понаделавшего» Штейнберг за собой удерживал заранее и прочно: едва ли не каждый его музыкально-стихотворический текст представлял собою собрание перлов (в смеси с перловкой). Пожалуй, в этой отрасли цыганского хозяйства романс «на стихи Z.» (оp.121) мало чем отличался от прочих опусов. Разве только: пропорцией и формой боговдохновенных ляпсусов, которые сплелись здесь в ослепительно прекрасное созвездие. — Как это бывает во всякой славе или успехе, тонкая алхимия творчества вошла в удачное сочетание с набором случайных находок и совпадений. А в итоге планеты сложились так, что автор не только сделал (популярный романс)..., но и кое-что (ничуть не менее популярное) наделал... попутно. Причём, в одно и то же место. Не нужно обладать грандиозным воображением, чтобы представить себе вящий восторг пересмешника-Савоярова перед очередным шедевром добровольно «обделавшегося» автора жестокой пошлятины. Не только «король эксцентрики», но и пожизненно-благодарный ученик Петра Шумахера (главного и единственного певца человеческих какашек в горних высотах русской поэзии), он не мог не оценить гальюнной открытости дерзкого (практически, экспериментального по своему накалу) слога Штейнберга.[7] Так и подмывало, глядя на очередную жестокую «нетленку», всплеснуть руками и воскликнуть: ах, да какое же спасибо тебе, Михаил Карлович, душка, за ещё одну потрясающую игру в поддавки, теперь ты и сам можешь полюбоваться: «вот что наделали песни твои»... — Резюме. Говоря ещё одним коротким текстом, в среднем слове штейнберговского романса содержался добрый заряд физиологической провокации, с пол-оборота толкающей фантазию на узкую дорожку жёсткого (или жестокого) натурализма...
- — Ещё один из постоянных приёмов Михаила Савоярова...[комм. 18]
|
4-5. Песни твои..., — наконец, за последней парой слов припева (и заголовка) был припрятан, пожалуй, самый тонкий механизм, слегка приоткрывающий тропинку в интимные глубины отношений не только между копозитором и его потрясёнными поклонницами, — но и (бери!) куда глубже: между автором (музыки & текстов, без разницы) и его бес’смертными творениями. И здесь, не пытаясь ничего преувеличить или выдумать, приходится констатировать, что оба этих Михаила (и Штейнберг, и Савояров), несомненно, попытались прыгнуть выше головы. Причём, попытка оказалась небезуспешной. И прежде всего, бросается в глаза типичный формализм, казалось бы, ничуть не свойственный низкому (развлекательному) искусству ресторанного романса или эстрадной пародии. Даже самое слово «песни» говорит о желании автора оторваться (приподняться) над своей привычной средой и «наделать» (пардон, я имел в виду: «создать») нечто... совершенно экстраординарное, — вот уж где в прямом звуке и смысле: этот стон у нас песней зовётся!..[32] И в самом деле, только с очень большой натяжкой сочиняемые Штейнбергом цыганские жестокости можно было бы назвать «песнями», скажем, если попытаться перевести его пожизненное занятие на высокий штиль романтической поэзии. — Тем более, что под фразой «песни твои» гипотетическая «Z.» (стра́стная поклонница копозитора) имела в виду некое неопределённое множество ранее слышанных ею опусов М.К.Штейнберга, проще говоря, «его жестокое наследие», таким образом, походя приподнятое почти на библейский уровень неких небесных или ангельских «песен». Особенно выразительным в этом соседстве выглядит последнее (казалось бы, интимное) слово: «твои», невольно соединяющее в себе сакральный оттенок молитвы и — экзальтированное обращение на «ты» к возлюбленному гению. И всё же, остановлю свои слова..., поскольку вовсе не это обстоятельство выглядит здесь самым главным или значительным. — Взятая отдельно от романса или хотя бы контекста, (что случалось, как я уже сказал, едва ли не чаще всего) фраза припева, составившая заглавие внезапно получала дополнительный вес, отправлявший её — причём, самым прямым путём! — в область, как минимум, идеологии искусства. Между прочим, последнее обстоятельство изрядно добавляло творению Штейнберга нелепости и, как следствие, комического эффекта, как всегда случается в случае слишком большого разрыва между замахом и ударом (намерением и реализацией). Потому что..., говоря по большому счёту, сама по себе фраза «вот что наделали песни твои» в сжатой (почти первобытной) форме формулировала старый как мир тезис о «действии искусства» (или катарсисе, если угодно). И нет нужды в том, что Штейнберг со свойственным ему (чисто, немецким) упрямством снова раскрасил эту идею в свои фирменные тона жестокой цыганщины, щедро залитой клубничным соусом: суть вопроса от этого нисколько не меняется (только контекст, как я уже сказал). И даже более того: она становится более выпуклой (почти пародийной), едва представишь себе, что именно (по версии автора романса или одноимённого кинофильма) оказались способны «наделать» столь потрясающие воображение и соображение «песни твои». — Едва ли не главный принц..., прошу прощения, — главный принцип будущей скрябинской мистерии (причём, на сексуальной почве и с крепким аморалистическим соусом, как это и полагается) нарисовал херр Штейнберг в своём маленьком & неодолимо жест’оком романсе.[комм. 19] Ибо (ridendo dicere severum!)...[33] единой силою искусства удалось ему то ли изменить..., то ли — и вовсе перевернуть весь этот маленький и слабый мир (с ног на голову, что показательно): во́т что́ наделали песни его!.. — Резюме. Наконец, подытоживая всю словесную шелуху коротким текстом: в двух последних словах штейнберговского романса был сокрыт несоразмерный замах на такую действенную силу искусства, о которой незадачливый автор слов и музыки не мог даже и помечтать...
- — Между прочим, одна из главных пожизненных ценностей Михаила Савоярова...
Пожалуй, достаточно... Потому что внутри пяти слов штейнберговского „Z“аголовка как в известного рода сухом эмбрионе («просто добавь воды!..») с лихвой содержалось — почти всё необходимое и достаточное, что спустя семь лет разрослось пышным лопухом во время развязно-отвязанных пародированных импровизаций Михаила Савоярова на заданную тему. Вернее сказать — сразу на три заданные темы, приятно пересчитать: раз, два, три!.. — Ради наглядности сызнова пишем уравнение: прямое обращение + жестокий натурализм (и, наконец), + преображающее действие искусства = почти весь савояровский фонфоризм (едва ли не прямое последствие..., пардон, немое наследствие великолепного урока, не так давно полученного верхне-савойским «королём эксцентрики» из рук пресветлых парижских фумистов).[1]
Впрочем..., поскорее оставим (в одном месте) наукообразные разглагольствования и авторитетные пояснения. Потому что..., да, вот именно..., потому что всякие объяснения решительно неуместны и глупы: в этой своей «пародии» герр Михаил Савояров, наконец, оторвался «по полной»!.. Или — почти по полной (оставляя это слово только ради лишнего упоминания о существе человеческого существа). (Почти) без оглядки на цензуру и публику. (Почти) без желания кому-то понравиться или (п)оправиться.
|
- Вернее говоря, всё было (бы) в точности наоборот...
Несомненно, «вóт чтó (по)наделанные песни» стали один из первых его открытых сценических экспериментов & опытов... в подобном, с позволения сказать, направлении. Именно здесь, опираясь на почти физиологический (по своему крайнему бесстыдству) материал (перво...источника) штейнберговского романса (действуя в точности по инструкции, как лаборантка в районной медицинской лаборатории по исследованию свежего кала и мочи) он впервые попытался проанализировать субстрат и прощупать почву возможного, чтобы затем... начать понемногу..., осторожно (словно бы брезгуя или опасаясь какого-то взрыва как минёр) отодвигать — границы дозволенного. Причём, не просто дозволенного, но — принципиально публичного, в том узком промежутке, где (вроде бы) не было вездесущего глаза или уха цензуры, но притом оставался риск, что добрые люди (благопристойных убеждений или патриотических нравов) «доложат куда надо»: донесут или «капнут». На год или два раньше «вот что наделанные песни», эту жёстко-натуралистическую пародию опередила — одна только шумахеровская «Родня», однако там опыт был диалогом — скорее словесным (поэтическим), чем артистическим. К тому же игру куплетист затеял с целым стихотворением дорогого (покойного) учителя, — крайне жёсткое (в прямом смысле слова нецензурное, обсценное и бранное), оно могло прозвучать далеко... не в любом месте: только на особой (отборной) публике, к тому же, основательно «разогретой» и более-менее готовой получить порцию пикантной соли с перцем промеж полушарий... Причём, работа шла постепенно, буквально: шаг за шагом отодвигая границы (не)возможного. Далеко не сразу Савояров превратил первоисточник — в первый куплет, к которому раз за разом присочинял очередной «сериал с продолжением» (с каждым разом всё крепче и круче), — то церковный, то бюрократический, то купеческий, то военный..., наподобие малой энциклопедии нравов или портативной человеческой комедии.[35]
— Для начала скажем мягко: романс Штейнберга имел целый ряд существенных отличий от срамной «Родни». И прежде всего, в нём не было ничего нецензурного (по крайней мере, на поверхности), вдобавок, он был чертовски популярен: это создавало эффект узнаваемости, эпатажного кинического диалога с публикой, которого не было в случае неизвестного стихотворения почти забытого Шумахера.[комм. 21] Собственно, здесь и была зарыта собака главного урока савояровской «пародии»: взять крайне неприличный первоисточник (мещанский романс Штейнберга), в котором, тем не менее, не было ничего открыто-непристойного — и последовательно снять с него всю одежду, наконец, показав как облупленного вместе со всем его порнографическим натурализмом и продажной сексуальной разнузданностью в точности по древнейшей профессии). При том (и последнее отличие от «Родни» особенно бросалось в глаза), тщательно сохранив внешнюю «подцензурность»: не употребляя дурных слов, резких выражений и всего того, что мог бы вычеркнуть строгий цензор. — Практически, прямая противоположность первому (по времени) упражнению с шумахеровским «немцем».[комм. 22] Кстати говоря, именно благодаря этому стоическому принципу (вести себя как воспитанный мальчик) один из вариантов «вот что наделанных песен» спустя пять-шесть-семь лет (в 1915 году, уже на второй год войны это случилося) «даже» был опубликован (во втором авторском сборнике куплетов, пародий и дуэтов).[34] И это — несмотря на удвоенные третирования & прочие придирательства цензуры: не только штатской (в кепке), но теперь ещё и (бери выше!) — военной (в фуражке). А значит: в тексте всё было чисто! Комар носа не подточил. Но в первую голову чисто было — с адресом. Ведь в качестве под’заголовка на той странице было ясно написано (да ещё и чёрным по белому): «пародiя на романсъ». А стало быть, всякий доблiй ценсор его Велiчества заранее чувствовал себя значительно спокойнее: романс — не тётка, и навряд ли здесь можно было ждать особенно жестокого подвоха. Например, пол...литического. Или даже шпионского (не дай-то бог). Равным образом, двукратно спокойнее чувствовал себя и куплетист, выходя с рогатиной «на Штейнберга» — как на экспериментальную площадку. Узнаваемость музыки и слов позволяла не слишком беспокоиться об успехе: публика заранее была довольна услышать любимый романс и, заранее потешаясь (как в цирке), с открытым ртом следила за слишком кривым зеркалом в руках пародиста.
- И в самом деле, кривизна была знатной...
Потому что в первооснове этой история лежала, прежде всего — точность почти документальная. Савояровская пародия, ничуть не менее грубо сколоченная, чем её жестокий оригинал, имела неизменно шумный..., почти разнузданный успех на публике. Именно по этой причине, тщательно отсеивая трын-траву от плевел, автор включил свою выходку — во второй сборник сочинений. Здесь имел место двойной эффект сотрудничества двух Михаилов. И в первую голову, восхитительный первоисточник херра Штейнберга действовал на скучающего обывателя как разнузданная провокация.[7] Казалось, уже в нём не было решительно никаких ограничений: до такой степени он (сам по себе!..) казался кривлянием, разнузданным, отвязанным и преувеличенным в десятки раз, что даже оставаясь на исходной позиции, вполне можно было сойти за пародию (на самоё себя). А потому вовсе не обязательно было пересочинять наново весь текст, да ещё и слегка «уводить в сторону» музыку (как сделал Савояров). Казалось бы: замени одно-два слова, добавь выразительный взгляд, интонацию, пару жестов — и всё!.., жестокая пародия готова.[36] Собственно, один из савояровских вариантов и был (почти) таков: почти точное исполнение музыки и слов Штейнберга, да ещё (нередко) и — в дуэте со своей первой женой Ариадной Горькой. Будучи в ударе, «дуэттисты» (почти дуэлянты) разыгрывали небольшую сценку в стиле иллюстрации к стихам: посмотрите-мол, до что могут «наделать песни его». Причём, главная жесть и тяжесть маленькой истории (в духе будущего кинофильма Якова Лейна) лежала на Савоярове. Его жена, в основном, наблюдала за «жёстким эффектом» романса, который при первой же возможности подавался в преувеличенно грубой и безвкусной манере: с воем, кашлем, отрыжкой и прочими физиологическими проявлениями, вплоть до жестокой рвоты. Двойная мизансцена нередко доводила публику почти до икоты... после истерического припадка хохота. Собственно, только того Савоярову и было нужно. Гиперболическими средствами он добивался такого же гиперболического эффекта воздействия на «умы и морды»: «во́т что́ наделали песни твои»...
- Браво, браво, дядя-Миша!.. (& искренне сожалею, что меня там не было)...
И всё же, не будем ничего преувеличивать: прямое исполнение (вернее сказать, «приведение в исполнение») цыганско-немецкого первоисточника было первым (по времени) и — самым простым вариантом. Всячески утрируя и передразнивая самые пошлые авторские (а также исполнительские) интонации, Савояров выступал здесь в классической роли гаера, шута, даже клоуна, в конечном счёте — пересмешника. Куда тоньше (если в таком жирном деле вообще можно говорить о тонкости) выглядели остальные пять вариантов его «вот что наделанных песен». И здесь, пожалуй, уместно было бы расчленить этот незаданный вопрос на несколько частей..., чтобы не сваливать всё с излишней жестокостью — в одну мусорную кучу.[37] И прежде всего, скажу два слова — о музыке, накоротке (хотя и не хотелось бы, конечно)...
- Но и вовсе о ней позабыть, к сожалению, не удастся...
1. Музыка — поскольку «вот что наделанные песни» имели (до неприличия) устойчивый успех на протяжении полутора десятков лет (как в оригинале, так и в савояровской «редакции»), в течение которых автор отнюдь не был замороженным и не почивал на лаврах с горошком, соответственно, и музыка за эти годы не раз претерпевала изменения. Само собой, движение было, в основном, в одну кассу: по узкой тропинке постепенного усложнения и огрубления — вместе со сценическим стилем «короля эксцентрики», всё более превращавшегося в «рвотного шансонье». И прежде всего потому, что фирменный савояровский фонфоризм именно в эти годы (1910-1917) оформился как более-менее очерченная эстетика, а маразм публики (одновременно) — за годы войны — заметно окреп и стал явлением почти стихийного характера.[комм. 23] Собственно, я бы мог и не тратить лишних слов: эти «люди из публики» и сами очень скоро показали, на что способны, устроив в 1917 году перманентный дебош с барабанным боем и выпусканием кишок продолжительностью почти в половину века... Само собой, по сравнению с достижениями народных масс — трансформация савояровского рвотного стиля заметно проигрывает и выглядит несравнимо бледнее.
- И тем не менее, это ещё не повод, чтобы не говорить о нём вовсе.
Итак, я сказал: в течение почти десятка лет музыкальная часть «понаделанных песен» заметно дрейфовала вместе со всей странной страной, таким образом, всё дальше отползая от исходного штейнберговского шедевра и, как следствие, также от своего собственного (перво...начального) варианта. И здесь могу только лишний раз повторить сказанное & указанное. Если в первых спародийных & пародийных исполнениях 1908 года Михаил Савояров напрямую изгалялся над поэзий «мадам Z.» и музыкой «херра Ш.» (в точности как студент, неожиданно для самого себя выскочивший на кафедру, чтобы выдразнивать отлучившегося по малой нужде профессора), то в последние деньки «русского королевства» и поэзия, и музыка в его цинической импровизации стали совершенно оригинальными. Пожалуй, не утерялась только явная генетическая связь (пуповина) с первоисточником и, словно венец всех доказательств, дважды повторённая ключевая фраза императивного припева: «вóт, что наделали песни твои!..»
|
- Прошу прощения..., но кто сказал, что только дважды?..[комм. 24]
— Впрочем, далеко..., и даже слишком далеко. Да, именно так..., далеко не только «творчество» или «артистизм». Как всегда, лебеда и прочий (му)сор сыграли свою почётную & почтенную паритию в игре.[39] Как часто бывает, далеко не последнюю роль здесь сыграли мотивации совершенно постороннего свойства, в частности, имея в виду природную чистоплотность (или, если угодно, брезгливость..., отчасти, даже вредность характера) короля эксцентрики. — Испытывая органическое отвращение ко всеобщей склонности воровать и жульничать (у Савоярова постоянно утаскивали всё лучшее: куплеты, слова, задумки, мизансцены и даже идеи),[40] он попросту не мог себе позволить продолжать такое же поведение. Но и кроме того, совсем не хотелось вступать в отношения (тем более, товарно-денежные) со своим тёзкой (тоже Михаилом),[41] человеком не только неприятным и далёким, но и, вдобавок — недалёким. Рассматривая со всех точек зрения, это был бы настоящий «моветон». А потому, с использованием чужого материала нужно было кончать. Не прошло и полугода как не’посредственное кривляние с текстом и музыкой романса Штейнберга прекратилось, уступив место сначала «жестокой (хотя и свободной) вариации на жестокую тему», а затем и — весьма отдалённой переработке первоначального субстрата в плодотворный перегной или компост.
Примерно по такому же пути эмансипации и усложнения постепенно развивался первоначальный инструментарий и музыкальный язык савояровской пародии. В первой (отчасти, мимической) версии исполнитель всячески выламывался, изображая экзальтированную даму или короля (а иной раз даже валета), время от времени подыгрывая себе на скрипке (всякие «цыганские мотивы» мало-мальски подходящие по теме романса..., и вообще, что только придёт в голову). Дальше — больше. Фортепианный аккомпанемент (о котором здесь нет и речи) усложнялся по инициативе и возможностям пианиста, но зато автор, пользуясь очевидной безнаказанностью, позволял себе всё больше, устраивая по ходу дела про’странные импровизации. Откровенно выделываясь и дурачась, изображая скрипкой разнузданные стоны, вопли и прочие заутробные звуки, издаваемые присутствующими животными («свинки лежали, собачки игрались...»), наигрывая «вдоль и поперёк»..., наконец, солист доходил до артистической политональности («фальшивой игре») в комплекте с полиритмией и прочими прелестями, когда мелодия «доведённого до отчаяния» скрипача решительно не желала (или не могла) совпадать с аккомпанементом. — Дёшево и сердито! Недорого и кошмарно! Всё ради вящего усиления эффекта! Как это часто случалось в 1910-е годы, Михаил Савояров пускал в ход все подручные средства (унисоном или параллельным ходом).[1] Как результат: опять налицо чудовищное торжество площадного гаерского стиля, который повторно (ещё раз, ради важного вида и такого же закрепления) обзову «эксцентрическим натурализмом» или «гротескным экспрессионизмом».
- Наконец, подытоживая этот пункт коротким текстом, мне остаётся сказать примерно во́т что́: в течение десятка лет исполнения савояровской пародии на романс «Во́т что́ наделали песни твои» её музыкальный текст менялся по любому случаю: от исполнения к исполнению (в рамках импровизации) и от года к году (по мере окончательного формирования зрелого «рвотного стиля»). — Окидывая всё это невиданное богатство издалека, можно насчитать три основных варианта, последний из которых появился в 1912-13 году и затем медленно дрейфовал вместе со своим автором в сторону 1917-18 года,[комм. 25] когда формирование савояровского эстрадного авангарда было прервано уже совсем другими «королями» — совсем другой эксцентрики (устроившими такую же громогласную & натуралистическую рвоту, но только не на сцене, а за кулисами — и в масштабах целой страны).
2. Текст — словесную материю савояровской пародии придётся выделить в отдельный пункт, поскольку... богатство и разнообразие «вот что наделанных песен» по этой части превосходило даже музыкальное. — Впрочем, не будем о грустном. Скажем лучше прямо и сухо: пресловутый херр Штейнберг, признанный мастер всяких колокольчиков-бубенчиков, видимо, слишком сильно не нравился мсье Савоярову, точнее говоря, он вызывал устойчивое раздражение..., иногда даже — вполне «творческое». Пожалуй, переплюнуть это раздражение мог бы только «третий Михаил» (Куз(ь)мин), отвратный тип (вдобавок, блоковский приятель-собутыльник..., недолгое время),[комм. 26] чья козья морда постоянно просила кузькиной матери.[комм. 27] — Впрочем, на радость пародиста «голубой аполлон» не столь часто светился на эстрадном небосклоне..., и к тому же довольно скоро покинул его вовсе (ради более тучных нив высокой поэзии). Напротив того, Михаил Штейнберг (родившийся на девять лет раньше) совершенно не собирался покидать романсовый парнас, где год из года светился, лез в уши и мозолил глаза своими анекдотически-жестокими поделками. Часть из этих поделок, к слову сказать, имела на удивление устойчивый успех у публики..., в том числе, принимая форму патефонных пластинок и выпрыгивая — словно мелкий бес — из мест самых неожидаемых. Как итог: копившееся раздражение должно было иметь специальную «дырочку» или «носик» для периодического «сброса пара» и «слива осадочка»...
- Короче говоря, всё — как в лучших домах Лондреса...
|
И опять здесь, посреди очередной массы мусорных слов пополам со рвотой, как это уже не раз случалось, припрятана ещё одна из странных причин: почему раз за разом, словно поганки после дождя, как из-под земли вырастали новые текстовые & даже тематические версии «во́т что́ понаделанных песен». По (не)сча́стливой случайности я имею (вчера и сегодня) уникальную возможность сопоставить несколько рукописных источников & судить о тексте савояровской пародии не только по двум опубликованным култышкам (чтобы не употреблять определение: «жалкий огрызок»..., хотя и грубое, но в данном случае абсолютно точное). Первая публикация савояровского «романса», как я уже намекнул (глубоко в скобках), случилась в 1915 году (уже после начала мировой войны).[34] Полностью приведённая здесь (немного выше), она включала в себя всего три куплета из (так называемого) кулинарного или пищеварительного варианта породистой пародии. Разумеется, ценность публикации ничтожна и представляет собою скорее казус, намёк & бледное воспоминание, чем реальный выпуклый предмет. — Добела выскобленный скелет, лишённый практически всего, что некогда составляло его жизнь..., не говоря уже о контексте, интонации, позе, артистическом аффекте и эффекте присутствия и, наконец, обо всей савояровской фонфористической системе, переходящей временами — в суггестию почти физиологическую (по своей прямой грубости воздействия). Короче говоря, в отпечатанном на бумаге виде мы имеем чуть больше, чем — фиговый листок, не способный, по сути, прикрыть даже (самый маленький) срам.[43] Мне очень жаль, что мой дед, движимый глубоко несущественными мотивами, в своё время учинил издать несколько своих куплетных книжек (почти брошюр, к счастью), — с другой стороны, неукоснительно выдержав принцип герметичности в отношении всего ценного (имея в виду стихи без музыки), что было в его портфеле. Причины такого поступка ясны до неприличия и возвращаться к ним сызнова (да ещё и здесь, на страницах хано́графа) я не вижу ни малейшего резона...[1] Равно как — не могу не покачать ещё раз головой..., с малой укоризной и огорчением. Так и подмывает, глядя на бедные куплетные строчки, не способные дать ни малейшего представления (о том представлении & явлении, которое представлял и являл собою «король эксцентрики»). Поистине, нужно было иметь воображение равное или превосходящее савояровский оригинал, чтобы по бледному и местами стёртому пунктиру достроить ту шикарную линию, которую рисовала недрогнувшая рука «рвотного шансонье» прямо в воздухе..., между сценой и публикой. Кто кроме меня ещё мог совершить такую (более чем археологическую) реставрацию..., почти реконструкцию срамного, дерзкого и грубого искусства, растаявшего в воздухе спустя минуту после того, как артист закрыл за собой дверь?.. — Тем более, что этот вопрос в последние сто лет решительно никого не интересовал. Разве что, кроме Александра Блока и, как (по)следствие, Виктора Шкловского...[44] — Пожалуй, в самом общем виде небольшая реконструкция (причём, выполненная почти из «ничего») удалась только профессору Уваровой... В своей большой энциклопедии она внезапно (словно бы по наитию) оброниила фразу, словно бы совершенно не вытекающую из предыдущего контекста: «исполнение Савоярова отличали музыкальность, пластичность, тонкая нюансировка, способность к перевоплощению, умение раскрыть подтекст, дополнить песенкой, танцем. Актёрское дарование Савоярова высоко ценил А.Блок»...[45] — Между прочим, эти слова госпожа профессионал сказала о том человеке..., прошу прощения, о том артисте, которого считали нерукопожатным почти все его «серебряные» современники и любые упоминания о котором в лучшем случае содержали слово «грубый» или (реже, в особо мягких случаях) «грубоватый»...[46] И вдруг мы (слегка удивлённо) видим такую неожиданность, почти детскую: «тонкая нюансировка, способность к перевоплощению, умение раскрыть подтекст...» — Пожалуй, смотрится не так уж и плохо, особенно, рядом с этими проникновенными поэтическими строками: «Чем объяснить, что когда ты завыла, — Волосы дыбом, вдруг, встали мои, Смазать хотелось кому-нибудь в рыло!.. — Во́т, что́ наделали песни твои...»[34] — Даже со всеми (возможными и невозможными) скидками на тотальное сокращение и оскопление печатного варианта, «тонкая нюансировка» со всем прочим комплектом прекрасных артистических достоинств так и просится к савояровским «метафорическим виршам», столь типичным & привычным для стихотворного инструментария лучших поэтов серебряного века. — Без малейших разниц и различий: Северянин, Кузмин, Бугаев, Гиппиус, Волошин, Гумилёв и даже Ах...матова — все они в досаде грызут себе локти, глядя на столь изысканный стиль, поистине недосягаемый для их братии.
И вот, прослезившись ради порядка куда-то налево, в красный угол, я сызнова спрашиваю, глядя на три бедных & бледных куплета, чудом уцелевших на страницах второго сборника куплетиста Савоярова (из почти сотни пролетевшего мимо изобилия): «что́ они могут дать для воссоздания или, хотя бы, понимания этого артиста и (одного) его сочинения, бесконечно далёкого от опубликованного огрызка?..» И не лучше ли попросту позабыть о жалкой горстке публикаций, уводящих столь далеко в сторону от эксцентричного оригинала и его оригинального искусства?.. Говоря по сути вопроса: что́ представляют собою эти три куплета? «Миша-два-процента»... или крошечная крупинка дури?.. Какую ничтожную «долю» они содержат в себе от живого произведения, состоявшего не только из текста (произвольно говоря, числом в десять-пятнадцать куплетов), но и аккомпанемента разбитого пианино, пьяной скрипки, но в первую очередь — интонации, мимики, миманса, высокой и низкой эксцентрики, невероятного гримасничанья, наглого фиглярства, жестокого эпатажа, воя, ноя, а затем, поверх всего, ещё — имитации рвоты и соплей?.. Это удивительное живое искусство, происходившее моментально, «здесь и сейчас» — что́ от него можно было фиксировать в трёх куплетах, которые даже сам автор не считал ценным предметом — вне концерта, всякий раз происходившего «в своём репертуаре». Взять, скажем, знаменитое исполнение Андреем Мироновым савояровской «песенки про трубачей» или какие-нибудь куплеты министра-администратора из фильма «Обыкновенное чудо»... Вот, тоже мне, вопрос: не будь, скажем, на свете звукозаписи или киноленты, какую долю из этого пира духа, почти циркового по своему роскошеству, можно было бы передать при помощи трёх строчек запева: «по селу бегут мальчишки: девки, бабы, ребятишки, — словно стая саранчи...»
- Почти ничего!..., кот наплакал. Но ведь в точности таков был и случай Савоярова!..[46]
...и сотворил Бог человека по образу и подобию Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их...[47] — Но... до чего же жалкое подобие это было..., и что за тусклый образ, почти образина...[48] — Всего каких-то три несчастных, дважды оскоплённых и единожды выбритых «под ноль» (почти налысо) куплета, навсегда потерявшиеся на двадцать девятой странице второго (мусоро)сборника куплетов и пародий.
|
— И всё же, не так..., или, по крайней мере, не совсем так. Потому что понимать эти строчки можно и нужно было не в качестве буквы или текста, но — прежде всего — как знак или намёк, по которому только и возможно теперь реконструировать или воссоздать нечто, не имевшее (сухого) остатка... Махнуть белым платочком. Тайком подмигнуть. Выразительно прикрыть глаза. Оставить между страниц книги засохший колокольчик (не колокол..., нет).[1] Так или иначе, но каким-то способом дать понять — тому, кто способен понимать..., хотя бы немногое. К сожалению только, за последнюю сотню лет делать это было решительно некому: один поезд давно ушёл и не вернулся, а другой — и вовсе остался преть «на запа́сном пути», пока не врос по уши в землю. Не будем зря таращить глаза: так было..., и так будет впредь до упора. — Признаться, поначалу я собирался кое-что противопоставить этому положению вещей..., слишком обычному и зловредному, чтобы продолжать в том же духе. — Что противопоставить?.. Да очень просто! К примеру, опубликовать музыку (третий вариант) савояровской пародии. Затем — хотя бы один из пяти вариантов текста — в полном виде, все девять, дюжину, двадцать куплетов (примерно таким же образом, к слову говоря, как я сделал это в случае шумахеровской «Родни»)... Наконец, выложить (впервые!) запись «Вот, что наделали песни твои!..», чтобы её можно было под’слушать (ну..., хотя бы одним ушком) — невероятное дело! — впервые в истории этого маленького человеческого субстрата. Но нет. Теперь не будет ни первого, ни пятого, ни девятого... — Причина? Ещё проще: очередной раунд подлости-II и бес’примерного свинства, учинённый российскими изд(ев)ательствами на ниве предложения..., всего лишь, моего предложения опубликовать тоже первую книгу тоже стихов тоже Михаила Савоярова: «Избранное Из’бранного». Фактически, подарок этому миру, который я принёс на вытянутых руках с единственной целью: показать, что они потеряли, эти олухи царя (отнюдь не) небесного. Сто лет назад. И — ещё раз, только что..., вчера. Вóт, что наделали песни твои!.., дорогой мой человек... — Как всегда, у нас с Михаилом Николаичем остаётся единственный (и универсальный) ответ, один на всё: не хотите, значит, оставайтесь при своём, — раз, два, три, книжечка гори!..[50]
- — Точно так же, как это бывало сто, тысячу или сто тысяч лет на зад...
- — И точно так же, как ещё будет — примерно столько же — но в перёд...
- — Точно так же, как это бывало сто, тысячу или сто тысяч лет на зад...
— Вóт, чтó наделали песни твои!.., — говоря всухую, или почти всухую..., на сей раз. И всё же, остановлю свои напрасные возлияния... — Быть может, не всё так дурно в доме Шнеерзона. Между прочим, одно только различие названий (или припевов) уже очень многое может сказать..., о той тонкой разнице, которая (в итоге) составила сущую про́пасть между двумя Михаилами (Савояровым и Штейнбергом..., если кое-кто уже позабыл).[41] И прежде всего, конечно же, — не жестокая, но жёсткая интонация главного умысла, обозначенная всего одной (лишней) запятой после первого слова: во́т, во́т вам!.., — во́т, получите и распишитесь. Тáк сказáл мсье Савояров.[комм. 28] Но совсем не таков был херр Штейнберг. С увлечением пролетев мимо всех поворотов, включая даже собственную музыку романса,[комм. 29] он оставил фразу единой, словно линия к цели, словно натянутая струна, от начала к концу, от рукописи до кассы, от поклонницы до комозитора: полюбуйся, → вот что наделали песни твои! → Без лишней скромности, без ложной прямоты.
- Где тонко, там и рвётся... Но как же сладко там (порою) рвётся!..
...пробегая компактным аллюром по всем территориям «наделанных песен», где только отметил своё присутствие Михаил Савояров, можно насчитать круглым счётом пять (больших) вариантов текста, различающихся как по своей теме, так и по времени сочинения (и исполнения, как следствие). Причём, я разумею под вариантами — говоря по существу — совершенно отдельные и самостоятельные тексты, не пересекающиеся ни в одном куплете. Главное их различие состояло, прежде всего, в той области человеческого организма или быта, которую затронуло преображающее действие искусства, всякий раз завершающееся закономерным итогом: вот, что наделали песни твои. Некоторые из вариантов, сверх того, имели и разное музыкальное решение (хотя и более родственное, чем стихи). Впрочем, не стану лишний раз повторяться: об этом и так уже шла речь в верхах. Продолжая начатую бухгалтерию, придётся сказать, что опубликованные в 1915 году три куплета представляли собой обрывок из третьего варианта (пищеварительного), речь в котором вертелась, в основном, вокруг фирменных савояровских материй: от расстройства желудка до рвоты и далее (со всеми вытекающими последствиями). Второй вариант (кулуарно-будуарный), говоря полушёпотом, был вообще не пригоден к публикации. Представляя собой, по существу, развёрнутый анекдот или почти сюрреальную комедию ошибок, он был построен на двух недо’умениях: с одной стороны, жестокий романс некоего композитора Штейнберга со странностями в характере, а с другой — ещё один композитор по фамилии тоже Штейнберг, который не так давно женился на дочке (не кого-нибудь, как самогó) Римского-Корсакова!..[комм. 30] — вóт, чтó наделали песни твои!
...и снова сократим..., — как иногда обреза́л (сам себя) один мой приятель, старый приятель...[13] На счёт первого варианта (ортодоксального) я уже (не) раз обмолвился, разумея, что он (с точки зрения текста и музыки) был в наибольшей степени пародийный, причём, обильно сдобренный воем и стонами разных представителей животного мира (с преобладанием семейства кошачьих). Как мне кажется, (редкая для Савоярова) чистота жанра здесь была налицо. Однако, он зато и недолго прожил, в скором времени уступив место своим доблестным наследникам (от второго до пятого номера). Наконец, четвёртый вариант (армейско-п(ар)алитический), судя по контексту, был в целом вдохновлён началом войны (хотя и первой, но мировой!) — и посвящён в разной степени идиотским песнопениям, раздававшимся от притворных придворных, министров, гласных, думских и прочей публичной шантропы. Само собой, их песни наделали в то время массу «мелких» неприятностей, большая часть из которых не сулила лично мсье эксцентрику ничего хорошего — начиная от «героической смерти» в красивом благоустроенном окопе и кончая «Велiкой» октябрьской социалистической революцией (все слова в кавычках, вестимо), — а затем «братской» могилой на Колыме или Соловках, например. Один из позднейших куплетов 1917 года, соответственно, давал развёрнутую (всем тылом) картинку от интернационала до марсельезы и обратно... в духе «мы жертвою пали в борьбе роковой», закономерным образом заканчиваясь всё тем же (слегка укоризненным) заходом по поводу преображающего воздействия искусства на народные массы. Кажется, эта формула серьёзно могла претендовать на высокую универ’сальность. Не исключая также и всех остальных вариантов: пятого, шестого и остальных, «которых не было» тогда... — да и теперь уже никогда не будет. Как говорится, поезд давно ушёл и больше не вернётся. — Надоело попусту ездить туда и обратно...[51] — Так вот, значит..., что наделали песни твои!.., — и не только песни.
- Наконец, подытоживая и этот пункт в двух словах, мне остаётся сказать во́т что́: в течение десятка лет исполнения савояровской пародии на романс «Во́т что́ наделали песни твои» её текст оставался таким же живым (импровизационным), как и её автор, меняясь по любому случаю и вовсе без оного: от исполнения к исполнению и от настроения к настроению. — Окидывая всё это богатство отсюда, можно насчитать пять основных вариантов, последний из которых п(р)оявился к 1917 году,[комм. 31] таким образом, превратив маленькую (почти цирковую) пародию — в чисто-фумистическую энциклопедию нравов своего времени. Как говорил (о Савоярове) прекрасно...душный Александр Блок: Ещё один кол в горло буржуям, которые не имеют представления, что под боком. — <Вóт чтó> есть действительное искусство в «миниатюрах»...[52]
3. Линия — иначе говоря, имея в виду «исполнение» или игровую материю савояровской пародии, ту материю, которая, собственно, и составляла главную ткань..., так сказать, мясо: основу и тело его провокативно пониженного искусства. Почти абсурд, более чем странная выходка, только представить себе ещё одно (два, пять) несочетаемое сочетание: король экс’центрики, король вне центра, король-маргинал... Мимика и панто’мимика, жесты и жесть, танец и ранец, фальшивая скрипка и скрип телеги, попутная рвота и ещё что-то..., — так или иначе, всё перечисленное и оставшееся за бортом было (по меткому выражению Маршака) неподражаемо-неподражаемым и, одновременно, непередаваемо-непередаваемым. Любая публикация (пожалуй, кроме увечной в те времена киноленты или патефонной пластинки)..., — тем более сказать, любая бумажная публикация была на все сто процентов (100% прописью) бессильна передать савояровский срамной стиль тотальной сценической свободы и этико-эстетической анархии, царящей на его концертах..., особенно, когда он был в ударе (а не под ударом).
- Как говорится: отойдите, мадам..., (чтобы) вас тут и близко не стояло!..
— Нет, я не собирался (и по-прежнему не собираюсь) ничего врать или надумывать поверх того времени.[7] Конечно, «вóт чтó наделанные песни» не сделались ни прорывом, ни прорвой в постепенном формировании жестоко-натуралистического савояровского фумизма 1910-х годов. Скорее, в этой роли можно было бы упомянуть другие его «хиты», более знаменитые как полигон для «рвотного эксперимента», те же: «Благодарю покорно», «Яша-Скульптор», «Туда и обратно», «Это уже лишнее», «Я босяк и тем горжуся», «Осади на тротуар», «Для разнообразия», «Из-за дам», «Всё мало, мало, мало», «По дешёвке», «Возжа попала» и, наконец, как венец всего — физиологические эвакуационные куплеты «Луна-пьяна»... И всё же, в «понаделавших песнях» было нечто такое, что позволяет поставить их в э...похальный ряд только что перечисленных шедевров (без остатка). Пожалуй, всего два слова: широта и долгота. Или напротив: глубина и яма. — В течение (битого) десятка лет этот концертный номер шёл под неизменный (до срама!) гогот и рёв публики, буквально тащившейся от (временами всё более) «скотских выходок» артиста. — Именно это обстоятельство и давало Савоярову тот необходимый (возбудительный & побудительный) коктейль успеха и внутренней свободы, состоявший из равных долей анальгина и пургена. Когда зал воспринимает «на ура!» любую выходку (даже самую плоскую, неудачную или безвкусную), пожалуй, даже Михаил Карлович мог бы позволить себе «кое-что лишнее»..., отвязаться ещё покруче и даже выкинуть нечто совершенно невыкидываемое: немыслимое в условиях цензуры и прочих прелестей эпохи. Та атмосфера «тотальной придури и дури», которая всякий раз сопровождала финальный вопль вóт, чтó наделали песни твои, в итоге, и сделала из ортодоксальной пародии — постоянный доппинг-полигон для натуральных & натуралистических экс...периментов. Всё мало, мало, мало..., давай ещё, давай: выше, глубже, громче, сильнее, дальше — совсем как в спорте..., развлечении для придурков. Потому что..., потому что всякий раз где-то там, за границами позволительного и дозволенного оставалось ещё кое-что такое, до которого можно было докатиться в следующий раз, оправдав всё традиционным афористическим выводом: вóт, чтó наделали песни твои! — И точка!..
- Или немного иначе: запятая, дырка, пе-ре-нос... (как он любил).[51]
- — Так вот, значит..., что наделали песни твои!..,
- Или немного иначе: запятая, дырка, пе-ре-нос... (как он любил).[51]
|
Пожалуй, при известных обстоятельствах я бы и здесь не удержался от маленького пунктира из савояровской записной книжки (шестой...,[51] нечто вроде «вялых записок»). Хотя..., не слишком ли жирно будет? — вот уж, право слово, вопрос ребром, заранее и навсегда оставшийся бес ответа...
Особая тема: материальная или физио’логическая «шутка». Например, ярая дефекация. И в самом деле, что с(т)ранный пробел?.. Пробовали ли вы когда-нибудь от души посрать в присутственном месте..., хотя бы ради смеха, мсье?.. Или скромно поблевать в уголок, в виде тонкой иронии. Скорее всего — нет. Во всяком случае, тáк мне кажется... Потому что у них такое — не принято. Подобное поведение — дурной тон. Фи, мон шер. Ты хочешь прослыть нерукопожатным? Отправиться в ссылку (из приличного общества). — Барков. Пушкин. Лермонтов. Шумахер. В ответ на подобные эскапады у них один рецепт: замалчивать, забывать, не замечать.[46] Либо часть творчества (из чистой неловкости: «чтó он себе позволяет, такой-сякой»), либо вообще всё..., и даже самое имя подвергнуть умолчанию... Разумеется, тут не было ничего исключительного. Материальные шутки или остроты действием испокон века практиковали киники всех мастей (включая пегую). А их недавних предшественников — конечно же, братья-фумисты. Затем, по их следам, благоверные дадаисты и сюрреалисты. Например, своровать кошелёк, плюнуть в морду или сломать кому-то руку..., в качестве акта искусства. Разрезать на куски картину..., или разгромить целую выставку. — И всё же до савояровского (шумахерского) разрыва с пределами физиологического приличия мало кто доходил. Приятно себе представить: мочеиспускание как пародия... Неплохое слово. Пародия?.., м-м-м, — но на чтó же (пародия)? А это уж как получится, дорогóй барин. Ну..., например, на эякуляцию Мирового духа. Или на верноподданнические чувства. Или на участкового попа с паникадилом. — Наконец, оставим пустое перечисление. Давайте смотреть здраво на привычное положение вещей: к примеру, аплодисменты у них широко приняты и не считаются чем-то неприличным. Но на деле это действие (если его вообще можно назвать «действием») ничуть не менее глупое и неприличное. Удары ладонью об ладонь с целью создать равномерный шум в зале (может быть, чтобы заглушить вопли этого неприятного типа на сцене?.., помешать ему дальше выть?.., — и ещё что-нибудь «наделать» своими песнями?..) — В общем, ерунда на постном масле, смысла — никакого, ноль..., только физиологическая (вдобавок, некрасивая) реакция публики на поведение артиста (возможно, ещё более некрасивое и недостойное). Наконец, порядочно надоело претерпевать их бесконечные глупости. Глядеть на тупые рожи. Слушать дурной гогот из зала... — Смазать хотелось кому-нибудь в рыло...
- — Вóт, что они наделали, твои песни!..
Спустя три десятка лет, напрямую продолжая своими «спорадическими» рвотными пародиями линию парижских фумистов, Михаил Савояров точно так же пытался выпускать в лица публике клубы дурно пахнущего дыма. И хотя это было уже начало XX века, король эксцентрики сызнова оказался чужим в своё время (не говоря уже о «будущих» советских временах), забежав далеко вперёд паровоза — одинокий артист-киник посреди ржавых рельсов. Время, место, среда... Всё это имеет отвратительно большое значение среди человеческой стаи, регулярно растирая очередного безрукого рафаэля или глухого моцарта — в придорожную пыль.[33] Не говоря уже о том низком, ниже низкого (развлекательном) жанре, в котором только и были известны его «литературные» опыты, с лишком изысканные для такого дела. Эстрада и кабаре (или кафе-концерт..., «жуткая мерзость», говоря брутальным слогом Эрика) — не слишком удачная нива для отвязанного эксперимента в области идеологии (идиотической) или эстетики (ди’этической). Ресторан от искусства (чтобы не сказать проще: кабак), — злачное, почти панельное место, куда обыватели приходят совсем не для того, чтобы недоумевать или чувствовать себя оплёванными придурками (результат, приемлемый и типичный скорее для акций фумистов, дадаистов или последующих сюрреалистов). И тем не менее, не отказываясь развлекать, Савояров балансировал на грани именно такого оскорбления. Временами его обнажённые примеры напоминали картинку публичных бань, где всякий голый как облупленный невольно представлял пародию на самоё себя (во фраке или сюртуке, с орденами или погонами). Постепенно поднимаясь в своих натуралистических обобщениях и представляя пародию не на конкретное произведение, а на некий архетип, всякий раз заканчивающийся там, где начинались физиологические функции выделения, Михаил Савояров «развлекал» свою публику крайне странным, временами экзотическим способом, представляя до крайности оголённую и грубую пародию не только на нелепое искусство, но (для начала) на художника, артиста (а затем — и публику) вообще. В определённом смысле, его концерты можно было бы определить как предтечу перформанса. И слово «пародия» приобретало здесь только внешний, товарный смысл, поскольку на фоне низкого тела пародировалась любая деятельность. Примерно такой же действие имеет отрезанное ухо, замотанный колючей проволокой рот или изящная мошонка художника, прибитая к брусчатке Красной площади. С одним только отличием: не порывая отношений с традиционным искусством, Савояров устраивал свои преждевременные «акции» — на подмостках (сцены). Да ещё и — низких подмостках, в цилиндре и фраке. С вялой хризантемой в петлице. Регулярно доводя публику до смеховой истерики & икоты своей неукротимым отношением (рвотой) к существующему миру людей. Человек в его «кризах и репризах» представал точной (почти фотографической) карикатурой на самого себя.[комм. 32] Иначе чем акционизм — такое, с позволения сказать, «искусство» назвать нельзя. Легко сказать (сегодня). Но куда труднее понять (вчера и завтра).
- — Вот, что наделали песни твои!..
Это только в последние полвека «искусство действия», шаг за шагом проталкиваясь и пробиваясь в артистические и политические элиты, наконец, получило у них оффициальную прописку: дозволение и признание. Таков обычный социальный путь — из непринятого в нормальное через постепенное обрастание связями и повторениями, теорией и практикой, комментариями и суждениями. Сдав общественный экзамен и получив на руки некий диплом или сертификат соответствия артистической норме, акционизм — постепенно стал степенным и вошёл в практику кланов от искусства. Сегодня вполне довольно засунуть два пальца в рот и сказать: не беспокойтесь, перформанс!.. Увы, «родившись слишком молодым во времена слишком старые»,[9] Михаил Савояров ни при каком раскладе не мог иметь перед собой такого варианта. Начиная от печки, сочиняя куплеты и пародии, он поневоле стал первым акционером акционизма на русской эстраде... Без диплома и сертификата. Вне группы или клана. Не имея дозволения и признания. Да ещё..., в довершение всего — в низком жанре. Само собой, сначала реакция, а затем и «наказание» сразу нескольких кланов не заставили себя ждать, в прямой пропорции с шумным и кратким успехом..., затем воцарилась — глухота, вата и гробовое молчание. Вернее говоря, за’малчивание. Очень выразительное и говорящее само по себе. Если знать...
|
- — Вот, что наделали песни твои!..
Тем не менее, выбора не было. Король эксцентрики..., чудом уцелевший посреди своего времени, взял на себя именно такую роль, нагрузку и амплуа. Взял — единственно потому, что попросту не мог не взять. Побуждаемый исключительно своей инвалидной органикой, он вёл себя единственно возможным способом, не имея перед собою (и внутри себя) других вариантов поведения. Исключительным делом случая можно признать тот факт, что он не погиб сначала в 1905 году,[51] затем — во время войны и смуты и, наконец, уже окончательно замолкнувший и подавленный, уцелел во времена массовой сталинской живодёрни. Пожалуй, не последнюю роль в этом «чуде» и сыграло то всеобщее молчание артистических кланов, которое сначала поставило на его месте тишину, а затем и — пустоту. Отныне и навсегда больше не стало никакого Савоярова..., так что убивать или арестовывать стало попросту — некого.
Не смею продолжать. И тем более, «не смею задерживать». Пожалуй, как никто другой именно я могу судить об этом со своей колокольни, повторив спустя восемь десятков лет основные шаги пути своего деда. — Сначала тишина..., затем пустота. Именно так: пустота, — очень точное слово. Да..., судя по всем признакам, это и есть лучшая пародия, которую оказался способным заслужить их маленький мир. Пожалуй, здесь не будет лишним повторить..., в последний раз.
- — Вóт, чтó наделали песни твои!..
- — Вóт, чтó наделали песни твои!..
— вот что наделавших песен — |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ➤ |
|
| — Антиох Кантемир, «Сатира IX. На состояние сего света. К солнцу», 1738 |
| ➤ |
«О, горе мне! беда! и зляе всех мне бед! |
| — Иван Хемницер, «Описание частной скупости», 1782 |
| ➤ |
Как быть, не знаю, с ним, ― и чувствую я то, |
| — Василий Пушкин, «Вечер», 1798 |
| ➤ |
Иные вновь чело подъемлют, |
| — Иван Пнин, «Послание к В.С.С. на новый год», 1804 |
| ➤ |
Подходит пешей Егор, берёт виноград и ест препокойно. Турок начал требовать деньги, но не умел говорить по-русски. Указывая правою рукой на ладонь левой, как будто считает, кричит: «Москев парали» (молдавские деньги). Егор, не отвечая ему, обернясь к нам: «Во́т, ваше благородие, что наделали. Кабы велели поштурмовать, так не смел бы просить за виноград». ― Один офицер говорит ему: «А кабы тебя изранили?» ― «Ну, что ж, ― отвечал Егор, ― за славу терпел бы и винограду не надобно б»... |
| — Михаил Загряжский, «Записки», 1811 |
| ➤ |
«Наделали полковники таких дел, что не приведи бог и нам никому.» — «Как?» — «А так, что уж теперь гетьман, зажаренный в медном быке, лежит в Варшаве, а полковничьи руки и головы развозят по ярмаркам на показ всему народу. Во́т что́ наделали полковники!» — Колебнулась вся толпа. Сначала на миг пронеслося по всему берегу молчание, которое устанавливается перед свирепою бурею, и потом вдруг поднялись речи, и весь заговорил берег. «Как, чтобы жиды держали на аренде христианские церкви!..» |
| — Николай Гоголь, «Тарас Бульба», 1841 |
| ➤ |
Главное в том, что тайные сношения с контрабандистами сделались явными. Статский советник хоть и сам пропал, но-таки упёк своего товарища. Чиновников взяли под суд, конфисковали, описали всё, что у них ни было, и всё это разрешилось вдруг как гром над головами их. Как после чаду опомнились они и увидели с ужасом, что́ наделали... |
| — Николай Гоголь, «Мёртвые души», 1842 |
| ➤ |
― Опять опоздал, ― э! ну, брр... прр!.. ну, пошло всё к сатане!.. Во́т что́ наделали, негодяи!.. ― присовокупил он, пожимая плечами и ударяя кулаком по коленям. ― Начался хор радимичей и вятичей; но хору суждено было претерпеть ту же неудачу...[60] |
| — Дмитрий Григорович, «Капельмейстер Сусликов», 1848 |
| ➤ |
Я получил от Тургенева письмо и в эту минуту пишу ему. У нас, Вы слышали, перемены: «Современник» отошёл от Бекетова к Лажечникову, я взял «Отечественные записки», хотел взять «Библиотеку для чтения», но Фрейганг не дал. Во́т они, что наделали, вопли прошедшего, теперь едва ли нужные и полезные кому-нибудь. Помните, я предсказывал это, когда Вы, воротясь из деревни, были у меня, предсказывал это и Николаю Алексеевичу, но он слушать не хотел. А между тем это будет мешать и Тургеневу, и другим. Как это назвать?.. |
| — Иван Гончаров, из письма А.В.Дружинину от 18 ноября 1856 |
| ➤ |
― Не вы ли оставили его там, в деревне-то?.. |
| — Дмитрий Григорович, «Переселенцы», 1856 |
| ➤ |
А там ― под покровом могилы ― |
| — Алексей Апухтин, «Утешение весны», 1859 |
| ➤ |
Может быть, многие мальчишки и не найдутся, что сказать, и может быть ― некоторые потеряют бодрость и согласятся с почтенными старцами-розгораздаятелями. Во́т что́ наделали восхваления и надежды, повсюду раздававшиеся в честь г.Пирогова со времени появления «Вопросов жизни», и мы, мы в этом сделались участниками!! Как хотите, а это очень горько!.. Потребность очистить себя от этого тяжёлого греха составляет для нас нравственную необходимость...[62] |
| — Николай Добролюбов, «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами», 1860 |
| ➤ |
Я по сеням шла, по новым шла, |
| — Алексей Толстой, «Князь Серебряный» (Глава 5. Встреча), 1861 |
| ➤ |
Помещик в свою очередь также обрадовался, что можно начать речь, не добиваясь первого слова от завернувшегося в себя крестьянина. Он быстро поднялся с своего места и, подойдя к мужику, вперил в него свои глаза и с расстановкой спросил: |
| — Николай Лесков, «Засуха», 1862 |
| ➤ |
Набежали люди, благополучно свели с моста тарантас и вывели, не входя вовсе в воду, упавшую пристяжную. |
| — Николай Лесков, «Некуда», 1864 |
| ➤ |
― Николы ли, Власа ли, всё одно; видите, всё сгорело, ну и конец... Что толкаетесь-то, разве дороги мало, ― обратился он сердито к шедшему сзади и вовсе не толкавшему его. |
| — Лев Толстой, «Война и мир» (том четвёртый), 1869 |
| ➤ |
Сдавайтесь-ка лучше! а то напрасно кунтуши свои испачкали, лазаячи по шанцам! Ведь это всё наше, да и сами вы попадете в добычу голодным татарам! Во́т что́ наделали вам: очковые, да панщины, да пересуды, да сухомельщины! Хороша вам была тогда музыка, а теперь так славно вам в дудку заиграли казаки!.. |
| — Николай Костомаров, «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Выпуск пятый: XVII столетие», 1875 |
| ➤ |
Поди вот тут ― ищи их... Ах, разбойники, разбойники!.. Вот взодрать-то бы всех до единого. Гляка-сь, что́ наделали!... Василий Фадеев не горевал: и хозяин не в убытке, и он не в накладе. Притом же хлопот да привязок от водяного за слепых избыли... |
| — Павел Мельников-Печерский, «На горах» (книга первая), 1881 |
| ➤ |
Мы вторые сутки брели лесом, без дорог, измучились, проголодались и вдруг ― что же увидели? собачьи дети преспокойно развели костёр и варят рисовую кашу. Ну, я их, разумеется, и потревожил; смял с налёта, всех перевязал и начал укорять; такие вы, сякие, говорю, пришли к нам и ещё хвалитесь просвещением, такие, мол, у вас писатели ― Бомарше, Вольтер... а сами что́ наделали у нас?.. |
| — Григорий Данилевский, «Сожжённая Москва», 1885 |
| ➤ |
— Тут? — невольно перекрестился Псищев. |
| — Василий И. Немирович-Данченко, «Цари биржи» (Каиново племя в наши дни), 1886 |
| ➤ |
― Микадо не мог не волноваться. Всё дело его жизни подвергалось испытанию. Вы только подумайте, что завопили бы поклонники старины, ― а их тогда было ещё много, ― если б китайская неудача привела нас к разгрому. «Во́т что́ наделали реформы. Оне нас ослабили. Оне погубили страну»...[63] |
| — Владимир Краевский, «В Японии. Nothing but truth», 1905 |
|
| ➤ |
Под руководством режиссёра Я.Лейна заканчиваются съёмки картины «Вот что наделали песни твои». В съёмках участвуют г-жа Т.Павлова и г-н Вавич...[65] |
| — «Раннее утро», 20 ноября 1915 |
| ➤ |
г-жа Т.П.Павлова и г-н М.И.Вавич выступили в новейшей инсценировке романса «Вот что наделали песни твои»...[66] |
| — «Раннее утро», 20 ноября 1915 |
| ➤ |
5 Февраля. Только 47, а кругом всё вымерло так, будто мне 70 лет, во́т что́ наделали война и революция. <...> Что ты спишь, мужичок?..[67] |
| — Михаил Пришвин, «Дневники», 1920 |
| ➤ |
На Монмартре светлые ночи, |
| — Анатолий Мариенгоф, «Степи, звёзды и воды...», 1924 |
| ➤ |
Императорского русского посла, |
| — Марк Тарловский, «Убийство посла», 1929 |
| ➤ |
В Америке Николай Александрович Румянцев. Тоже бросил <труппу> Художественного театра, артистическую карьеру и стал доктором. Тамара Дейкарханова, которая оставила нас и осталась с мужем в Америке; Тамиров, женившийся на дочери Никулина; Вениамин Иванович Никулин, Миша Далматов... В Америке же умер дорогой Миша Вавич. И сколько народу умерло... О скольких мы ничего не знаем...[70] |
| — Никита Балиев, из письма Юрию Ракитину, 1933 |
| ➤ |
...Простить тебя! |
| — Михаил Цетлин (Амари), «Ночное посещение», 1939 |
| ➤ |
«ВОТ ЧТО НАДЕЛАЛИ ПЕСНИ ТВОИ!» |
| — Юрий Герман, «Я отвечаю за всё», 1965 |
| ➤ |
|
| — Аркадий Мильчин, «В лаборатории редактора Лидии Чуковской», 2001 |
| ➤ |
Из опереточных артистов особенно блистали баритон Рутковский, талантливый самородок Монахов, барственный Вавич, которого природа наградила красивой внешностью, хорошим голосом ― бархатным баритоном. Как он был великолепен у качелей в оперетте «Весёлая вдова»! Да всего и не перескажешь, всего и не вспомнишь!..[74] |
| — Д.А.Засосов, В.И.Пызин. «Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов (записки очевидцев)», 1976 |
| ➤ |
— Да, это всё очень хорошо. Несомненно, — скажете вы, прочитав сие произведение человеческого разума от начала и до конца, как это и было задумано... |
| — Юр.Ханон, «Что такое музыка», 12 иуня 1993 |
| ➤ |
Как и все произведения Савоярова, романс «Вот, что наделали песни твои!» многократно исполнялся в концертах и обкатывался на слушателях. Эта пародия, не менее грубо сколоченная, чем её жестокий оригинал, имела неизменный шумный успех на публике, и именно по этой причине вошла во второй сборник сочинений. Пародийный романс «Вот, что наделали песни твои!» Савояров поначалу исполнял в дуэте со своей первой женой Ариадной Горькой – в нарочито грубой и безвкусной манере (подстать жестокому романсу), с воем, кашлем и физиологическими проявлениями, вплоть до жестокой рвоты. |
| — Юрий Ханон, «Вот, что наделали песни твои!» (примечание и справка), 2012 |
| ➤ |
Романс написан композитором Максимилианом Осеевичем Штейнбергом (1883—1946), учеником и зятем Николая Андреевича Римского-Корсакова, на слова анонимного поэта в 1903 году. Несмотря на то, что Максимилиан Штейнберг оставил по себе память прежде всего как советский академический композитор, первую свою музыкальную известность он приобрёл своими «жестокими» романсами в цыганском стиле. Его песни и романсы широко издавались и исполнялись в первое десятилетие XX века. К примеру, только в 1903-1905 годах нотное издательство «Давингоф» в серии «цыганские романсы» выпустило более десятка произведений Штейнберга самого жестокого характера. Романс «Вот что наделали песни твои!» вошёл в репертуар почти всех исполнителей романсов и цыганских песен, а его надрывный стиль, жестокие слова и, особенно, рефрен (ставший названием песни) — сделался предметом для множества перепевов и пародий (самая популярная из которых, «Вот, что наделали песни твои!» принадлежала Михаилу Савоярову).[77] |
| — Константин Николаев, «Популярные песни ХХ века в России 1906 год»,[7] 2014 |
| ➤ |
В феодосийском музее Марины и Анастасии Цветаевых 5 марта состоялся праздничный вечер «Вот, что наделали песни твои», посвящённый 130-летию со дня рождения великой оперной певицы Надежды Обуховой. Мероприятие стало составляющей частью праздничной программы в честь юбилея певицы. <...> |
| — Музей-заповедник «Киммерия М.А.Волошина», 2016 |
Ис’точники
Лит’ ература (словно из песни)
См. тако же
— Все желающие сделать замечание или дополнение, — могут вóт чтó наделать, — как с той песней...
« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »
| ||||||||||||