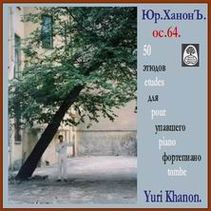Этюды для упавшего фортепиано, ос.64 (Юр.Ханон)
( это произведение исполняется на упавшем фортепиано ) [комм. 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Н
е пытаясь ни на чём, решительно ни на чём настаивать..., тем не менее, я принудил себя оставить здесь несколько рекоммендаций..., падающих рекоммендаций — исключительно для тех, кто в них нуждается или сам находится в со’стоянии падения.
Потому что..., если говорить начистоту, — к указанной категории лиц в настоящий исторический период относится не такое уж малое число физиономий (и лиц), как можно было бы подумать. Точнее говоря, к их числу принадлежит большинство современного населения. А если уж дать себе труд сказать без обиняков всё и до конца, то практически всё человеческое население земного шара, без исключений... и даже с некоторыми недостатками — свободно входит в это множество,[3] причём, оставляя по себе ещё немало свободного места, так сказать, про запас. Например, для включения неопределённого множества лиц, запоздавших по обычному своему небрежению или вялости.
Таким образом, настоящее значение этой страницы (и её первоисточника) значительно превосходит всё, что можно было бы представить себе заранее, увидев её название или имея примерное представление о предмете. Суммируя между собою полсотни этюдов в упавшем состоянии, мы нежданно обнаруживаем перед собой некую энциклопедию нравов последнего (или новейшего, как у них принято говорить) периода существования людей как совокупной общности, разделённой на бесконечное множество отдельных частиц. — Каждая из которых, замечу отдельно, находится в закреплённом статусе упавшего этюда. Не говоря уже обо всём остальном, значительно более важном, что читалось (бы) между строк.
Однако, принимая во внимание его отсутствие, хроническое и устойчивое, сочту за лучшее решительно сократить предлагаемое здесь предисловие (в сугубо дурном тоне) и перейти к обсуждению вопросов узко-конкретных и даже прикладных, в равной мере (не) представляющих массу интереса для неопределённого множества лиц, присутствующих здесь по обычному своему небрежению или вялости. Точнее говоря, по той инерции (или силе трения покоя), на основании которой и строится обычный жизненный материал человеческого существования: равно в его существенной и несущественной части.
«50 этюдов для упавшего фортепиано».
Исходя из всего сказанного выше, нетрудно сделать вывод, будто бы это — название некоего сочинения. Причём, вероятно, что это сочинение — музыкальное (хотя последнее — уже более сомнительно). И даже более того, что это — музыкальное сочинение для фортепиано. Точнее говоря, для упавшего фортепиано. — Также, глядя на эти пять слов, можно сделать предположение, что упомянутое выше (и ниже) сочинение, по всей видимости, состоит из пятидесяти частей, каждое из которых, в свою очередь, также представляет собой этюд для упавшего фортепиано под соответствующим номером. Во всяком случае, именно так можно было бы подумать, — при известных обстоятельствах...
- И верно...
Тот кто не может упасть немедленно –
делает вид, будто это случится позже...[3]
«50 этюдов для упавшего фортепиано» (ос.64) — если судить по надписи на обложке, так (или почти так) называется некое проблемное музыкальное произведение общей длительностью чуть более часа,[комм. 2] записанное на бумаге в апреле-мае 1997 года (автор: некий Юр.Ханон) и впервые исполненное спустя год, в июне 1998 года (исполнитель: так же некий Юр.Ханон), кое исполнение происходило не публично (и даже более того: сугубо кулуарным способом), хотя и было закреплено на дисковом носителе информации с аналогичным названием на обложке.[комм. 3] — Беглый осмотр нотного материала дал следующие результаты: указанные выше 50 этюдов следуют по заранее избранному порядку бес пропусков, но и бес повторений. Эти краткие произведения афористического размера (в целом колеблющиеся вокруг одной минуты звучания) располагаются на 26 страницах клавирной нотной бумаги.[4] Причём, первый и последний этюды (№1 и 50 соответственно) занимают полностью первую и последнюю страницы рукописи, а остальные 48 этюдов, согласно замыслу творца, размещены по четыре штуки на разворотах нотных листов каллиграфически мелким почерком, строго расположенные по спирали квинтово-квартового тонального круга, известного со времён Пифагора и «мусикийской грамматики» одного из его слабейших учеников.[5] Впрочем, у тонального принципа упавших этюдов имеется некая дурно скрываемая (уникальная) деталь, которая встречается исключительно только в этом произведении — и нигде больше.
|
- Однако об этом — чуть ниже.
- А также — значительно ниже.
- Однако об этом — чуть ниже.
И пожалуй, последнее, что бросается в глаза при рассмотрении рукописи — это полная индифферентность автора сего сочинения, не вступающего в диалог с исполнителем или слушателем и, как следствие, не дающего никаких пояснений: будь то общая концепция произведения или конкретные детали его трактовки. Особенность весьма досадная, если учесть, что «50 этюдов для упавшего фортепиано» носят на своей поверхности все признаки некоей слабо замаскированной, однако, весьма неясной системы, не заметить которую практически невозможно — даже при рассеянном взгляде издалека.[комм. 4] И тем не менее, выраженная только в нотах, идейная схема (равно как и соответствующая ей конструкция целого) представляется весьма расплывчатой и смутной. Точно так же не удаётся найти на клавирных страницах каких-то заметок, пометок или примечаний, раскрывающих суть замысла в целом. Пожалуй, единственное исключение из этого правила обнаруживает себя сразу же, на первой странице (в нижней части листа, после этюда №1).[4] В кратком примечании (написанным сухим тоном) разъясняется значение двух условных обозначений, регулярно встречающихся на пяти линейках наряду с обычной нотацией. Два этих знака в графическом написании похожи на ноты, однако таковыми — очевидно — не являются.[комм. 5] Все пятьдесят этюдов написаны на традиционном нотном стане (в два нотоносца) со скрипичным и басовым ключами, а также с регулярными тактовыми чертами. Однако, рукопись не лишена и некоторой доли бестактности. Например: несмотря на неуклонное (и вполне традиционное) следование по полному кварто-квинтовому кругу тональностей, ни в одном этюде нет постоянных (ключевых) знаков, а такты — не обращая ни малейшего внимания на собственное содержимое, включают в себя произвольное число долей (постоянное или переменное), согласуясь только с фразировкой каждого конкретного произведения. Соответственно, и ожидаемый размер в начале ни одного из этюдов не поставлен. Только — жёсткое указание метронома и односложное обозначение характера исполнения пьесы.[комм. 6] По всей видимости, автор манкирует или даже брезгует диалогом со своим читателем, почитателем или исполнителем (по известным только ему причинам), заранее объявляя любое превозмогающее общение — строго ограниченным рамками жанра.
- Причём, дважды и даже трижды. С неуклонной настойчивостью.
- Последнюю особенность придётся отметить отдельным образом.
- Причём, дважды и даже трижды. С неуклонной настойчивостью.
Какой смысл пытливо и упорно искать правду,
если она и так валяется на поверхности!..[7]
— Автор не ограничивает себя, казалось бы, исчерпывающим названием произведения, внутри которого совмещены едва ли не все его главные особенности: количество (50), жанр (этюд), условия исполнения (упавшего) и инструментарий (фортепиано). И тем не менее, этого ему кажется «маловато». Уже на титульном листе, а затем и на первой странице он повторяет и уточняет в подзаголовке одну и ту же мантру: «это произведение исполняется на упавшем фортепиано», — так, словно бы заранее считает одного замечания недостаточным. Чуть ниже значится тот же джентльменский набор, но — во франко-нормандской редакции (pour m-r Erik): «50 études pour piano tombé» (cet œuvre se tient sur piano tombé). И наконец, после всего,[8] на 26 странице, когда закончен не только пятидесятый этюд, но и весь цикл в целом, следует — ещё раз, с педантичностью, достойной лучшего применения — то же самое замечание, состоящее (словно пароль и ответ, пропоста и риспоста) из двух частей. «Это произведение исполняется на упавшем фортепиано».[4] — Автор этюдов словно бы не сомневается, что его распоряжение будет проигнорировано, а потому ставит своей целью переложить ответственность на исполнителя. И в самом деле, некое непременное условие, повторённое один, два, три, пять и более раз уже не может остаться «незамеченным» или «позабытым». Пианисту оставлена единственная и последняя возможность: в открытую нарушить (или, как минимум, проигнорировать) условие автора, противопоставив его воле — своё личное упрямство или нежелание играть по предложенным правилам, сколь бы абсурдными или неудобными они ни были...
- Позиция, как минимум — прямая и честная.
- А как максимум — идиотская: на границе хорошего тона...
- Позиция, как минимум — прямая и честная.
Таковы, в первом приближении, беглые мысли при взгляде на позеленевшую обложку и три десятка страниц клавира, внутри которого плотно располагаются «50 этюдов для упавшего фортепиано», взятые как некое умозрительное целое. Вместе с тем, одно только их заглавие (в пять слов) отличается столь завидным объёмом и ёмкостью, что было бы неправильным не остановиться на нём дополнительно — хотя бы и в качестве дидактического дополнения. Особенно если учесть, что кроме заголовка — в данном случае — останавливаться более не на чем. Как уже было сказано выше (и ниже), на момент публикации упавшего эссе (начало 2019 года) ни один из пяти десятков этюдов не претерпел публичного исполнения, а их студийная запись — вот уже два десятка лет — находится в герметическом хранении у единственного автора & исполнителя. Имя его в данном случае не имеет никакого значения, поскольку здесь и ниже будут рассматриваться вещи и явления значительно более крупного порядка.
- Или (как вариант) — полного отсутствия оного.
 Упавшее эссе
Упавшее эссе 
( или попытка немного приподняться )
Попробуем кое-как подвести черту под сказанным выше... Повторённый в первом издании клавира пять, шесть и даже семь раз (в отсутствие каких-то других вразумительных слов от автора), верхний заголовок пятидесяти этюдов даже и поневоле приобретает вид некоей устойчивой формулы, внутри которой (якобы) содержится ценная информация, нуждающаяся в дополнительной дешифровке.[9] Сознательно не уточняя внутренней природы этой формулы, тем не менее, мы можем предположить, что именно в ней (внутри и на поверхности) содержится некий ключ к прочтению этого произведения, носящего столь длинный и неочевидный заголовок: «50 этюдов для упавшего фортепиано». Собственно, исходя из этого предположения я и оставляю ниже своё «падающее эссе» или, если угодно, ещё один этюд №51, всецело основанный на предыдущих пятидесяти.
- И даже, без преувеличения, опирающийся на них...
|
50.
Это круглое число, с апломбом поставленное в заголовке первым номером, казалось, уже не требовало бы за собой каких-то дополнительных разъяснений. — Подумаешь, эка невидаль: ещё полсотни этюдов с неба свалилось..., и о чём же тут ещё можно разговаривать: по существу или хотя бы по форме вопроса? — Ну да, в точности всё так, ровно пятьдесят. Не первые и не последние, — и можно припомнить, что на этот счёт даже имеется хрестоматийный пример... Вполне школьный и навязший, так сказать, между пальцев. Если не ошибаюсь, даже у какого-то комозитора Черни, с давних пор входящего в обязательную программу среднего музыкального образования, имеется объёмистое сочинение (между прочим, oр.740) под сходным названием: «50 этюдов для фортепиано», иногда — с соответствующей случаю рекламной прибавкой: «искусство беглости пальцев».[11] Именно «беглости»..., это я подчёркиваю особо.[комм. 7] Конечно, в нём нет даже и речи о каких-то «упавших» (типичный знак пост’модерна) или хотя бы «падающих», но зато в полной мере присутствует всё остальное, необходимое для всестороннего упражнения и развития пианистической резвости. В отличие от о(б)суждаемого здесь сборника ос.64, налицо — несомненная серьёзность и даже (скажем громко) позитивизм автора. Не говоря уже о характерной для большинства приматов тяге к круглым (ровным, кратным) числам. Скажем, десятью годами раньше тот же копоситор Черни опубликовал в Вене сборник «40 маленьких этюдов», между прочим, принятых к печати господином Диабелли, что показательно.[12] Правда, автор «Пятидесяти этюдов для упавшего фортепиано» отрицал (не только на словах, но и посредством всей своей биографией), что «сборник этой черни» выступил в качестве отправной точки или хотя бы побудительного фактора для появления его (без...ответной) реплики. И тем не менее, остаётся вопрос: отчего именно пятьдесят. Причём, особую значимость этот вопрос приобретает в связке с объявленным следованием этюдов по кварто-квинтовому кругу.
— А ведь мы помним, что в нём — примерно ~ 24 тональности.[комм. 8]
Принимая во внимание последний аспект, перед мысленным взором выстраивается уже совсем другой гомологический ряд предшественников, главным из которых будет, вероятно, «хорошо темперированный клавир» и другие, подобные ему сборники пьес полного квинтового круга. Тем более, что автор упавших этюдов уже не раз засветился на этом поприще, выставив, как минимум, две кинические альтернативы: «Средний темперированный клавир» и «24 упражнения по слабости». Причём, оба упомянутых цикла (как следует хотя бы из названий) отличались ярко выраженным экспериментальным (и даже ревизионистским) характером. К примеру, в первом из них число прелюдий и фуг значительно превосходило ожидаемые 24 (не говоря уже о какой-то особой, «средней» темперации), а второй хотя и состоял, по примеру ХТК, из 24-х пар пьес, но первоначальное место фуг в нём занимали какие-то подозрительные «камни». Аналогичным образом, очередной ревизии следовало бы ожидать и от пятидесяти упавших этюдов.
— Прежде всего, обсуждая их странное число: 50...
– Только тогда до меня и дошла его угроза: «я подстрою ему гнусную шуточку». Да..., это и в самом деле была крайне гнусная шуточка, потому что винтовка была заряжена, а я-то об этом – не знал! И вот, чтобы как следует отомстить мне, Буше..., нет, он не убил меня сам, а сделал убийцу – из меня. Как вам известно, он получил пулю точно между глаз. Плотно прислонившись спиной к стене, он не упал сразу, а медленно сползал на пол. И вот тогда его лицо снова приняло выражение запредельной злобы, которое меня потрясло в тот день, когда я его встретил в строю арестантов. Две тонкие струйки крови потекли у него по обеим сторонам от носа. Это было ужасно...[3]
И в самом деле, если не углубляться в сложные материи, ограничив себя примитивной школьной математикой (или допотопной бухгалтерией), самый чёткий путь к собственной внутренней структуре даёт сам по себе клавир или авторская рукопись «пятидесяти упавших этюдов», о которой уже была речь. А потому позволю себе кратко напомнить единожды сказанное выше: «эти произведения афористического размера располагаются на 26 страницах клавирной нотной бумаги. Причём, первый и последний этюды (№1 и 50 соответственно) занимают первую и последнюю страницы рукописи, а остальные 48 этюдов размещены по четыре штуки на разворотах нотных листов каллиграфически мелким почерком, строго расположенные по спирали квинтово-квартового тонального круга, известного со времён Пифагора»... Итак, между слов простого описания обнаруживает себя исчерпывающая информация об искомом числе 50. Прежде всего, оно состоит из значительно более понятной формулы «48 + 2», где первый и последний этюды представляют собой, вероятно, некое подобие вступления и завершения, иначе говоря, эпиграфа и эпилога к циклу, а остальные «48 = 24 х 2», где каждому тону (или ноте квинтового круга) посвящён один лист рукописи (или два расположенных на нём этюда). Таким образом, открывая вторую страницу клавира можно быть уверенным, что на ней окажутся два этюда в мажорном «тоне До», а напротив них на том же развороте удобно располагаются ещё два противуположных этюда в минорном «тоне ля».
— Собственно, так оно и есть, с одною только деталью...
Верный идеологическому принципу тотальной лжи, обмана и провокации,[13] Юрий Ханон, действуя со всей необходимой обстоятельностью и серьёзностью, «радикально обновляет» традиционный список тональностей, удваивая его неким механическим образом (откуда, собственно, и берётся искомое число «48 = 24 х 2»). Как результат, на каждой мажорной странице излагается не один, а два этюда в одном тоне, первый из которых посвящён традиционному мажору, а второй — некоему специальному «супер-мажору» (с увеличенным трезвучием в качестве тонической опоры). В точности таким же образом дело обстоит и с противоположным листом нотного разворота. Каждая минорная страница открывается первым этюдом в тональности обычного минора, а завершается, соответственно — в особом «супер-миноре» (с уменьшенным трезвучием в качестве тоники). Видимо, чтобы не оставлять ни малейшей недосказанности, каждый этюд, кроме порядкового номера, несёт в своём заглавии формализованное обозначение тональности. В итоге, первый лист разворота выглядит более чем красно’речивым образом. Не удержусь от искушения представить здесь полную выписку из ведомости:
2. Этюд №2. Etude №2. C-dur.
3. Этюд №3. Etude №3. C-dir.
4. Этюд №4. Etude №4. a-moll.
5. Этюд №5. Etude №5. a-mall.
Как видно, ларчик просто открывался, а число «50» (противу его математического значения) оказалось более чем «простым» (удвоением). Представленный выше способ «обновить» кварто-квинтовый круг тональностей производит впечатление равно претенциозное и нелепое, заранее воскрешая в памяти «авангардные» опыты множества провинциальных авторов-графоманов, наподобие печально известного американского бухгалтера Айвза или переписчика нот Эрнеста Фанелли,[14] не говоря уже о курьёзных опытах Эдгара Вареза, Джонни Кейджа или Самуила Кольта.[15] Подобное, с позволения сказать, новаторство отдалённым образом напоминает странную попытку автора, идущего по коридору консерватории, ломиться в 24 открытые двери подряд. — И пожалуй, достойным завершением арифметического опыта стали упомянутые выше два «лишних этюда» (первый и последний), позволившие автору достигнуть искомого числа 50 (48 + 2). Без лишней скромности, это обрамление «упавшего бриллианта» можно было бы назвать «триумфальной аркой», в полной мере достойной своего содержимого. Самые продолжительные (оба около двух минут длительностью), эпиграф и эпилог выдержаны в странном..., даже причудливом настроении: одновременно гимническом и методическом по духу. Нужно сразу сказать, что это, на первый взгляд, странное сочетание вполне соответствует всему циклу упавших этюдов в целом. Но более всего поражает, конечно же, самая музыка вступительного и заключительного номеров. Начинаясь и заканчиваясь в обычном до-мажоре, оба обрамляющих этюда выдержаны в аккордовой фактуре и представляют собой... последовательное перечисление всех «тональностей» (равно традиционных и новаторских), в которых написаны находящиеся меж ними «48 этюдов для упавшего фортепиано». Точнее говоря, увертюра и финал по структуре своей музыкальной ткани — есть не что иное как... непрерывный модуляционный план в 48 аккордов. Соответственно, каждый из них имеет своё небольшое обрамление: вступление и коду, представляющие собой весьма настойчивый до-мажорный аккорд или (как следует понимать из авторской версии) главную тонику всего тонального круга.
Вот и всё, вкратце, что можно было (вы)сказать по поводу слова «50»...
|
Этюдов.
И это слово, на первый взгляд, обозначающее всего лишь жанр, широко распространённый и потому привычный для музыкантов и художников, — как оказалось, тоже требовало (бы) весьма обстоятельных корректив и разъяснений, едва попав в действующий контекст «упавшего фортепиано». Несмотря на то, что со времён пирровой победы европейского романтизма сборники этюдов стали вполне традиционным украшением пюпитров, столов и полок нотных магазинов, — всё же и здесь автор не удержался добавить в стандартное определение жанра нечто особенное. Но для начала припомним: каково же оно, это «стандартное определение». Само собой, и здесь мы столкнёмся с очередным «расщеплением». — Как и во всём прочем, XIX век по своим итогам сформировал два едва ли не противоположных образа и подобия слова «этюд».[17] С одной стороны, это было изначальное школьное значение слова, употреблённое в прямом смысле. Французское étude, штудия означало «изучение» или (понимая термин шире) «упражнение, исполнение задания». Проще говоря, термин технический и имеющий отношение скорее к процессу обучения, чем к результату творчества. Именно в таком смысле его и применяли многочисленные зануды-методисты в лице нескончаемой шеренги черни, клементи, тальберга, таузига, крамера, мошелеса, лешгорна, лемуана, мошковского...[18] — Впрочем, даже этим школьным менторам время от времени случалось срываться почти в музыку, почти живую. Разумеется, прямо противным образом дело обстояло с господами Шуманом и Листом, которые любое методическое пособие готовы были разорвать в клочья силою своего аффективного «порыва». Их достойное начинание по превращению этюда в предмет искусства со всем возможным изяществом завершил Фридрих Шопен, не говоря уже о Шуре Скрябине и паре Серёж, начиная от Ляпунова и тут же кончая Рахманиновым...
— Но где же мой этюдник? Кажется, я позабыл его вечером в кафе...[19]
Впрочем, оставим пустые раз’суждения и не будем размазывать известную субстанцию по известному древу.[20] Дело идёт о том, что и в данном вопросе «50 этюдов для упавшего фортепиано» представляют собой некий третий путь (нечто вроде биссектрисы), равно избегая как попадания в менторский список школьника, так и срыва в артистическое вдохновение. Называясь на своей обложке и в каждой странице «этюдами», эти музыкальные элементы в равной степени не соответствуют ни школьному, ни романтическому определению жанра. А если говорить ещё точнее, то они представляют собой очередной образец совершенно иной традиции музыки, представленной в наследии этого автора, прежде всего — Средней Симфонией и её многочисленными призраками. И в первую очередь, музыка эта несёт в себе — жёстко очерченный идеологический заряд. Исходя из этого (и только этого) смысла, 50 этюдов и в самом деле можно назвать методическими и «даже» более того — упражнениями в узком смысле слова (étude, как было сказано немного выше). Сформированные, исходя из особой канонической задачи,[комм. 9] они слеплены и скроены, прежде всего, по признаку внутреннего соответствия, где каждый номер представляет собой отдельное «техническое задание» по работе с накопленными за предыдущие века трафаретами, клише, стандартами и жупелами современной культурной цивилизации.[комм. 10] Таким образом, изначальный смысл слова «этюд» — здесь, в условиях упавшего инструмента — не только сохранён, но и значительно усилен, благодаря возвращению максимально широкого значения: начиная от психологии и кончая прикладным курсом обучения. По меньшей мере, глупо было бы отрицать тот медицинский факт, что само по себе слово «этюды» для ученика, отбывшего в музыкальной школе при консерватории одиннадцать лет жестокой повинности, несло (и может быть, до сих пор несёт) в себе немалую порцию негатива, сжатого в полсотни жёстких афоризмов. «Воспоминания задним числом» о том, что пришлось пережить.[8] Пожалуй, здесь заключается главная живость и дидактичность этого цикла, в остальном статического и оледенелого в своём намерении ещё раз обнажить красоту всеобщего безобразия. — Не смягчая углов, «50 этюдов для упавшего фортепиано» вполне пригодны для включения в обязательную программу фортепианного и композиторского факультетов консерватории, но только с одним уточнением. Они должны быть утверждены не в качестве предмета для развития фортепианного мастерства или истории музыки, но в форме — одного из специальных заданий на кафедре философии или эстетики.
— К несчастью, он был почти новым, я ещё не успел использовать его как следует...[19]
Словно решившись, резким движением Цезарина (впервые в жизни) расстегнула корсет, приподняла блузку, и там, под её левой грудью (под её прекрасной левой грудью) слегка удивлённый Алкид смог увидеть рану, кровавый надрез, сделанный крест-накрест по её коже, по её невозможно нежной коже... И в ту же секунду Цезарина – упала на каменный пол замертво.
У неё ещё хватило сил чуть приподнять голову, чтобы потухшим голосом с трудом выговорить несколько слов по-английски: – Это сердце..., ты только что..., ты... съел... моё сердце, Алкид! [3]
Пожалуй, ради лучшего понимания природы и назначения пятидесяти упавших этюдов, проще и точнее всего было бы обратиться к аналогии или метафоре (как рекомендовал Альфонс, в своё время).[7] Тем более, что это произведение отнюдь не уникально, не будем напрасно запираться или кривить душой на этот счёт. И даже более того, скажем определённо: оно глубоко вторично и представляет собой очевидный дубликат: пастиш или подделку, напрямую вытекающую из другого в точности подобного себе сочинения, написанного (тем же автором, к сожалению) — всего годом ранее. Причём, автор отдавал себе полный отчёт в смысле своих действий — не только после, но также во время и даже — до сочинения пятидесяти упавших этюдов, причём, в самых определённых выражениях.[1] Нужно ли напоминать ещё раз, что с момента своего зарождения оба этих сочинения носили сугубо прикладной характер и были написаны по глубоко конкретному поводу.[13] Разумеется, я говорю сейчас о предыдущем (во всех смыслах) фортепианном цикле «24 упражнения по Слабости» (ос.62). Поставленные шеренгой затылок в затылок, упражнения и этюды соотносятся друг с другом как причина и следствие..., матрица и оттиск. А если ещё точнее, то как исходный чертёж и — цветной рисунок, сделанный поверх него. Да..., именно так. Большое спасибо. Потому что сказать точнее — уже невозможно. Разумеется, сказанное актуально на всех уровнях понимания и существования обоих..., — прошу прощения, обоих этих предметов. И даже сáмое слово, прямо называющее их суть и сердцевину, по существу, совпадает. «Упражнения» (по слабости) здесь практически равны «этюдам» (для упавшего), с одною только разницей, что первые (из них) посвящены всесторонней отработке, проработке и переработке всех стадий процесса погружения в проникающую тотальную Слабость (об этом я сейчас не стану распространяться подробнее, поскольку в соответствующем эссе об этом и так сказано более чем достаточно), а вторые — всего лишь топчутся на одном из этажей достигнутого ими результата. Примерно в том же ряду располагается, к слову, и Орден Слабости, — не более чем наградная виньетка на поверхности одного из упражнений...
— Ах, мой бедный, бедный этюдник, — наверное, теперь его подберёт кто-то другой. [19]
Фактически, длинный синоним, развёрнутая метафора или программная тавтология вдолгую — вóт чтó на деле представляют собой два этих круговых цикла, взятых вместе. — Оба по кварто-квинтовой спирали: всё ниже и ниже. Шаг за шагом. Ступень за ступенью. «24 упражнения» — само это сочетание слов полностью включает в себя смысл последовавших за ним: «50 этюдов». И число, и понятие, и следующее за ним (без)действие: всё это находится в точном клоновом, клановом и клоунном соответствии. — Не погнушаюсь напомнить ещё раз... Этюд, étude, штудия, «изучение» или «упражнение, исполнение задания». Таким образом, вывод напрашивается сам собой: «50 этюдов для упавшего фортепиано» представляют собой не только тавтологическую копию, но и следующую за ней (производную) стадию, своеобразный итог «24 упражнений по Слабости». И пожалуй, теперь только преждевременность второго пункта моего эссе, посвящённого только слову «этюды» мешает мне тут же и обнародовать окончательную формулу на счёт внутренней природы двух этих ново’образований. — Кто имеет голову, да услышит звук...
— Как жаль..., скорее всего, теперь он достанется какому-то дремучему кретину...
|
Для.
Это короткое слово, казалось (бы), уже и не требовало никаких пояснений. В конце концов, чтó оно собой здесь представляет?.. — Предлог, всего лишь предлог, малый скромный предлог, занимающий своё тихое место точно посередине промеж остальных... только ради того, чтобы связать полсотни искомых этюдов со своим низким исполнителем или, на худой конец, его — упавшим — предметом. А потому я и воспользуюсь сейчас этим кстати подвернувшимся предлогом, чтобы уточнить чрез него ещё кое-какие тонкие вещи, имеющие *(согласно старой как мир людской традиции) весьма толстую начинку — на другом конце палки (как говорил старик-Мальтус).[22] — Но прежде всего, мне придётся начать с того, что не нужно бы в очередной раз досадно ошибаться, отмахиваясь левой рукой от назойливой мухи. Потому что... (на самом деле) она далеко не так проста, эта маленькая компактная «для», ловко вкрученная между полусотней этюдов и их (давно) упавшим инструментом..., точнее говоря, орудием исполнения.[13] И прежде всего, в ней содержится немалая доза лукавства и — не побоюсь сказать — тавтологии, верной спутницы всякого умысла и смысла... — Примерно таким же способом, как в первоисточнике (матрице) пятидесяти этюдов точно на том же месте поставлен свой жёсткий предлог-ловушка: «24 Упражнения по слабости», уводящий возможное понимание заголовка сразу в две (почти противуположные) стороны, — точно так же и «50 этюдов для упавшего фортепиано» служат незаметным поводом для тонкой спекуляции..., пусковой крючок которой, впрочем, срабатывает только для тех, кто её — имеет. И даже более того: носит при себе (в портативной форме, разумеется).[15]
— Собственно, только ради него я и начал весь этот разговор: в пустоте, как всегда.
Итак, я закончу фразу сразу, с вашего позволения (предварительно оставив в скобках только компактное пустое место для недоверия). — Поставленная ровно посередине заголовка, маленькая провокация-ДЛЯ, с виду вполне обычная, привычная и ожидаемая, — на деле она заключает в себе необходимую порцию сомнения: ровно в тех пределах, в которых несёт её всякий предлог, поставленный с (тайной) целью стать ещё одним предлогом для очередной провокации.[13] И тем сильнее её действие, чем мельче и незаметнее она втирается в черепную коробочку, эта «для», типичная микро’частица. Нана’пыль.[23] Нейтрон без кожуры и оболочки... Чтó он есть, чтó его нет..., кроме как с мелкоскопом и не обнаружишь,[24] брат-Горацио. И вот что мы видим, приблизив глаз к его прохладному окуляру... «Для» — неизменяемый предлог, употребляемый с родительным падежом и чаще всего описывающий цель или назначение чего-либо. В иных случаях — обозначает субъект, на который направлено действие. Излишние подробности выпускаем, поскольку именно здесь заключается практически всё, для (и ради) чего он здесь появился. Во всех своих значениях и ипостасях. И во всей полноте своей амбивалентности, — как сказал бы мой брат-Борис. Или во всей роскоши своей шизоидной природы, — как сказал бы я сам. «Для упавшего фортепиано...» — Кроме жёсткого внешнего эффекта и эпатажного действия, эта (чисто инстру’ментальная) формулировка (как я уже сказал) несёт в себе скрытый вирус, проникающий сквозь защитные оболочки помимо воли и минуя понимание. Причём, действующий как вместе, так и порознь (к тому же, в разных соотношениях и вариантах, общее число которых составляет около двух десятков).
Как говорится, и не хотелось бы, да придётся — продолжить. Also...[комм. 11]
Но увы, в конечном счёте его блестящий опыт закончился полным провалом (причём, в прямом смысле слова), поскольку спустя год бывшая селёдка сорвалась с поводка и случайно утонула, — и что за идиотское животное! — Это неприятное событие случилось в один промозглый норвежский денёк, когда, во время прогулки, поскользнувшись на деревянном мосту, она провалилась в щель между досок и упала вниз, прямо в заливное..., pardon, в местный залив Ослов, — и ещё раз pardon, — я хотел сказать, залив Осло (знаете ли, есть на свете такой городок, Осло называется).[3]
«Для упавшего...» — пожалуй, здесь (внутри слов) заключается единственный случай в контексте обсуждаемого ос.64, когда словесная формулировка содержит в себе скрытый личностный оттенок, к тому же, носящий слегка издевательский (абсурдо’подобный) характер. И в самом деле, искомые этюды (упражнения, задания, штудии)..., — как правило, они назначаются — для — кого-то (субъекта), но не для чего-то (объекта). К примеру, 12 этюдов для механического пианино, существуй таковые на самом деле, — можно было бы счесть определённого рода казусом или гримасой. Разумеется, ни одна уважающая себя пианола не нуждается в регулярных «упражнениях», чтобы сыграть любое количество этюдов (для неё вполне достаточно исправного валика со штырьками). Все учебно-методические изыски требуются только лицам одушевлённым. В данном случае, например — публике (для развлечения, почти циркового). Или хозяину фирмы, производящей фонолы (для рекламы). А для самогó «упавшего»..., прошу прощения, они ничуть не потребны, причём, как минимум — дважды: для начала и после всего. Не говоря уже об их причинном (в рамках следствия, разумеется) назначении: для чего упавшему могут потребоваться этюды (особенно, когда уже всё произошло..., ведь глагол-то имеет совершённую форму, не предполагающую никакого возврата). И тогда, ощупывая глубокими слоями бессознательного изначальное определение маргинального заголовка, постепенно начинаешь чувствовать..., — нет, даже видеть, — как почва постепенно уплывает из-под ног и всякий ещё не упавший оказывается без пресловутой опоры, позволяющей «перевернуть мир». Но какой же мир?.. — «Тот мир, которого нет», разумеется.[25] А значит, для начала переверни самого себя, человек!.. — Так, значит, вóт он, ещё один момент истины, одной очень маленькой истины — всего из трёх букв. — «Для упавшего...»
И как бы ни хотелось завершить на этой ноте, да придётся — продолжить.
«Для ... фортепиано» — и здесь, (яко бы) перечеркнув размашистой линией предыдущую маленькую истину, торжествуя во весь упавший рост, всё-таки возникает оно, громоздкое фортепиано, для (ради) кого (яко бы) и была придумана вся история с полсотней этюдов и целым часом потерянного времени. Значит, всё-таки, люди тут ни при чём. Их участие в процессе никак не входило в планы автора. Они могут нимало не беспокоиться, разучивая этюды. И даже их присутствие в процессе — не обязательно. Потому что только для него, для фортепиано, трагически упавшего (рухнувшего, падшего, унизившегося) в результате какого-то неизвестного катаклизма, был придуман этот неуместный, нелепый анекдот с какими-то «этюдами». Что и требовалось доказать. — В уравнении с тремя известными центральная краткая для сталкивает, уравновешивает и гасит, практически, «в ноль» обе величины. Потому что после него..., словно на старом рентгеновском снимке, высвечивается — полный провал, разлом и пустота. «Для чего, для кого?..» — никчёмный, трижды глупый вопрос. Потому что решительно «ни для кого» и «ни для чего» написаны эти пятьдесят этюдов, главной целью которых было осуществить и овеществить торжествующий результат предыдущих «упражнений по Слабости». Вот для кого и для чего появились они на этот свет, по гамбургскому счёту.[26] — Впрочем, кто это сказал, будто они «появились»? И где, в таком случае, они «появились», хотелось бы знать. Вот ещё один более чем сомнительный тезис, нуждающийся (после всего) в ещё одном отдельном «Для»...
— Чтобы не произносить другого слова, значительно более близкого (по содержанию)...
|
Упавшего.
Это выпрямляющее слово, точнее сказать, слегка причастное приложение в виде прилагательного, которое занимает среднее (а может быть, даже центральное?) место в заголовке и, вероятно, во всей истории с полусотней этюдов, — вне всяких сомнений, оно (единственное здесь) берёт на себя основную содержательную функцию, словно бы в попытке изобразить хорошую мину при дурной игре. Или в точности — напротив... Казалось бы: всего одно слово в заголовке. И всё же, не стоило бы сразу списывать со счёта этакую мелочь. Если чуть более внимательно взглянуть на заголовок с точки зрения номинативной статистики, то сразу станет прозрачно ясно, что кроме пресловутого «упавшего» — все остальные слова совершенно стандартны, не представляя собой ровно ничего особенного, что бы отличало этот конкретный опус от любого другого аналогичного, взятого в контексте школьной программы (не исключая даже Шопена или Скрябина).[28] Лёгкое движение рукой: и трюк сделан! Только изыми этого «упавшего» из окружающего его текста, и тут же получишь невероятный, почти рвотный трафарет: Юрий Ханон, «50 этюдов для фортепиано». Ситуация почти идеально-сюрреальная, — полагаю, весьма курьёзно было бы (хотя бы в качестве 51-го этюда) представить себе такой отдельный мир, в котором этот автор оказался бы всерьёз способен поставить свою подпись под этаким вопиющим музыкально-педагогическим штампом в виде нормативного, трижды жёваного заголовка. Ничуть не боясь повториться, могу только в очередной раз подтвердить очевидное с точки зрения поверхности или фасадной функции заголовка: «упавшее» фортепиано несёт на себе основную внешнюю (отчасти, общительную и сообщительную) нагрузку пятидесяти этюдов. Прежде всего, это — витрина, ударный эффект и, отчасти, некий эксцентрический эпатаж, который сразу вызывает интерес и создаёт впечатление чего-то особенного или, по крайней мере, нестандартного. Имея в виду психологию приматов, которые единственно и могут составлять аудиторию этого сочинения (хотя бы гипотетически), «упавшее фортепиано» с первого произнесения оказывает ярко-тонизирующий эффект — воздействуя в области любопытства и желаний (вполне будничных) расширить зону развлечения. Не забывая про рекламные свойства названия, тем не менее, автор вполне отдавал себе отчёт в настоящей (базарной) цене: не более, чем ещё одна фирменная провокация, отправляющая публику по ложному пути — или ещё дальше (в лес).[29] А потому и мы сейчас не станем задерживаться на слишком очевидных деталях, имеющих отношение к фасаду или, говоря иначе, министерству внешних сношений.
— У них и без нас достаточно возможностей для указанного способа сношения...
А потому, словно бы не заметив красной строки, я попросту продолжу: для или ради какого случая автор сочинил свои тусклые штудии, якобы исполняемые на инструменте, находящемся в столь неприглядном со’стоянии, — униженном, практически, до уровня пола. И прежде всего, я буду вынужден ещё раз напомнить о той сиамской близости, которая породила два часовых цикла неуклонно увядающих экзерсисов, постепенно опускающихся вниз (а не вверх, как казалось бы)..., всё ниже и ниже по кварто-квинтовой спирали (а не по хроматической гамме, как казалось бы...) баховского темперированного клавира. Рассматривая без пристрастия «24 упражнения по Слабости», будет очень трудно игнорировать факт практически пословного последования этюдов по проторенной годом ранее тропе (шаг в шаг, словно по глубокому снегу). И тогда станет криминально заметно, что в предложенной парадигме этого отдельного мира «24» неизбежно равняется «50», следующие за ними «упражнения» мутируют в «этюды», двусмысленное «по» превращается в лукавое «для», а результатом заботливо взрощенной «Слабости» (с Большой Буквы) становится нечто «упавшее» в пыль и грязь (причём, с маленькой). — Собственно, лишний раз повторив эту известную максиму, я не собирался достичь ничего иного, как только — лишний раз ткнуть пальцем в причинное место, как всегда, прикрытое трусливо поджатым хвостом... — Итак, всё случилось. И нам осталось только констатировать факт(ы)... Фортепиано упало. Искомая Слабость достигнута (в одной из доступных форм). — Что же дальше? А дальше, как видно, началось продолжение того же самого, но только на другом уровне кварто-квинтовой спирали (как это и полагается во всех диалектических процессах). К примеру: на октаву или этажом ниже (возможно, в полуподвальном помещении). Или — на подгибающихся от слабости ногах. Или, наконец, на спущенных струнах со сломанными молоточками. Или, наконец, на упавшем фортепиано..., для которого (и до которого) унизилась Вселенская Слабость. — Словно опущение из мира абстракций, плавно, как на скоростном лифте — прямо туда, во ад нижнего мира, где витают бессильные и слабоумные призраки пошлого прошлого и настырного настоящего.
— Пожалуй, здесь самое время прерваться, чтобы не слишком упасть духом...
– Только ударом левой ноги надлежит открывать дверь в кабинет Его Величества. Только собачьим кнутом следует беседовать с благородной дамой. Нет на свете лучшей рифмы для прекрасного поэта, чем звонкий удар арапником..., по его холёной спине. – И пускай тогда они падают на пол вниз лицом и в восторге рыдают от собственной безнадёжности, эти маленькие обыкновенные люди, обезьяны своего маленького обыкновенного Гóспода... – Да, вóт чтó я припомнил нынче вечером после короткой и словно неспешной прогулки по собственной голове, слегка заложив руки за спину... Не так давно — там — зашло солнце...[30]
И не погнушаюсь ещё раз напомнить печальную правду: в течение всего сочинения (больше часа, полсотни штудий) автор ни разу не обращается к человеку (людям) напрямую. Причём, имея в виду человека в произвольном смысле слова. От самого конкретного, разумея любого пианиста, исполнителя, слушателя или адресата музыки (в сочинении напрочь отсутствуют даже малейшие намёки на посвящение), и кончая самым общим (например, в виде времён или нравов, как это широко принято в искусстве всех времён и нравов, — o tempora, o mores). От первого и до последнего этюда предметом диалога служат некие абстракции или химеры всемирной Слабости, природу которых понять не так просто. Пожалуй, единственным случаем внутри обсуждаемого ос.64, когда в словесной формулировке появляется хоть какой-то личностный оттенок, — и становится это странноватое слово: «упавший». И виною тому, конечно же, стереотипы обыденного восприятия. Прежде всего, этот глагол (причастие или ещё какое-нибудь безучастие) ассоциируется с лицом одушевлённым и даже более того: человеком. «Падающего да подтолкни...»[31] И в самом деле, во внутреннем антропоморфном мире людей первое и сильнейшее (на)значение всех градаций слова «падать» связано с образом и подобием самого себя, (бес)подобного и (бес)образного.[17] Павший, падшая, упавший, упадшая — всё это, как минимум, — они: свои, (не)родные, одушевлённые и причастные. Всё же остальное, привешенное к нему с обоих боков — не более чем вторичное, наносное или производное. И даже фортепиано — особенно, когда оно упавшее — всего лишь образ и подобие человека (бога). Отклонившись от начертанного курса, автор преподносит ему (сверху вниз, как ангел с облацей) пятьдесят этюдов. Странный подарок. Не костыль, не опору, чтобы подняться, не руку. Только полсотни небольших предметов неясного назначения. И в самом деле, вполне резонный вопрос: зачем они?.., — чтó есть этюды для того, кто упал? Может быть, некое специальное упражнение чтобы подняться? Или напротив, «штудии для упавшего», чтобы как-то занять его в новом положении, заставить примириться с ним... Всё это не более чем спекуляции или домыслы.
— Сам же автор никак не высказывался на этот счёт...
И даже прямые вопросы прикладного характера не вызывали у него никакого интереса. — К примеру, чего стоил бы один тот факт, что «50 этюдов для упавшего фортепиано» относятся к числу редких сочинений в ханоническом архиве, которые исполнены и даже записаны на диск. Все пятьдесят. В полном объёме. Спустя всего год после окончания опуса.[32] Между тем, нигде не указано хотя бы с минимальной степенью внятности: на каком инструменте и в каком положении автор приводил в исполнение свою странную выходку.[комм. 12] Не многим больше проясняет ответ автора Алексею Ботвинову (пианисту), первому публичному исполнителю нескольких упавших этюдов (спустя 22 года после их сочинения), в котором он ограничивается индифферентным замечанием в духе: играйте как хотите, мне всё равно. В принципе, было бы желательно исполнять на упавшем инструменте. Но если рояля жалко, как Вы говорите, оставьте его стоять как был. На сегодняшний момент это нисколько не испортит и не исправит положения дел. Тем более, не вижу ни малейшего смысла обсуждать эти вопросы всерьёз, когда речь идёт всего-навсего о каком-то концерте.[33] — Пожалуй, вот главный вывод, который можно сделать из этого скупого комментария: в представление об «упавшем» фортепиано автор вкладывал нечто несравненно большее, чем исполнительский фокус или даже некий аттракцион внешнего эффекта наподобие того, скажем, который содержался в концертном этюде Александра Скрябина для левой руки.[комм. 13] Посмеиваясь над банальной глупостью публики, автор не раз исполнял его с громадным успехом (особенно яркое он имел действие на примитивную провинциальную публику во время гастролей в США),[34] но ему даже и в голову не приходило «легализовать» это сочинение и, тем более, опубликовать под своим именем. Не ошибусь, если замечу вскользь, что в точности таково же отношение и автора пятидесяти упавших к своей причудистой штуковине, внешний вид которой столь же неочевиден, как и начинка...
— Собственно, именно такой результат и был запланирован заранее...
В противном случае, откуда бы взялась столь навязчивая параллель с «упражнениями по Слабости»? — едва ли не самым дряблым и невразумительным из фортепианных сочинений в среднем духе. — Вывод как всегда безрадостен и уныл. Ныне, по результатам проведённого экспресс-анализа представляется очевидным, что определение некоего «упавшего» в заглавии пятидесяти этюдов скрывает за своей спиной парадоксально завышенный уровень притязаний в реализации общей конструкции произведения. Особенно если учесть активно разрабатываемую автором в тот же период времени концепцию альбигойского «нижнего мира»,[комм. 14] становится прозрачно понятно, что представление об «упавшем» вплотную приближается с пресловутым «опущением духа в материю» (о котором в последние годы толковал Скрябин) или, проще говоря, с тем видимым порядком вещей, в котором сегодня существуют люди. — Для тех же, кому эта средняя мысль показалась слишком путаной или заумной, поясню на «тёмном» языке средних веков. Согласно альбигойской конструкции мира (отчего-то признанной еретической), Библия ни в чём не соврала, рассказав легенду об изгнании несущего свет ангела Люцифера (читай: Прометея) из числа лиц, приближённых к Богу, и последующем низвержении его с небес — на землю. С той поры «нижний мир» людей (также изгнанных из рая за проступки) превратился в вотчину Его Величества Изгнанника, а понятия «света и тьмы», «хорошего и дурного», «греха и святости», «добра и зла», наконец, — стали для человечества курьёзной загадкой, всякий раз подлежащей новому решению. Благодаря Хозяину мира сего, земля стала шизоидным царством господства тотальной амбивалентности или относительности, а наивысшим злом сделалась — всякая однозначность. В случае альбигойцев — это была, разумеется, церковь. Их кошмарная судьба с (кровавым) блеском доказала их доктрину... — Фридрих Ницше спустя пять сотен лет своими «пятьюдесятью этюдами» фактически вернул альбигойцев с небес на землю.[35] Бетховен, Паганини, Шуман, Лист, Берлиоз..., и как венец всего, мсье Александр Скрябин с его (для начала) «Сатанической поэмой» (и также Божественной, вестимо), «Прометеем», «Чёрной мессой», «Тёмным пламенем» и далее через Предварительное Действо и уходящую Мистерию, наконец, совершил исторический реванш. Его руками мир вернул себе утраченную альбигойскую амбивалентность. — В ряду перечисленных событий, несомненно, находятся и упавшие (вслед за их велiким хозяином) этюды. Не претендуя на громкие или вселенские задачи, эти пятьдесят упражнений для упавшего духа всего лишь вкратце воспроизводят в изменённой (спокойной, покойной и у’покойной) форме тот предыдущий мир, который последует вскоре изжить в процессе Agonia Dei и непосредственно вытекающей из неё Карманной Мистерии. — Итак, повторим напоследок основную формулу: прощание с уходящим миром.
— Именно так, в двух словах, и следовало бы понимать: чтó есть упавшие этюды...
|
Фортепиано.
Это последнее слово, прошу прощения, здесь уже слишком явно выглядит лишним (пускай даже и поданное в форме лёгкой интермедии после конца света, внезапно «упавшего» с небес на голову читателя)... — При любом возможном взгляде на процесс или предмет, оно требовало бы ещё меньше разъяснений, чем даже предыдущие «этюды» или «для». Казалось бы: ну и о чём тут ещё можно сказать? Ведь это всего лишь — название, общепринятое, почти банальное название известного инструмента, и всё-то в нём яснее ясного, тем более, что инструмент этот — сугубо музыкальный, вдобавок, всем известный, едва ли не самый распространённый в последние две сотни лет и заметный среди прочих. Можно сказать: один из инструментов уходящего мира и умирающей культуры. Практически, чёрный ящик. Кроме того, названный здесь самым общим и нейтральным своим именем («громко-тихо»), не несущим в себе ни малейшего указания на какую-либо конкретную форму или воплощение. Потому что словом «фортепиано», говоря о музыке, обыкновенно называют не физический предмет, а некую абстрактную категорию, включающую в себя все прочие его ипостаси и способы существования, как то: любые рояли (концертные, учебные или кабинетные), а также пианино и другие производные препараты. Но как раз здесь, видимо, и скрывается причина выбора автором именно этого определения как максимально уклончивого и нейтрального. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из небольшого философского диалога (выдержанного вполне в платоновских традициях), записанного на страницах «Мусорной книги» в начале мая 1997 года, тó есть, ещё во время работы над клавиром пятидесяти упавших этюдов.[37] — Так или иначе, выбор этого названия инструмента был не случаен (точнее говоря, совершенно сознателен) и сделан в прямой связи с приставленным к нему определением: «упавший». Как видно, целью автора было максимально избежать конкретности в названии. Сохраняя жёсткий и эпатажный характер, упавшее фортепиано, тем не менее, проходит по узкому лезвию между зримыми образами и карикатурными картинками, сохраняя внутреннее подобие абстракции. В отличие, скажем, от упавшего рояля или пианино, вполне конкретных предметов со своим закреплённым изображением, — фортепиано сохраняет за собой оттенок «инкогнито» или способности «упасть вообще», а не конкретно. Разумеется, даже с таким инструментом не удастся (точнее сказать: уже не удалось) избежать вопроса о конкретном способе концертного исполнения этюдов на упавшем инструменте. И тем не менее, автор с самого начала словно бы ставит между собой и исполнителем преграду, некое обобщённое «алиби», заявляя о своей непричастности к тем трюкам или выходкам, которые могут (и должны!) сопровождать этот цикл на сцене. И здесь — ещё один артефакт безличности и индифферентности искомых пятидесяти этюдов по (и после) Слабости.
— И снова повторю: может, и хотелось бы здесь закончить, да, видно, не удастся.
С другой стороны, и сам по себе выбор названного инструмента — никак не может показаться случайным. И здесь, преодолевая банальность собственных слов, мне придётся напомнить элементарную истину: чтó есть фортепиано между прочих музыкальных инструментов. Представляя собой, пожалуй, самое объёмное и универсальное средство, некое подобие целого оркестра в две руки, рояль (или даже пианино) предлагает (равно автору и публике), пожалуй, лучшее сочетание «цены и качества», инструмента и материала. С одной стороны, будучи глубоко камерным (комнатным или даже карманным) средством с одним исполнителем, фортепиано не требует пороговых усилий ни на одном из этапов реализации замысла. С другой стороны, результат его работы, начиная от двухсот с лишним лет прошлой истории и кончая мгновенным звучанием, вполне вмещает в себя «целый мир» (или отдельную малую культуру, по крайней мере). Именно эта двойственность задач (или шизоидность плана, как уже было сказано выше) автоматически повлекла за собой и выбор инструмента, такого же двойственного по своим возможностям и природе. — Начиная с ос.60 начался обратный отсчёт полутора десятков последних сочинений, так или иначе, ведущих к завершающему провалу Карманной Мистерии.[комм. 15] Задача пятидесяти этюдов (по слабости), как уже было показано в предыдущей главе, была известна заранее и вполне. Принимаясь за камерную (предельно спокойную и выдержанную в пастельных тонах) версию краткой выдержки (или «цитатника», если угодно) из хроник «упавшего мира», автор выбрал в качестве носителя звука главный или опорный инструмент из арсенала академической музыки, сочетающий внутри себя сразу оба необходимых в данном случае качества, видимо противоположных, но отнюдь не исключающих друг друга: локальность и охват, компактность и крупность. Суммируя прошедшие два с половиной века уходящей культуры, фортепиано принесло на своём хвосте все отголоски золотого наследия классицизма и романтизма с серебряной добавкой последующих ста лет неуклонно мельчающего модерна.
— И всё это загустевшей массой выливается из-под крышки упавшего инструмента...
...В те редчайшие мгновения, когда сквозь искусственные преграды волевой мысли прорывалась наружу его настоящая природа, – звуки, следующие за ней, не имели равных по своему почти физиологическому ужасу и предвечной тоске всего живого и живущего, всякую минуту пребывающего на границе существования, всего в одном волоске от смерти. Так посреди ночи где-то совсем рядом внезапно раздаётся надрывный вой одинокого волка, внезапно забывшего об опасности перед падающим на него чёрным сводом неба. – Никто ранее не подходил к этой острой черте, отделяющей живое от неживого, отделяющей последнее прерывистое дыхание agonia от первого оледеневшего покоя tanatos...[30]
Вне связи со своими главными целями и задачами, «50 этюдов для упавшего фортепиано» имеют ещё одно весьма яркое свойство, которое сразу (и навсегда) выделяет этот цикл из множества ему подобных и, говоря отдельно, смотрится более чем наглядным. Особенно — на фоне названия того сáмого инструмента. — Разумеется, я говорю о громкости или, немного шире, о той причудистой динамике, в которой выдержаны все без исключения этюды. Странная тишина, мертвенный покой после грохота и шума падения, — пожалуй, такой метафорой было бы проще всего определить характер упавших пьес. Умеренно. Негромко. Не быстро. Спокойно. Тихо. Неспешно. Все они, от начала и до конца — выдержаны в приглушённых красках и исполняются словно бы при нажатом модераторе (казалось бы, картина более чем странная, совершенно не вяжется с привычным представлением о музыкальных этюдах). Автор с порога отсекает от упавшего форте’пиано всё лишнее, вернее говоря, оставляет от него только заднюю тихую часть (-пиано), совершенно лишая способности играть на повышенных тонах: быстро, громко или возбуждённо. Пожалуй, точнее всего можно было бы определить состояние полусотни этюдов — как своеобразный шок после бурного падения, которое случилось немного ранее, в наше отсутствие. Отшибленный инструмент (вместе с таким же пианистом) уже лежит бесформенной грудой где-то внизу, в глубоком горном ущелье, и все его струны, молоточки и клавиши способны извлекать из недр ударенного ящика только слабые больные звуки. И даже в тех случаях, когда в написанном тексте угадывается характер взволнованной или бурной музыки, она всё равно остаётся только слабым голосом, нигде не превосходя своей динамикой «меццо-пьяно» в более чем умеренном, едва подвижном темпе. Как результат, мы имеем крайне необычный цикл не только спокойной, но и всемерно успокаивающей музыки (типично интерьерного характера) под скрытым названием «50 этюдов для упавшего пиано» (совершенно без форте). — Пожалуй, глядя на эту картинку и поневоле вспомнишь два завершающих аккорда из нашумевшего (в своё время) интервью «Игра в Дни затмения», когда интервьюер задаёт молодому композитору эффектный (как ему кажется) финальный вопрос: «И последнее, Юра. Если бы после долгого восхождения ты вскарабкался на вершину высокой горы и обнаружил там рояль, то что бы ты на нём сыграл?..» Ответ привожу полностью: «Думаю, что прежде всего я не полез бы в гору, знаешь ли, у меня дела есть и поважнее, чем какое-то лазание... Ну а если бы всё-таки оказался там, то — сразу же столкнул бы рояль вниз. И что́ бы он при этом «сыграл», то и было бы — моей музыкой...»[38] Откинув в сторону очередную порцию эпатажа и провокации, сразу возникает картинка пятидесяти этюдов, которые играются спустя день или два после нарисованной катастрофы. Нечто вроде пост’людии или эпилога. На том сáмом упавшем фортепиано...
— Без малейшего желания когда-то ещё раз подняться обратно. И повторить...
И пожалуй, ещё одно..., последнее, что можно было бы сказать в прямой связи с тем инструментом, посредством которого автор собирался иллюстрировать свою камерную предварительную мистерию уходящего (упавшего) мира. Весь цикл (от этюда пролога и до этюда-эпилога) чем-то неуловимо напоминает медленное тихое шествие или — говоря музыкальным термином — пассакалию, музыку прощания и отъезда. Это ничуть не удивительно, если припомнить главный умысел и всю внутреннюю конструкцию пятидесяти этюдов. Построенные как прощание с уходящим (упавшим) миром, они едва ли не во всём своём тихом и неспешном шествии несут настроение ухода..., но только не торжественно-трагического или погребального, а скорее рассеянного, сопровождающегося навязчивой попыткой припомнить нечто такое, что теперь уже навсегда осталось позади.[39] С точки зрения музыкального материала такой процесс можно было бы назвать «вялой ретроспекцией».[8] Но с точки зрения инструментария — здесь имеется и ещё один аспект, поначалу ускользающий от внимания. Дело здесь идёт о том, что «50 этюдов для упавшего фортепиано» — есть последнее сочинение (причём, заранее и напоследок), написанное этим автором для инструмента под названием фортепиано.[комм. 16] Точнее его можно было бы назвать «прощальным» (наподобие аналогичной симфонии Йозефа Шуберта),[40] или даже «лебединой песней» (не исключая, впрочем, гусиной, утиной или других пернатых водоплавающих). Начиная с лета 1998 года, когда автором была сделана студийная запись пятидесяти упавших этюдов, из-под его рук более не появилось ни одного фортепианного сочинения, а спустя ещё три года список произведений был полностью закрыт (для его последующей рестрикции). В 2001 году началась объёмная работа над «Карманной Мистерией» (ос.74) — тектонической фреской продолжительностью в пятьдесят часов, после окончания которой работа над любой музыкой вообще потеряла всякую актуальность.
- — Оставив упавшее фортепиано где-то далеко позади, — только в качестве малого напоминания...
|
A p p e n d i X - 1
Заглядывая в бездну мысли –
О Для начала, в первой части упавшего цитатника можно ожидать некий набор, состоящий, главным образом, из мусорных, вялых и ханографических цитат от автора, посвящённых сказуемому процессу написания, исполнения, записи и существования умозрительного цикла этюдов ос.64, а также — ограниченный набор высказываний от немногих (уцелевших) свидетелей, каким-то образом прикасавшихся к этюдному материалу. Всё это будет (в ограниченной степени) разбавлено цитатами из руководящих книг и пособий позднего периода. А ещё ниже, во второй части приложения обнаружит себя гомологический ряд упавших этюдов с таблицей условных спектров от Анны т’Харон: результат очередной попытки п(р)оверить мысленной алгеброй несуществующие гармонии.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||