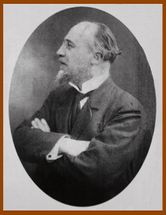Покусанные картинки, ос.6 (Юр.Ханон)
( скрипучая д’рама из юности ком’озитора ) [комм. 1]
дадим определённое определение рассматриваемого предмета: частное..., разумеется..., — и даже честное (по возможности)... « Поку́санные карти́нки » (скрипичная драма в трёх сценах), ос.6 — маленький цикл из трёх экс’пери’ментальных камерных пьес(ок) для скрипки и фортепиано, сочинённый за пару дней в середине ноября 1984 года (в рамках обязательной программы обучения композиторской профессии) студентом второго курса Ленинградской ордена Ленина государственной консерватории Юрием Ханиным, позднее более известным под псевдонимом «Юрий Ханон».[комм. 2] К слову сказать, в момент сочинения упомянутого произведения её автору исполнилось ровно девятнадцать лет и пять месяцев (а к моменту гипотетического исключения из консерватории — соответственно, было чуть больше девятнадцати с половиною).[комм. 3] И ещё, пожалуй, два слова вдогонку — за отъезжающим поездом... Два таких слова, без которых облигатная информация о «Поку́санных карти́нках» обладала бы всеми свойствами производственной неполноты. Сцена I. «Плывущие изверги» (a-moll, maestoso-presto: «до изнеможения быстро»): ~ 0’35’’ Сцена II. «Бедный изгой» (a-moll, andante-agitato-andante: «слишком вяло»): ~ 1’50’’ Сцена III. «Торжество Мафусаила» (a-moll, prestissimo: «кошмарно быстро»): ~ 0’35’’ Глядя в ноты, как минимум, непривычным и забавным выглядит намерение автора во что бы то ни стало вписать (видимо, ради удобства исполнения) каждую пьесу ровно в одну страницу нотного текста (а всю драму, соответственно — в три). Ради выполнения этой задачи он почти всё время (кроме части второй сцены) пишет партию фортепиано на одном стане: точно так же, как и скрипку. Вид это имеет непривычный и, отчасти, вызывающий. — И здесь, между прочим, заметна (именно что заметна!.., даже на глаз) ещё одна особенность «покусанных картинок» — их, если угодно, анти’аккустичность. Если скрипка, вполне привычно расположенная на одном нотном стане (разумеется, скрипичном, на каком же ещё!) постоянно бросается из регистра в регистр, то фортепиано, напротив, не только выписано большей частью в одном басовом ключе, но и в самом деле играет — в основном — там, где-то далеко внизу, создавая непрерывную сумятицу, толчею и грохот, изрядно мешающие слушать солирующий инструмент. Если отбросить лишнюю деликатность и выморочную профессиональную этику, то остаётся сказать вот что... Во многих смыслах это было типическое упражнение (на малую попытку идеологии с музыке) или, если угодно, этюд (на тотальную «покусанность»). Жертвами столь скромного эксперимента пали прежде всего — фактура (факта), тональность (тона) и взаимосвязи (бессвязности). Если припомнить простейшую истину, что «Покусанные картинки» — всего лишь камерное ансамблевое произведение для скрипки в сопровождении фортепиано, а затем разделить обе партии на составные, получаем следующую картинку: обычный квинтет, где участвуют пятеро. Скрипка, скрипач(ка), пианист и его две руки (левая и правая). И все друг друга кусают, и все друг другу мешают, толкаясь и бубня...[5] Бестолковая толчея и имитация бурной деятельности — под видом «скрипичной драмы»...
На фоне нарочитой брутальности, упрощённости и бедности музыкального языка, в глаза особенно сильно бросается нескрываемое (не)желание композитора написать «блестящую концертную пьесу» (точнее говоря, драму) для скрипки и фортепиано..., или (возможно) даже кое-какое подобие пародии на неё. — Впрочем, воплощение задачи (если таковая на самом деле имела место) настолько странное, что так и не позволяет прийти к однозначному выводу: каковы же были истинные намерения автора... — Пожалуй, это и есть лучшее, что можно заключить из прослушивания «Покусанных картинок»: зависнув где-то посередине, в собственном межеумочном пространстве, они не могут быть отчётливо определены по жанру, стилю и намерению как нечто заранее известное. В том числе, кстати, не вполне ясным (как при просмотре, так и при прослушивании) остаётся главный вопрос для всякого партикулярного идиота: а почему, собственно, такое странное название?.. — Каким образом означенная «покусанность» картинок (как образ или замысел) воплощается в музыке? Или через музыку? Что за странные названия частей, и вообще: чтó имел в виду автор и чтó он хотел сказать всей этой пародированной суетой (на грани чепухи)?..
С
Собственно, именно в этой (мало)заковыристой детали и заключается причина той странной настойчивости, с которой я называю «экс’пери’ментальными» целую серию маленьких (а временами даже крошечных) пьес,[комм. 5] ни одна из которых при постороннем рассмотрении не может быть признана «экспериментальной» — в традиционном понимании этого слова. Находясь в здравой уме и твёрдой памяти. Равно как и наоборот. — Вот такой, понимаешь ли, оксюморон получается... И в самом деле, шутка ли сказать: «музыкальный эксперимент»..., чёрт!.. — на дворе 1984 год, конец двадцатого века, между прочим. — Конец!..., не начало. Само по себе это слово «эксперимент», протащенное практически волоком по всей поверхности столетия, уже почти полностью стёрлось — до состояния «Tri poly», как любил говорить один мой старый (не)добрый приятель.[10] Проще говоря: на нём уже негде штампа ставить, до такой степени техническое и формальное значение он приобрёл. Со времён Шёнбергов-Варезов-Булезов-Штокгаузенов и прочих Ксенакисов всякий «музыкальный эксперимент» получил (уже наследственный) вид не просто неудобоваримой како’фонии, но и некоего универсального рвотного средства, когда все подобные манипуляции производятся исключительно внутри профессионального клана — ради самоутверждения через нечто «новенькое», касающегося исключительно расширения известной техники или формальных средств. Именно такой «эксперимент», собственно, и стал доброй традицией для XX века. — Не скажу, чтобы это было глупее или отвратнее прочих человеческих обычаев... Вовсе нет. Временами, роясь в куче этих бесконечных ужимках и прыжках, вполне можно было найти вполне интересные зёрна. — И тем не менее, формальное мелководье и откровенная пустота этих композиторских занятий — очень скоро прискучила, поскольку в них не было главного: сути, идеи, цели. — Ради чего, собственно говоря, были выдуманы и наложены поверх рояля все эти «молотки без мастера» или «питопракты»... — Не выходя за пределы стиля, эстетики, — по большому счёту, всего лишь, способов организации музыкальной ткани, каждый следующий «эксперимент» неизбежно имел вид всего лишь «трюка», фокуса или выверта, сделанного человеком среды внутри своей среды и для своей среды. В итоге, все бесконечные новаторы очень напоминали туристов. Добравшись до очередной площадки на популярном склоне горы Хренблан, они попросту бродили гурьбой туда-сюда, возможно более полно и подробно утаптывая то местечко (каждый своё), до которого им довелось подняться на комфортабельном фуникулёре).
Значит, вот она какой стала в 1984 году..., эта пресловутая «экспериментальная» музыка. Короткие (в две-три минутки) и словно бы простенькие пьески, по своему звучанию напоминавшие скорее слегка пьяного (и слегка п’русского) Пуленка (самогó-то Сати тогда почти никто не знал!..), чем какую-нибудь додекафонию или царившего тогда джентльменского дядю-Диму-Шостаковича. Написанные в простенькой тональности (до-мажор или ля-минор, к примеру), без устойчивых и настойчивых признаков какофонии, эксцентричные (без захлёста), сумбурные (может быть, намеренно?..), излишне плотные по фактуре, мутные по регистру, какие-то неадекватно неудобные для исполнения на скрипке, ну... и с некоторыми другими странностями (почти незаметными для глаз и ушей). — Почти ритурнель. Почти дивертисмент. Почти трюк. На первый взгляд, чуть сложнее, чуть въедливее, чуть пристальнее, чем должна быть какая-нибудь музыкальная шутка. Вдобавок, каким-то административно-демонстративным образом вписанная в детскую нотную тетрадочку (с двумя птичками на обложке). — В общем, ничего серьёзного. Пустяк и пустяк... Конечно, если заранее не знать, кем стал их автор — пять, десять, сто, пятьсот лет спустя... — тогда уж точно не заподозришь никакого двойного дна. — Собственно, в точности так оно и случилось. Потому что никто и не заподозрил..., из числа «маститых, одутловатых и просроченных», единственный раз исполнивших 4 января 1985 года партию (канкана) «покусанных слушателей» в этой скрипичной драме №6... — Одержимые то ли запором, то ли поносом..., они все на голубом глазу решили, что это (покусанное...) и действительно — всего лишь глупые шутки. И уж никаким «экс’периментом» здесь точно не пахнет... «...Представь себе картину, в качестве исполнения обязательной программы я написал небольшое трёхминутное сочинение для гобоя и фортепиано «Приевшиеся жужжания памяти великих композиторов», — так вот за него меня и гнали <из консерватории>. Признаться, меня очень порадовали железобетонные формулировочки, при которых это всё происходило. Смотри, как всё было: встал Борис Тищенко... <...> Кто это?.. Скажем, для простоты: «композитор», любимый ученик Шостаковича (у него «любимых учеников» было под чёрную сотню, не меньше, особенно они расплодились после смерти). Так вот, встал Тищенко. А может быть, и не встал. Наверное, он это всё сидя говорил, на собственной заднице... «Это же не Музыка! — сказал он (вот умница какой!), — это издевательство над музыкой. Это площадное шутовство!» И здесь как раз, судя по всему, он попал прямо в точку. Низкий поклон ему за это. Но дальше он сказал уже явно неправильную, нелепую вещь. Он сказал: «Ну что вы здесь кривляетесь? Вы пытаетесь нас насмешить? А нам не смешно!» Это уже меня откровенно позабавило: будто они меня наняли в качестве клоуна или массовика-затейника, а я не справился с условиями контракта. Это очень напоминает, как Лев Толстой о Леониде Андрееве фыркнул — «он пугает, а мне не страшно», ярчайшая фраза, даже удивительно, сколько за ней всего скрывается... Значит, ты хочешь знать, что я ответил этому Тищенко?.. Это не суть важно. Предположим, примерно так: «Борис, ты не прав». Мужик как-то сразу окаменел немножко и стал прохаживаться уже по поводу названий моих пьес, что они, мол, тоже не смешные. Словно бы я, в самом деле, подписывался под обязательством развлекать или забавлять его!.. — Или, как мне мастодонт Арапов сказал через пару дней (в коридоре консерватории), ему лет девяносто, он ещё вполне мог в раскулачиваниях композиторов участвовать: «Мы вас приняли в консерваторию. Мы вам доверили серьёзное, ответственное дело — писать музыку. А вы тут че́м занимаетесь, молодой человек?..» — Какой всё-таки звёздный товарищ, а?.. Даже завидно...» [12]
Ну что ж..., большое спасибо... Очень (не)приятно было (в очередной раз) послушать & переслушать эту старую сказочку времён К.У. Но всё-таки..., мильон извинений..., остаётся не вполне ясным... — Так в чём же, с позволения спросить, заключался пресловутый «эксперимент», мимо которого (как фанера над Под’порожьем) дружным косяком пролетели все доблие мужи, составлявшие в январе 1985 года честь и славу ленинградского Союза композиторов?.. Вот такой вопрос, понимаешь ли..., на который, впрочем, очень просто отвечать..., поскольку на него уже давно отвечено. — Не раз, и не десять раз. С излишними подробностями..., а затем ещё поклонами, мимансами и реверансками. В том числе и прямо здесь, за соседним углом. Но впрочем, извольте... Могу и повторить..., вкратце. Если желаете... Или сильно приспичило... — Поскольку разговор этот, как всегда в таких случаях, — исключительно по большому счёту и по сути (не по форме..., нет). А потому и пренебрегать им было бы курьёзно.
Оставим пустые разговоры...,[14] мой старый пустой друг.[15] — Время кончилось...,[16] для тех, кто понимает. А значит, отныне и навсегда понимай так: «Покусанные картинки» — не просто «экс’пери’ментальная», а бери выше!... — дважды экспериментальная пьеска, хотя — вовсе не музыка выступала в ней предметом и суб’ектом экспериментирования. Главная цель и остриё намерения находились далеко за поверхностью «скрипичной драмы», — в области «идеологии», как её понимал распекаемый (и получивший «не’зачёт») студент второго курса. Искренне полагая «просто композиторство» делом (для себя) глубоко недостойным и локальным, с самого начала своей «сочинительской карьеры» Юрий Ханон искал и по крупицам отбирал адекватные средства для выражения некоей над’эстетической (или вне’предметной) доктрины средствами искусства. Причём (и здесь я ставлю намеренный акцент, > !..) , искусства вовсе не обязательно — музыкального. Причём, последнему заявлению (вероятно, весьма сомнительному с точки зрения некоторых ренегатов) имеются железобетонные свидетельства, свидетели и даже артефакты. Начиная с осени 1982 года (со времени написания первых фортепианных «не’сонат» и прочих «безликостей»), параллельными путями (как по железным рельсам) шли поиски системных «идеологических» решений в прочих искусствах: литературе, живописи и (даже, отчасти) кино. Само собой, музыка в этом ряду была самым инертным материалом. Это искусство: не имеющее своего предмета и, вдобавок, бессловесное всегда оставалось самым неконкретным и, как результат, едва способным к выражению жёстко фиксированных «идей». Первоначально выбранный «скрябинский путь» оказался очень продуктивным, однако, имел свои недостатки, принципиально экспрессионистские. Узкий, жестоко сублимированный по арсеналу средств и, как следствие, возможных идей, он сразу отсекал все «нижние» уровни работы с материалом. Именно потому (спустя ровно два года после начала экспериментов) постепенно назрела необходимость попробовать какие-то иные методы работы со смысловыми блоками. — Пожалуй, самой жестокой удачей на этом пути стала, как это ни странно сказать, книга (не музыка!..), вышедшая в ленинградском издательстве «Музыка» ровно как в год моего (скандального и почти чудом случившегося) поступления на композиторский факультет. Она несла крайне оригинальное название «Французская музыка первой половины ХХ века».[17] Эта стопка резаной бумаги, в целом бы, и не заслуживала никакого упоминания... Вещь академическая, банальная, пустая и даже нелепая (как нелеп любой клановый «профессиональный» продукт, трижды жёваный), — но всё же, каким-то неожиданным, почти волшебным образом именно из неё я выудил второй (возможный) путь. Читай, практически: Дао... И случилось это при (многократном) прочтении главы «Эрик Сати» из упомянутой (выше) книги.[17] Феномен моно’графии профессора Филенко состоял в эффекте вопиющего несоответствия, когда типичный «учёный», плоть от плоти клана, вдобавок, «homo soveticus» (со всеми вытекающими последствиями) пытается добросовестно анализировать искусство и жизнь автора, a priori поставившего себя за границы законов и принципов нормативной деятельности. Само собой, любое несоответствие обладает колоссальной энергией действия (чаще всего, потенциальной, конечно). А потому и книга — по своей нелепости и беспомощности — оказалась невероятно убедительной, напоминая доморощенный фейерверк, состоявший из тщетных попыток «запустить ракету» (без топлива) или хотя бы найти подобие точки опоры для ракетницы. — Действуя как типичный заплечных дел мастер, прекрасно’душная госпожа профессор продемонстрировала мне (исключительно на личном примере!.., что особенно наглядно) крайнюю эффективность формального или даже схоластического метода, от которого прежде я был бесконечно далёк... Как я уже сказал выше, скрябинский подход к синтезу музыки и философии был исключительно первого ряда: прямым или экспрессионистским по своему действию и натуре. — Таким образом, не услышав ни одного существенного музыкального сочинения Сати, я сделался его несомненным последователем — прежде всего, в части внедрения (чуждой) идеологии в музыкальную ткань...[комм. 6]
Спустя (штаны) шесть десятков лет после смерти Эрика, академические олухи ещё раз проплясали свою неизменную (от сотворения мира) качучу со словами: «ату его!.., он нас не уважает, он нас не слушается, он чужой, изгнать его вон!..» — Нужно ли и напоминать, сколько раз приходилось выслушивать подобную клановую ахинею — ему..., или — мне (равным образом, и прежде, и после 4 января 1985 года). Между прочим..., здесь (между слов) содержится второй, значительно менее ценный (и само...ценный) эксперимент всей осенней серии — от «приевшихся» до «покусанных» включительно. Разумеется, я говорю о «коллективной психологии» всех лиц, присутствовавших (и отсутствовавших) на вполне обычном & даже рутинном зимнем экзамене по специальному курсу композиции, состоявшемся 4 января 1985 года. На удивление, там собрался невиданный кворум (на что я, грешным делом, поначалу даже не обратил внимания), в классе было изрядно тесно... И немудрено. Потому что пришла едва ли не вся кафедра: включая даже тех, которые совсем не должны были там находиться. Но «зато» на месте того, кто уж точно должен был присутствовать (имея в виду номенклатурного профессора Успенского, бессменного заместителя председателя союза композиторов, который и был на тот момент педагогом опального студента) светилась весьма наглядная пустота: он попросту не явился. — По всей видимости, заранее предупреждённые главными действующими лицами, педагоги кафедры собрались на вторую новогоднюю ёлку. Скандал был запланированным & ожидаемым. И у всякого к этому маленькому празднику был — свой интерес, как показала последующая история сюжета, приевшегося & покусанного. Разумеется, «эксперимент на педагогах» не входил и не мог входить в число ценных задач. Скажу даже больше: как и большинство стихийных поступков в духе подросткового эпатажа (или протеста), он даже не был сформулирован, ни внутри, ни снаружи себя. — И тем не менее, важный элемент прямого «вызова» (и такого же прямого «ответа»), а также проверки способности новой для него «формальной музыки» нести в себе заряд некоего смысла (или хотя бы умысла), безусловно, входил в подспудные планы девятнадцатилетнего автора, (особо напомню!) написавшего первые «маленькие пьески для камерного состава»... в принципиально ином стиле — с принципиально иным подходом к содержательной функции и носителям информации. Как показали дальнейшие результаты: обе задачи были выполнены с блеском.
— Само собой, «Покусанные картинки» не были..., не могли стать и не стали поворотной или решающей пьесой на этом (бес)славном пути в светлое будущее. Исполненные на памятном экзамене пятым (и предпоследним) номером, они уже ничего ужасного не прибавили к предыдущим музыкальным «проступкам» студента (ос.2-3-4-5), но только поставили на них точку: жирную, скрипичную и драматическую..., как и полагается в классической пьесе.[комм. 8] — Казалось бы: и зачем же тогда рассказывать о них отдельно?.., об этой мелочи..., всего лишь каких-то «покусанных картинках»?.. покусанные тобою..., мой дорогой безымянный дядя..., имя которому, как всегда — легион, не больше и не меньше... Потому что — ровно. Ровно — легион..., и — ни копейки сверху...
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Эрик Сати — само собой, это он, собственною персоной. Скажем даже проще: «Тот, кого нельзя называть» — особенно, здесь, посреди этих страниц. — Но почему же нельзя?.., да потому что и так всё ясно. Без особенных изысков и вариаций: начиная от «Приевшихся жужжаний» и кончая «Покусанными картинками», — всюду здесь можно было бы ставить посвящение... одно на всё «(не)дорогому учителю»... (как он любит).[комм. 10] И прежде всего, в той части его опыта, который (чтобы не искать лишних слов) лучше всех выразил некий «отвратительный гамадрил»,[25] которого Сати (в последнее время) считал своим личным врагом. Спустя три года после смерти Сати..., когда поверхность воды, слегка всколыхнувшись, снова затянулась тиной, этот доблестный павиан (вдобавок, китаист) сказал буквально следующее: «Ибо написано в «Книге пути»: [комм. 11] тридцать спиц образуют колесо повозки, но только пустота между ними делает движение возможным. Лепят кувшин из глины, но используют всегда пустоту кувшина..., пробивают двери и окна, но только их пустота даёт комнате жизнь и свет. И так во всём, ибо то, что существует — есть достижение и польза, но только то, что не существует — даёт возможность и пользы, и достижения. Музыка Сати — музыка полезная для всех, кто её не может найти здесь. Она лишена поверхности, в ней насквозь видны мысли»...[25] Именно потому, не оставив себе ни единого шагу для отступления, я говорю: спасибо же тебе, чортова обезьяна. Ты сделала своё дело..., и не раз попав прямо туда, под «прозрачную поверхность», — и можешь идти прочь. Потому что..., потому что, — я говорю, — ни один из этих доблих павианов клана не смог даже на сотую долю ощутить: какая чудовищная сила открытия заложена в этом сногсшибательном свойстве, упомянутом между делом. — В ней насквозь «видны мысли». Только подумать!.., как просто, что за дивная мелочь!.. Почти щелчок одного пальца..., или хлопóк одной ладони.[комм. 12]
|
2. Шура Скрябин — само собой, разве без него могла бы обойтись эта история..., не самая простая из лёгких?.. Очень простой и наглядный пример он дал..., в своё время. Правда, было ему тогда не девятнадцать, а «целых» двадцать пять. Казалось бы, разница громадная. И всё же, не так просто. Не так просто. — Если ввести все понижающие коэффициенты и добавить кое-что сверху на вековую «инфляцию», пожалуй, картина будет выглядеть совсем иначе. И его двадцать пять вполне могут показаться моими шестнадцатью... (1897-1984) — Тот самый... тяжелейший, мутный срок, когда Саша Скрябин вымучивал (буквально!.. — вымучивал) своё первое «настоящее, крупное» произведение. Чтобы сделать «как они», и доказать самому себе (для начала), что и он тоже «может». Для оркестра, конечно. Да, потому что сочинять просто пьески для фортепиано — «всякий может». А симфонический оркестр..., это же десятки людей (иногда даже сотня!..), ублюдочный суррогат профессионального музыкального социума и (одновременно!) — большой инструмент, способный рождать большие эмоции, идеи, резонансы... Вот что было потребно молодому (слишком молодому!) автору прелюдий и мазурок!.. — Наконец, выйти на новый уровень..., вдобавок, один на один с ними. В смутной попытке выразить нечто особенное: то ли грандиозное, то ли утончённое... И даже сам ещё не зная толком: что именно. И не имея достаточных средств: каким образом достигнуть желаемого, желанного.[27] Одновременно: самоутверждения как женщины, — и женщины как самоутверждения. И потому одновременно: жениться во что бы то ни стало..., и ещё овладеть оркестром. Очень смутные намерения. Почти сумбурные. Но всё равно, ощущение острой необходимости результата соединилось с представлением о собственной исключительности, чтобы дать столь странный, причудливый итог. Вдобавок, преждевременный. Разумеется, так оставшийся не-до-воплощённым, не-понятым, не-оценённым и немедленно оболганным (клановыми авторитетами..., кем же ещё). Не снимая сапог — прямо в постель...[28]
|
1. Эрик Сати — само собой, не нужно было бы слишком упрощать. И даже примеры бывают разные: для дураков и для дурней; ради чего-то и ради ничего; для дела и для пустоты... В конце концов, они могут быть вполне конкретные и «вообще»..., — последнее слово я добавляю исключительно для тех, кто понимает (хотя бы немножко, хотя бы кое-что). — Скажем к примеру... Если бы мне пришлось жить не в Ленинграде, а в Лионе..., не в Советском Союзе, а где-нибудь невдалеке от родины..., вероятно, опыт Эрика имел бы все черты убийственной конкретности, как говорится: веером, почти по полному кругу. Во всём своём звуке и цвете, во всей своей доступности и полноте. — Но увы, на самом деле всё было не так. Ленинград. Советский Союз (со всеми вытекающими последствиями).[17] И собирать своего Сати мне приходилось по крохам, буквально, выцарапывая и соскребая по крупицам (до) полу’вековые отложения на «железном занавесе».[комм. 13] Разумеется, мне было известно про (почти) единственный опус Эрика для скрипки и фортепиано — в первую очередь,[комм. 14] из идиотической и постыдной по своему тону книжки некоей парижской любительницы канифоли.[30] Распинаясь в сюсюкающем тоне деревенских старушек на лавочке, она в двух словах рассказала о «Вещах, видимых справа и слева (без очков)», этой «милой пародии» на виртуозную скрипичную литературу. Ничего, кроме брезгливости (с подспудным пониманием) из этого бреда нельзя было вынести.[комм. 15] Впрочем, не всё так однозначно плохо: в консерваторской нотной библиотеке (ордена Ленина имени Римского-Корсакова) среди скудного набора артефактов Эрика-Альфреда-Лесли оказались именно эти ноты (которые, с позволения сказать, почти никто не пользовал). Для скрипки и фортепиано. Написанные в 1914 году. В числе четырёх пред’последних сочинений — успевших появиться до начала той войны, несомненно, самой прекрасной... в своём роде.[25] Можно сказать, даже «мировой» — в том лучшем смысле, который они обычно вкладывают в это слово...
|
2. Саша Скрябин — само собой, путь слишком редко (чтобы не сказать: никогда) состоит из одного шага. — Подобной способности..., или возможности, говоря прямо, попросту не содержится в природе человека, постепенное сознание которого всякий раз складывается заново: из опыта, в первую очередь, совокупного и только затем своего собственного, добавленного. Само собой, только в редких или редчайших случаях этот опыт бывает уникальным или наращённым: шагом вперёд (или в сторону), вверх (или вниз) — так или иначе, составляя собой прибавление общего опыта через новый личный вклад. И сызнова скажу: такой путь слишком слишком редко (чтобы не сказать: никогда) состоит из одного шага (даже когда имеет вид «внезапного» прорыва или прозрения). — Чаще всего он достигается постепенно и поступенно..., исходя из той же породы и природы человека, сознание которого обладает всеми свойствами накопленной суммы — лишь только затем способной (или не’способной, что случается несравнимо чаще) продуцировать нечто новое. Поставив перед собою некую уникальную задачу, возможно, даже смутную, грандиозную или сверх’человеческую, всё равно приходится добиваться её решения при помощи кропотливого отбора средств, создания новых конструкций, медленной работы над деформацией старого материала, прежде (как казалось) неспособного принимать несвойственные ему формы. — Нет, я говорю далеко не только об искусстве. В точности так происходит во всех областях человеческой практики, куда бы ни сунь свой нос: и в науке, и в технологии... Если взглянуть на первые три скрябинские симфонии (словно бы три варианта существования одной и той же идеи), сочинённые в течение шести лет, чётко виден этот новый опыт, постепенно кристаллизующийся по крупицам — и всё же, ни разу не достигающий необходимого (и желаемого) результата.[28] — Даже Божественная поэма (третья и последняя симфония) так и осталась очевидным артефактом: внутри которого (не)свободно сочетается намерение и его необходимые не’достигнутые границы.
|
1. Эрик Сати — само собой, методы решения в известной степени зависят от характера задач. Но ничуть не менее они зависят — от характера их постановки. И первое, и второе, в конечном счёте, проистекает из натуры..., — главного действующего лица. Особенно это верно в тех (редких) случаях, когда лицо в самом деле — действующее. И тогда..., прошу прощения..., по результату можно измерять (словно ртутным градусником): каковы же они были, задачи, поставленные перед собой этой натурой. Словно автоматические надписи, сделанные в полусознательном состоянии: на бумаге, на стене, на фонаре... Но прежде всего, у себя на лбу. И чем труднее, чем неочевиднее намерения автора (или актора), тем важнее для него опыт предтеч, предшественников на этом редком пути, позволяющий радикально сократить число шагов до начала собственного уникального пути. — Вот потому-то, едва поставив перед собою яркую и трудновыполнимую задачу, я и начал с того, что просеял сквозь своё внутреннее каноническое сито два имени, уникальных среди обычного человеческого зоопарка: Скрябин и Сати, два идеолога (причём, каждый по-своему), и два принципиально не-клановых человека, как и я. Скрябин — больше чем композитор, его музыка — пинцет, инструмент для уничтожения мира во вселенском оргазме. А Сати — меньше чем композитор, его музыка — тоже пинцет, ещё один инструмент для радикального сведения счётов с этим миром и его людьми.[8] Поистине удивителен для меня был этот пример (особенно, в соседстве со скрябинским, конечно), почти буквальный по своего крохоборству, когда, казалось, вовсе не композитора я вижу перед собою, но типического зоолога или натур-философа, сидящего перед своим начищенным до блеска микроскопом и скрупулёзно записывающего отточенным карандашом на бумаге результаты наблюдений над ножкой мухи или инфузорией без туфельки. — Да..., именно так: на бумаге, отточенным карандашом и, как венец всего — нотами.
|
2. Александр Скрябин — само собой, ничего не происходит само собой..., и даже движение по течению требует известных усилий. Тем более, когда речь заходит об очевидных прорывах и достижениях на пути нехоженном или, по крайней мере, неизвестном. — Единожды и заранее, находясь в начале дороги, можно не сомневаться: каждый шаг потребует весьма солидных затрат, всякий раз заново преодолевая собственную человеческую ограниченность и слабость. — Вот почему столь важен не только пример (прецедент этих двоих) впереди идущих, но и заранее чёткое формулирование задач, а также воля на пути их осуществления. И для Сати, и для Скрябина этот пункт, вне сомнений, явился изъяном или ахиллесовой пятой, приводившей к десяткам лишних (не точных) шагов и попыткам их исправления. — Даже малый анализ (списка сочинений, опорных высказываний или поворотных поступков) позволяет без особого труда определить: насколько извилистой и тяжкой была траектория пути к цели..., в том числе и потому, что она с самого начала не имела точного определения. Если не сокращать собственный внешний ряд жизни (постоянно создающий препятствия, по кусочку откусывающий или понемногу покусывающий идущего за ноги), так или иначе, но победа останется за процессом или инерцией среды. — Только ко времени «Прометея» (между прочим, всего пять лет до смерти) скрябинская сверх’задача была окончательно сформулирована (средствами не только слов, но и музыкальными), — хотя и тогда пути её осуществления оставались вполне смутными..., причём, до такой степени (смутными), что очевидным образом (не убирали, но) создавали препятствия на пути вперёд: так, словно бы вовсе не цель была целью, но её — деликатное отложение. Под уважительной причиной..., или откровенным предлогом: например, «Предварительного Действия»..., накопившихся долгов перед издателем..., необходимости зарабатывать деньги на содержание семьи или, в конце концов, собственной смерти под видом или вместо мистерии...
|
1. Эрик Сати — само собой, ничто не делается само собой. И каждый имеет полное право на собственную сепаратную ошибку или неудачу..., которой, как ни крути, заканчивается любая жизнь. Даже когда основная идея не сформулирована и распадается на десятки отдельных поступков. В любом случае, пример имеет невероятную ценность, будь он положительный, отрицательный или смешанный... Особенно чётко это заметно, когда пройдена существенная часть пути..., и собственный опыт постепенно начинает приобретать черты такой же наглядности, как прошлый, становясь очевидно третьим вариантом: после Скрябина и Сати, в громадной степени дополняющих и дополнивших друг друга... — Оба они (причём, независимо друг от друга и каждый своим, самостоятельно изобретённым методом) пытались добиться того результата, который мне был с самого начала интересен: сделать искусство — не занятием, не целью, но только инструментом (причём, не профессиональным, ради устройства своей жизни, добычи денег, славы, карьеры, как это принято), а инструментом выражения Большой Доктрины, маленькой доктриночки или хотя бы жёсткой мысли (нечто вроде гвоздя в сапоге: вроде бы и мелочь, а ходить уже невозможно). Слушая «Прометея» — иногда начинает казаться, что в воздухе висят схемы, вселенские схемы, нарисованные звуком, до такой степени предметно и наглядно он сделан. Так мсье Скрябин описывает (для стороннего наблюдателя) изнутри механизм будущей Мистерии мира, очередного конца света. Или в точности напротив: «Прекрасная истеричка» Сати – шикарный образец битья молотком по тупой человеческой голове,[комм. 16] всякий раз приговаривая: и так не получится, и этак не получится! А в итоге — что? Оба разговаривают об одном и том же, но только один показывает откуда-то сверху, а другой копает снизу. А между ними, где-то посередине — сижу я, представьте..., — спустя три десятка лет после покусанных картинок..., и пишу свои изуверские партитуры. Или наоборот...[8] Потому что этот мир состоит из вариантов: для всякого, кто живут по воле, а не поневоле...
|
3. Юрий Ханон — само собой, только ничтожество могло пройти этим узким коридором, не сделав никаких выводов. В том числе и из них, из пресловутых картинок, показательно покусанных клановыми бульдогами. Ровным счётом ничего приятного в истории с показательным незачётом и последующим «исключением» не было. Не говоря уже о её последствиях.[комм. 17] И всё же..., не так всё просто. Потому что (исключительно для тех, кто способен) в любой энергии есть своя очевидная сила. Именно так..., и никакой тавтологии в моих словах нет. А потому здесь, сделав малую паузу, я не побрезгую ещё раз повториться... — Кажется, ничто на свете так не «опускает» автора (тем более, начинающего), как равнодушие в ответ на его экзерсисы (тем более, самые первые). И напротив того, ничто не ободряет сильнее, чем любой ответ, встречное движение или внимание, напрямую (или косвенно) подтверждающее действенность произведения искусства. И (можете мне поверить) здесь уж глубоко второе дело: в какой форме проявляется ответная реакция. Успех или скандал, восторг или жёсткое порицание: всё это очевидные артефакты силы & эффективности избранного пути. — Разумеется, академический выгов’ор был далеко не лучшей формой «поощрения». И тем не менее, столь очевидно неадекватная реакция «столпов советской музыки» на первые пустяковые опыты (эксперименты, где автор пытался нащупать новый язык выражения идей), стала едва ли не лучшим (из возможных на тот день) фактом признания. — Именно тот..., «авторитетный незачёт» по специальности и стал первым артефактом, показавшим девятнадцатилетнему автору принципиальную верность и действенность выбранного пути. И пускай состоявшаяся «мистерия обструкции» была событием отнюдь не вселенского масштаба..., представляя собою явление заранее локальное, жалкое и в полном смысле слова — камерное (вернее сказать, кулуарное, клановое или местечковое, даром что речь шла о «кафедре»). — И тем не менее, итог налицо: маленькие (и вполне безобидные) картинки оказались «покусаны», а значит, они — имели действие.[комм. 18] Неплохой результат (особенно, после всего).[25]
|
4. Модест Мусоргский — само собой, ничто не случается само собой, так сказать, на пустом месте (кроме пустого места)...,[комм. 19], даже прыщ — и тот, погляди-ко, — не вскакивает без причины. Что уж тут и говорить о картинках..., пускай даже и — покусанных. И разумеется, ни в одной настоящей картинке дело не могло (бы) обойтись без трупа. Даже двух, один чуть раньше, другой чуть позже: в конце концов, десять лет туда, десять лет сюда, сущая мелочь на весах времени (особенно, «после всего»)...[25] — Словно ещё один перевёртыш. (1873-1883). Бедняга-Гартман, «внезапно» умерший на всём скаку, не дожив до сорока лет. Или его закадычный приятель Мусоргский, (совсем не внезапно) отправившийся вслед за ним спустя десяток лет, но зато — проживший всего двумя годами дольше. Два еврея: толстый и тонкий (почти обои в кабинете префекта..., не так ли?)... — Словно ещё один перевёртыш, один другого жёстче. (1874-1984). Репин. Шуман. Мусоргский... И в самом деле, разве могли существовать с той давней советской поры какие-то другие картинки: для внука короля..., мальчика с абсолютным музыкальным слухом и такой же памятью..., всю свою жизнь про(м)учившегося (как настоящий мытарь) между жизнью и смертью — там, в Тюремном переулке, в специальной музыкальной школе при ней..., при той самой, трижды благословенной ленинградской ордена Ленина... Консерватории, кустарно консервирующей консервы. Сразу и не разберёшься (без полстакана). Типичные катакомбы, cum mortuis (почти бюрократическая сонатина..., не так ли?)... — И какие-тут ещё, к чорту, могут быть картинки с выставки. Тем более, когда они — заранее покусанные. Возможно, даже не просто покусанные..., а коброй или гадюкой. С ядовитым зубом. Ах..., брат-Слонимский!.. Давно ли тебе снилась перловая каша?.. — Так вот он, значит, каков, этот вечный балет невылупившихся птенцов (почти засушенных эмбрионов..., не так ли?)...
|
5. Клоп Дебюсси — само собой, после таких-то картинок уже не нужно далеко ходить..., за угол. Потому что — только приоткрой их слегка (изданные отчего-то только посмертно, спустя три года после мусоргской агонии..., да ещё и не начисто изданные, а изрядно поскрябанные Римским фельдфебелем), как сразу увидишь — и её..., родимую фон-Мекк (Надежду Филаретовну..., и без Петра Ильича, как всегда). А здесь же, за спиной мекковской, и старое-знакомое лицо (такое молодое, такое доброе..., удивительно сказать). Слегка озверевшее, слегка косое..., один глаз туда вечно смотрит, а другой — обратно. Друг наш сердечный, Клóдушка (почти на раскладушке, больше года изящные искусства при дочках фон Мекк отбарабанил, — ну..., и разве можно было не заиграть после этого «с русской педалью», да по-мусорному). Едва только не вдоль и поперёк переиграл он те же «Картинки с выставки» (почти засушенные эмбрионы..., не так ли?). — А спустя пару лет (специально не уточняя, когда это случилося) [комм. 20] — и свою сюиту маленькую отписал (без посвящения, конечно..., как всегда..., как он любил). Для фортепиано в четыре руки. Почти детскую. Почти для дочек..., мекковских. — Почти картинки. Почти вставки... с той выставки... — Были у меня старые советские ноты (сталинских времён..., стыдно сказать), ещё бабушкой купленные..., до войны (да и Савояров тогда ещё был жив).[38] На жёлтой бумаге, слегка потёртые..., но вполне в хорошем состоянии (и не покусанные ничуть). — Кажется, лет пятнадцать мне было. А затем — чуть больше. Так вот, помнится, с одним моим школьным приятелем едва не при каждой встрече мы седлали трогательное «шествие на корабле» в форме «балета с менуэтом», всякий раз демонстративно покусывая, покушаясь и потешаясь рахитически-шикарной фантазии автора: «игравшего по-французски, но с русской педалью»... — И что же, разве можно такое поза’быть?..., после всего.
|
7. Роберт Шуман — само собой, ничто так не проходит бесследно, как сам факт жизни... Всё остальное, конечно же, неумолимо и неминуемо оставляет свою борозду: глубокую или мелкую, сплошную или рваную, широкую или тонкую, ровную или прерывистую, извилистую или даже ломаную..., но всегда..., всегда — вилами на воде..., или рукой по песку. И как тут не вспомнить безумного Роберта..., с его незабвенным дважды покусанным «Порывом»...,[40], фантастически-пёстрыми пьесами или шизоидным карнавалом, где смотришь на одно и то же лицо словно бы сразу в нескольких ракурсах: и слева, и снизу, и спереди... Но паче всего — сзади, конечно. Потому что если чем-то и прославился более всего старый приятель Клары, то — своими задними лицами. Всякий раз потусторонними, будто из того мира свалившимися и трижды мятыми (или жёваными?)..., как тот царь-освободитель после очередного (неудавшегося или неудачного) покушения. — И поверх всего, разумеется, ещё и панельный Брамс..., широкая душа (не говоря уже о венгерских танцах)!.. Старый приятель Клары, вторые руки, третьи поруки, в четыре руки,[комм. 21] — ну что за сущая скука эта маленькая человеческая жизнь! Едва два слова подряд назовёшь, вспомнишь, приклеишь: и всё, конец песенке!..., пиши пропало, потому что сразу известно, какое за ними последует третье, пятое, двадцатое... — Сплошной карнавал, покусанные маски: хоть прямо в Рейн с головой бросайся, — а всё никак не вырвешься из замкнутого круга. А разве его, безумного Роберта (не говоря уже о брате его, Мендельссоне) никогда и ниоткуда не выгоняли?.. Пальцев не хватит на руках, чтобы загибать, как он порывался, порывался..., пока и вовсе не порвался. А те же скрябинские прелюдии?.. — они, появившиеся следом за «Порывом», — разве их не сочинил ещё один пианист, так и не закончивший курса композиции?.. Выгнали его, выгнали как миленького... со скандалом — со второго курса «(не)свободного сочинения».[комм. 22] — И правильно сделали. Только всякое дело — до конца надобно доводить.
|
8. Дмитрий Розанов — само собой, у всех этих маленьких экс’пери’ментальных пьесок, какие бы они ни были маленькие и экс’пери’ментальные, всё же имелись свои исполнители (и даже звукорежиссёр). Потому что... оные пьески ещё и нужно было сыграть и записать, чтобы затем представить пред очи потомственных собаководов из экзаменационной комиссии. Но и кроме того, как говорил сам автор (в своё время), «...на первом этапе сочинения окусов была нужда в скорейшем приведении в исполнение: проверка эффектов, понимания, воплощения начальных элементов смысла и канона в материал. Впрочем, не совсем так. На самом-то деле никакой нужды в том не было, но зато была классическая, искусственно созданная видимость нужды».[5] Поверим автору на слово. Тем более, что больше верить некому: так или иначе, но первые маленькие экс’пери’ментальные пьески исполнялись горячими: в первые дни & недели после их сочинения. А потому автор и сочинял их (сразу и заранее) для подручного состава, бывшего в наличии. — Рояль. Гобой. Скрипка. И ещё, в крайнем случае, скрипка вторая, которую ещё нужно где-то было наскрести. Роль гобоя сыграл..., как это ни странно, гобоист,[комм. 23] с которым на момент исполнения жужжаний мы были знакомы уже дюжину лет: цифра для такого возраста почти скабрезная.[комм. 24] Почти не музыкант по своему характеру, вдобавок, органический киник и скептик, изрядно влияемый & пропитанный нашим долгим философским общением, он вполне терпимо подходил на роль канонического экс’пери’ментатора «над музыкой». Чего, к сожалению, никак нельзя было сказать о девочке (скрипачке), которую он привёл «поиграть» по моей просьбе.[комм. 25] Пожалуй, единственной её хорошей чертой была покладистость (почти без’отказность) и лёгкий характер (на грани полного отсутствия). В результате я — получил несколько покусанных пьес, сыгранных мимо нот и даже ритма (причём, гораздо чаще необходимого), а он, употребляя свои связи по прямому назначению — жену..., до некоторой степени (первую, говоря для начала).
|
9. Влади’слав Успения — само собой, и снова само собой..., об этих типах я не стал бы говорить ни слова, ибо имя им — легион..., да и тот — далеко не почётный, а нечётный, и вся их жизнь есть — чистейшее и рафинированное совершенство..., ибо совершенно (совершенно и совершённо, с позволения сказать) исчерпывается она одним своим процессом, уродливым и пустым, ни на волосок не выступая за границы собственного окончания (смерти), а то даже и не доходя до неё. — Но с другой стороны, раз начавши, уже как умолчишь об этих донных обитателях & иловых «культурных отложениях», когда..., увы, именно из них (и далеко не на малую часть) состояла первоначальная, почти неизбегаемая часть жизни. Уже (не)добрую сотню раз описанные под именем человеческого материала (как необязательное зло или природный эффект мистерии в кармане, отчасти), они и здесь оставили свой маленький пустой след. Скажем просто и сухо: две типические клановые шкуры. — Или нет, лучше не так: два добрых малых, всеми уважаемых и ценимых посмешища. Советский композитор (бес’сменный заместитель председателя ленинградского союза композиторов, автор десятка кантат о Ленине, а затем таких же всенощных), профессор ленинградской ордена Ленина консерватории, за спиной отказавшийся от своего студента, сдавший его желающим для «воспитания» и потихоньку сбежавший: разумеется, переодевшись в женское платье... и не явившись на экзамен. Ну и ещё..., просто в комплект к нему (нечто вроде продуктового пайка, где гречка всегда в комплекте со стиральным порошком) — его неумеренно болтливая жена, благодаря трогательному участию которой исчез с питерской карты сначала — нетривиальный балет «Шаг вперёд — два назад», а затем — после номенклатурного скандала, устроенного ею спустя семь лет на ленинградском телевидении, — и его автор. Вот, собственно говоря, и вся сказочка: делов-то!.., сущая ерунда (спасибо, дедушка-Шумахер)!.. Не стоило труда даже начинать.
|
10. Слонимский Ти’щенко — само собой, не только свято место пусто не бывает, но также и всякое другое (по выбору реципиента). Нашлись добрые люди (двое смелых), заполнили ямку посреди дорожки. Как говорится, поучили уму-разуму, и не дали пропасть на дне пропасти. Словно в старой-(не)доброй альбигойской клоунаде, два брата-гаера, гримасничая и выделываясь, в сотый раз разыгрывают картинку из какого-то странного Евангелия, где всего-то два слова: «ты сказал»...[44] — Ну ладно, открой рот пошире и слушай ещё раз, как всё было: встал Борис Тищенко... Кто это? Скажем, для простоты: «комозитор», любимый ученик Шостаковича (у него «любимых учеников» было под чёрную сотню, не меньше, особенно они расплодились после смерти). Так вот, значит, встал Тищенко. А может быть, и не встал. Наверное, он это всё сидя говорил, на собственной заднице... «Это же не Музыка! — сказал он (вот умница какой!), — это издевательство над музыкой. Это площадное шутовство!» И здесь как раз он попал прямо в точку. Низкий поклон ему за это. Но дальше он сказал уже явно дурную, нелепую вещь. Он сказал: «Ну что вы здесь кривляетесь? Вы пытаетесь нас насмешить? А нам не смешно!»..., а затем стал прохаживаться уже по поводу названий моих пьес, что они, мол, тоже не смешные. Словно бы я, в самом деле, подписывался под обязательством развлекать или забавлять его,[12] да не справился с условиями контракта. — Вот, говорит, написали тут какие-то «покусанные картинки», и что в них забавного? У Сати, говорит, и то названия были остроумные. А у Вас тут всё плоско да глупо.[комм. 26] — А Слонимский, Слонимский-то всё время тихонько сидел..., слова не проронил: прям, светился от удовольствия. Он же обещал, что «всё равно исключит меня со второго курса»: ну, так и вышло.[12] Да ещё и каштаны из огня самому таскать не пришлось: мелочь, а вдвойне приятно. И только под конец, он веско добавил, как напутствие на всю жизнь: «нужно слушаться своего профессора». — Кого-кого?.., его же нет..., — переспросил я двусмысленно. На том мы и расстались. К сожалению, не навсегда.
|
11. Анатолий Лядов — само собой, когда душно и нечем дышать в ненастоящем настоящем, остаётся непошлое прошлое. Кикимора. Волшебное озеро. Музыкальная табакерка. Как по волшебству, опять здесь они, всё они: покусанные картинки. — Короче говоря, ко дню окончания второго курса практического сочинения разразился настоящий скандал. Именно так, и я ничего не преувеличиваю: самый банальный скандал с военно-морскими громами и персональными молниями в адрес моих скромных несонат для фортепиано и маленьких, ещё более ск(о)ромных пьесок для гобоя и скрипки. Моё неподобающее искусству лицо торжественно отчислили с отделения композиции со специально изобретённой ради меня “творческой” оценкой “два с минусом”, и я уже довольно мрачно размышлял, прохаживаясь по коридору неласковой альма матери, а не пойти ли мне к чорту из этого богоугодного учебного заведения. Как раз в этот момент ко мне потихоньку подошёл, как всегда, немножко вразвалочку и с явной ленцой во взоре Анатолий Константинович, который Лядов, и предельно спокойно, даже вяло, попросил зайти к нему в класс.., завтра. Он и оказался тем единственным человеком, который помог мне закончить свои отношения с “музыкальным образованием”... — До сих пор задаю себе один и тот же вопрос..., и не вполне могу сказать, что именно сподвигло его на этот почти героический поступок... Музыки моей он не любил, или не очень любил: как он мягко выражался, ему “была неблизка эта резкость, провоцирующая резкость выражения”...[4] К тому же сказать, Лядов вообще привык жить по-барски, спокойно и ленно, и тем более не желал ни с кем спорить... или сражаться, а всё-таки, как ни крути, каждое моё появление на экзамене “пред лицем” самогó Николая Андреича и его “окорсевших” учеников-учителей становилось хотя бы и немножко, но — сражением. Возможно, судьбу мою отчасти решила старая известная сказка о том, как тот же самый Римский-Корсаков выгнал студента Лядова из консерватории (и надолго, кажется, года на два), и громко топал на него начищенными сапогами, да ещё и не желал пустить обратно... Видимо, с той поры для Лядова и осталась масса неприятных воспоминаний во всяком нападении морских учителей на их сухопутных учеников... Не могу, однако, сказать вам это наверное, поскольку с ним самим разговор об этом ни разу не получился, он всегда отшучивался, помалчивал... и напрямую мне так ни разу и не ответил... — Но как бы то там ни было, а уже назавтра после моего гисторического экзамена мы с Лядовым вступили в некий негласный “дипломатический” сговор, где я обязался аккуратно поставлять на досмотр профессоров возможно более тусклые, усреднённые под общий господствующий стиль самого Корсакова сочинения, (“ну неужели это так трудно!”) а он, Лядов, обещал при этом “прикрывать меня” в верхах и всемерно сглаживать острые углы, образующиеся в душах экзаменаторов, когда те снова видели пред собою моё нескромное, скоромное и неуважительное еретическое лицо. То самое лицо, с которым они уже один раз понадеялись расстаться на века. Однако, увы: расставание случилось не так скоро...[27]
|
12. Владимир Цытович — само собой, здесь уже не скажешь: «само собой». Потому что был это редчайший случай за всю мою историю столкновения с кланом, когда ничто не смогло случиться само собой, как у них полагается. — История с покусанными картинками, «строгим внушением», незачётом и, как вершина всего, запланированным вслед за тем исключением (спустя два-три месяца) из стен прославленного учебного заведения, собственно, в точности таков был замысел творца, сделанный по стандартному лекалу. Не раз, не два и не десять раз по такому пути прогоняли проштрафившихся баранцев и козлищ.[47] Однако..., совсем не таков был искомый студент «Ю.Х.» — в его случае стандартные пути не сработали бы всяко, — поскольку сразу же после окончания заседания высокой комиссии отруганный автор широким шагом направился в канцелярию ректора — чтобы написать заявление или, если выйдет, сразу забрать документы «из стен прославленного учебного заведения». С тем, чтобы больше никогда туда не возвращаться: попросту за ненадобностью. И так был ясен пень, что с этим кланом каши не сваришь. В любом случае... — Впрочем, и этот (не типовой, но вполне инерционный) сценарий с «гордым уходом прочь» также не получил завершения, потому что в коридоре (этажом ниже) к означенному студенту (почти бывшему) тихонько подошёл и.о.профессора Владимир Цытович (незримо присутствовавший на экзамене) и поинтересовался: к-к-куда же оный «Ю.Х.» держит путь с такой с-с-с-стремительностью. Узнав, что в ректорат, он попросил на «пару дней» отложить это «б-б-б-безусловно в-в-важное дело», добавив в своей фирменной манере (сквозь сильнейшее заикание) «если тебе здесь не учиться, тогда никому здесь не учиться»...[48] — «Но Владимир Иванович, зачем Вам лишние проблемы? Подумайте. Ведь у Вас будет масса неприятностей с этими союзовскими мордами. Они Вам будут мстить. А благодарности Вам за все Ваши хлопоты не выскажет никто.[27] Ни кафедра, ни деканат, ни даже я»...[комм. 27] — На что последовал лаконичный и такой же — оч-ч-чень с-с-сильно заикающийся ответ: «А уж это, прости, уже не твоя забота»...[комм. 28]
|
13. Александр Дереникович — само собой, всякая песенка когда-нибудь да кончается. Даже — покусанная. Вот и мне давно уже пора..., кончать. И так уже без меры она затянулась: эта старая «драма светской дамы».[1] А посмотришь здраво (или хотя бы немного искоса), так ведь и говорить-то не о чем: так, — сущая ерунда, пустое место, маленькая дырочка в земле... — Помнится, как-то раз (прямо в коридоре) подошёл ко мне всегда неспешный широкий человек, Александр Мнацаканян его звали..., а ещё звали его деканом теоретико-композиторского факультета ленинградской Ордена Ленина государственной Консерватории. Спустя пару месяцев, в конце февраля это было (опять 1985), уже после того, как он сам (втихую..., хотя и с недовольным лицом) принял у меня зачёт по композиции (с первой «обязательной дрянью»).[комм. 29] И вот, кое-как поздоровавшись, он как-то нежданно спрашивает у меня со своим обаятельно-мягким армянским акцентом: «Послушай, я всё забывал у тебя узнать... Как-то из головы не идёт, знаешь ли. Вот у тебя там пьески такие были для скрипки... со странными названиями: можешь ли ты объяснить, о чём там у тебя речь идёт, про Мафусаила? Что-то старое, кажется...» — «Легко объясню, Александр Дереникович, — с готовностью подхватил я в тон вопроса, — тем более, там ничего сложного. И тематика как нельзя более современная. Судите сами: «Плывущие изверги» — это американские авианосцы у берегов Ливана. «Бедный изгой» — нечеловеческие страдания палестинских беженцев в лагерях Сабра и Шатила. А «Торжество Мафусаила» — это финал. Он описывает пиррову победу: временное и крайне несправедливое торжество израильского агрессора в пределах зелёной черты 1949 года. Как видите, всё предельно корректно и идеологически выдержано в рамках актуальной политинформации»...[комм. 30] — С выражением вялой досады на лице, декан только махнул рукой и, повернувшись, пошёл дальше по коридору... «Опять ты за своё..., я же тебя серьёзно спрашивал...» — Устало и без сожаления я поглядел ему вослед. — Эх..., и как же непросто иногда бывает достигнуть драгоценного понимания. Практически, невозможно. Особенно, когда разговариваешь на разных языках. — Совсем разных..., я хотел сказать.
|
Ком’ментарии
Ис’точники
Лит’ ература ( большей частью покусанная )
См. так’ же
— Все покусанные, но желающие кое-что восполнить или исправить,
« s t y l e t & d e s i g n e t b y A n n a t’ H a r o n »
| |||||||||||||||||||||||